Текст книги "Русский мир. Чем сильна и слаба Россия"
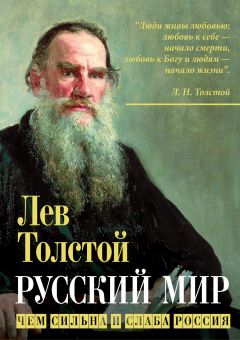
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
В чем это заблуждение, не разъясняется, а говорится только: «Входить в доказательства этого невозможно в этой статье, потому что я уже и так превзошел количество листов, предоставленных мне».
И он со спокойным духом заключает:
«Между тем, если читатель чувствует себя смущенным мыслью о том, что он обязан, как христианин, так же как и Толстой, покинуть свои привычные условия жизни и жить как простой работник, то пусть он успокоится и держится принципа: «Securus judicat ordis terrarum» [Весь мир судить легкомысленно]. За малыми исключениями, – продолжает он, – все христианство от апостольских времен и до наших дней пришло к убеждению, что цель Христа состояла в том, чтобы дать людям великий принцип, но не в том, чтобы разрушить основы учреждения всего человеческого общества, которое утверждается на Божеском установлении (sanction) и на необходимости. Если бы моей задачей было доказать, как невозможно учение коммунизма, основываемое Толстым на Божественных парадоксах (sic), которые могут быть истолковываемы только на основании исторических принципов в согласии со всеми методами учения Христа, – это потребовало бы более места, чем я имею в своем распоряжении».
Экое горе, места ему нет! И странное дело, никому вот уже 15 веков нет места доказать то, что Христос, которого мы исповедуем, говорил совсем не то, что он говорил. А доказать они могли бы, если бы захотели. Впрочем, и не стоит доказывать то, что всем известно. Довольно сказать: «Securus judicat ordis terrarum».
* * *
Таковы без исключения все критики культурных верующих людей и потому понимающих опасность своего положения. Единственный выход из него для них – надежда на то, что, пользуясь авторитетом церкви, древности, святости, можно запугать читателя, своим умом обдумать вопрос. И это удается.
Кому в самом деле придет в голову то, что все то, что с такой уверенностью и торжественностью повторяется из века в век всеми этими архидиаконами, епископами, архиепископами, святейшими синодами и папами, что все это есть гнусная ложь и клевета, взводимая ими на Христа для обеспечения денег, которые им нужны для сладкой жизни на шеях других людей, – ложь и клевета до такой степени очевидная, особенно теперь, что единственная возможность продолжать эту ложь состоит в том, чтобы запугивать людей своей уверенностью, своей бессовестностью.
Это всё то же, что происходило последние годы в воинских присутствиях: сидят за столом за зерцалом, на первых местах, под портретом во весь рост императора, старые, важные, в регалиях чиновники и свободно, развязно беседуют, записывают, приказывают и вызывают. Тут же в наперсном кресте и шелковой рясе с выпростанными седыми волосами на эпитрахилии благообразный старец священник перед аналоем, на котором лежит золотой крест с кованным в золоте Евангелием.
Вызывают Ивана Петрова. Выходит юноша, дурно, грязно одетый, испуганный, с дрожащими мускулами лица и блестящими бегающими глазами и прерывающимся голосом, шепотом почти говорит: «я… по закону… я, как христианин… я не могу…»
– Что он бормочет? – спрашивает нетерпеливо, щурясь и прислушиваясь, председатель, поднимая голову от книги.
– Говорите громче! – кричит на него полковник с блестящими погонами.
– Я… я… как христианин…
И, наконец, оказывается, что юноша отказывается от военной службы, потому что он христианин.
– Не говори вздору. Ставь в мерку. Доктор, потрудитесь смерить. Годится?
– Годится.
– Батюшка, приведите к присяге.
Никто не только не смущен, но даже не обращает внимания на то, что лопочет этот испуганный, жалкий юноша. «Они все что-нибудь лопочат, а нам некогда, надо еще стольких принять».
Рекрут что-то хочет сказать еще. «Это против закона Христа».
– Ступайте, ступайте, без вас знают, что по закону, что не по закону, а вы отправляйтесь. Батюшка, внушите ему. Следующий: Василий Никитин.
И дрожащего юношу уводят. И кому, и сторожам, и Василию Никитину, которого вводят, и всем, которые со стороны видели эту сцену, придет в голову, что те неясные короткие слова юноши, тотчас же замятые начальством, содержат в себе истину, а те громкие, торжественно произносимые речи самоуверенных, спокойных чиновников и священника суть ложь, обман.
* * *
Так относились к моей книге духовные, т. е. исповедующие веру в Христа. И иначе им нельзя было отнестись: их связывает то противоречие, в котором они находятся – веры в божественность учителя и неверия в его самые ясные слова, – из которого им надо как-нибудь выпутываться, и потому нельзя было ожидать от них свободных суждений о самой сущности вопроса, о том изменении жизни людей, которое вытекает из приложения учения Христа к существующему порядку. Такого рода суждений я ожидал от светских, вольнодумных критиков, которые ничем не связаны с учением Христа и могут свободно смотреть на него. Я ожидал, что вольнодумные писатели посмотрят на Христа не только как на установителя религии поклонения и личного спасения (как его понимают церковники), а, выражаясь их языком, и как на реформатора, разрушающего старые и дающего новые основы жизни, реформа которого не совершилась еще, а продолжается и до сих пор.
Такой взгляд на Христа и его учение вытекает из моей книги. Но, к удивлению моему, из числа в большом количестве появившихся на мою книгу критик, не было ни одной, ни русской, ни иностранной, которая трактовала бы предмет с той самой стороны, с которой он изложен в книге, т. е. которая посмотрела бы на учение Христа как на философское, нравственное и социальное (говоря опять языком научных людей) учение. Ни в одной критике этого не было.
Русские светские критики, поняв мою книгу так, что все ее содержание сводится к непротивлению злу, и поняв самое учение о непротивлении злу (вероятно, для удобства возражания) так, что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом, русские светские критики с раздражением напали на это учение и весьма успешно в продолжение нескольких лет доказывали, что учение Христа неправильно, так как оно запрещает противиться злу. Их опровержения этого мнимого учения Христа были тем более успешны, что они вперед знали, что их рассуждения не могут быть ни опровергаемы, ни исправляемы, так как цензура, не пропустив книги, не пропускала и статей в защиту ее.
Замечательно при этом то, что у нас, где нельзя сказать слова о священном писании без запрета цензуры, несколько лет во всех журналах извращалась, критиковалась, осуждалась, осмеивалась прямо и точно выраженная заповедь Христа (Мф. V, 39).
Русские светские критики, очевидно, не зная всего того, что было сделано по разработке вопроса о непротивлении злу, и даже иногда как будто предполагая, что это я лично выдумал правило непротивления злу насилием, нападали на самую мысль, опровергая, извращая ее и с большим жаром выставляя аргументы, давным-давно уже со всех сторон разобранные и опровергнутые, доказывали, что человек непременно должен (насилием) защищать всех обиженных и угнетенных и что поэтому учение о непротивлении злу насилием есть учение безнравственное.
Всем русским критикам все значение проповеди Христа представлялось только в том, что она как будто им назло мешает известной деятельности, направленной против того, что ими в данную минуту считается злом, так что выходило, что на принцип непротивления злу насилием нападали два противоположные лагеря: консерваторы потому, что этот принцип препятствовал их деятельности противления злу, производимому революционерами, их преследованиям и казням; революционеры же потому, что этот принцип препятствовал противлению злу, производимому консерваторами, и их ниспровержению. Консерваторы возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилием препятствует энергетическому подавлению революционных элементов, могущих погубить благосостояние народа; революционеры возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилием препятствует ниспровержению консерваторов, губящих благосостояние народа. Замечательно при этом то, что революционеры нападали на принцип непротивления злу насилием, несмотря на то, что он самый страшный и опасный для всякого деспотизма, так как с тех пор, как стоит мир, на противоположном принципе, необходимости противления злу насилием, основывались и основываются все насилия, от инквизиции до Шлиссельбургской крепости.
Кроме того, русские критики указывали и на то, что приложение к жизни заповеди о непротивлении злу насилием своротило бы человечество с того пути цивилизации, по которому оно идет. Путь же цивилизации, по которому идет европейское человечество, есть, по их мнению, тот самый, по которому и должно всегда идти все человечество.
Таков был главный характер русских критиков.
* * *
Иностранные критики исходили из тех же основ, но рассуждения их о моей книге несколько отличались от рассуждений русских критиков не только меньшей раздражительностью и большей культурностью, но и по существу дела.
Рассуждая о моей книге и вообще о евангельском учении, как оно выражено в нагорной проповеди, иностранные критики утверждали, что такое учение не есть собственно христианское (христианское учение, по их мнению, есть католицизм и протестантство) – учение же нагорной проповеди есть только ряд очень милых непрактических мечтаний, годных для наивных и полудиких обитателей Галилеи, живущих за 1800 лет назад, и для русских полудиких мужиков – Сютаева, Бондарева и русского мистика Толстого, но никак не приложимых к высокой степени европейской культуры.
Иностранные светские критики тонким манером, не оскорбляя меня, старались дать почувствовать, что суждения мои о том, что человечество может руководиться таким наивным учением, как нагорная проповедь, происходят отчасти от моего невежества, незнания истории, незнания всех тех тщетных попыток осуществления в жизни принципов нагорной проповеди, которые были делаемы в истории и ни к чему не привели, отчасти от непонимания всего значения той высокой культуры, на которой со своими крупповскими пушками, бездымным порохом, колонизацией Африки, управлением Ирландии, парламентом, журналистикой, стачками, конституцией и Эйфелевой башней стоит теперь европейское человечество.
Так писал Vog’ue, так писал Leroy Beanlien, так писал Матью Арнольд, так писал американский писатель Савадж и Ингерзаль, популярный американский свободомыслящий проповедник, и многие другие.
«Учение Христа не годится, потому что не соответствует нашему индустриальному веку», – наивно говорит Ингерзаль, выражая этим с совершенной точностью и наивностью то самое, что думают утонченно образованные люди нашего времени об учении Христа. Учение не годится для нашего индустриального века, точно как будто то, что существует индустриальный век, есть дело священное, которое не должно и не может быть изменено. Вроде того, как если бы пьяницы против советов о том, как им привести себя в трезвое состояние, отвечали бы, что эти советы неуместны при их алкоголическом состоянии.
Рассуждения всех светских писателей, как русских, так и иностранных, как ни различен их тон и манера доводов, все в сущности сводятся к одному и тому же странному недоразумению, именно к тому, что учение Христа, одно из последствий которого есть непротивление злу насилием, непригодно нас, потому что оно требует изменения нашей жизни.
Учение Христа не годно, потому что, если бы оно было исполнено, не могла бы продолжаться наша жизнь; другими словами: если бы мы начали жить хорошо, как нас учил Христос, мы не могли бы продолжать жить дурно, как мы живем и привыкли жить. Вопрос же о непротивлении злу насилием не только не обсуждается, но самое упоминание о том, что в учение Христа входит требование непротивления злу насилием, уже считается достаточным доказательством неприложимости всего учения.
А между тем, казалось бы, необходимо указать хоть на какое-нибудь решение этого вопроса, так как он стоит в основе почти всех дел, которые занимают нас.
Вопрос ведь состоит в том: каким образом разрешать столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот? И потому считать, что зло есть то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром, не есть ответ. Ответов может быть только два: или тот, чтобы найти верный и неоспоримый критериум того, что есть зло, или тот, чтобы не противиться злу насилием.
Первый выход был пробован с начала исторических времен и, как мы все знаем, не привел до сих пор к успешным результатам.
Второй ответ – не противиться насилием тому, что мы считаем злом, до тех пор, пока мы не нашли общего критериума, – этот ответ предложен Христом.
Можно находить, что ответ, данный Христом, неправилен; можно выставить на место его другой, лучший, найдя такой критериум, который для всех несомненно и одновременно определял бы зло; можно просто не сознавать сущности вопроса, как не сознают этого дикие народы, но нельзя, как это делают ученые критики христианского учения, делать вид, что вопроса никакого вовсе и не существует или что признание за известными лицами или собраниями людей (тем менее, когда эти люди мы сами) права определять зло и противиться ему насилием разрешает вопрос; тогда как мы все знаем, что такое признание нисколько не разрешает вопроса, так как всегда есть люди, не признающие за известными людьми или собраниями этого права.
А это-то признание того, что то, что нам кажется злом, то и есть зло, или совершенное непонимание вопроса, и служит основой суждений светских критиков о христианском учении, так что суждения о моей книге, как церковных, так и светских критиков, показали мне то, что большинство людей прямо не понимают не только самого учения Христа, но даже и тех вопросов, на которые оно служит ответом.
* * *
Так что сведения, полученные мною после выхода моей книги о том, как не переставая понималось и понимается меньшинством людей христианское учение в его прямом и истинном смысле, так и критики на нее, и церковные и светские, отрицающие возможность понимать учение Христа в прямом смысле, убедили меня в том, что тогда как, с одной стороны, никогда для меньшинства не прекращалось, но все яснее и яснее становилось истинное понимание этого учения, так, с другой стороны, для большинства смысл его все более и более затемнялся, дойдя, наконец, до той степени затемнения, что люди прямо уже не понимают самых простых положений, самыми простыми словами выраженных в Евангелии.
Непонимание учения Христа в его истинном, простом и прямом смысле в наше время, когда свет этого учения проник уже все самые темные углы сознания людского; когда, как говорил Христос, теперь уже с крыш кричат то, что он говорил на ухо; когда учение это проникает все стороны человеческой жизни: и семейную, и экономическую, и гражданскую, и государственную, и международную, – непонимание это было бы необъяснимо, если бы непониманию этому не было причин.
Одна из этих причин это та, что как верующие, так и неверующие твердо убеждены, что учение Христа понято ими давно и так полно, несомненно и окончательно, что никакого другого значения, кроме того, которое они придают ему, и не может быть в нем. Причина этого состоит в продолжительности предания ложного понимания и потому непонимания его.
Самая сильная струя воды не может прибавить ни капли жидкости в сосуд, который полон.
Можно самому непонятливому человеку объяснить самые мудреные вещи, если он не составил себе о них еще никакого понятия; но самому понятливому человеку нельзя объяснить самой простой вещи, если он твердо убежден, что знает, да еще несомненно знает то, что передается ему.
Христианское учение представляется людям нашего мира именно таким давно и несомненно каждому до всех своих мельчайших подробностей известным учением, которое не может быть понимаемо иначе, как так, как оно понято.
Христианство понимается теперь исповедующими церковные учения как сверхъестественное, чудесное откровение обо всем том, что сказано в символе веры; неверующими же, – как пережитое человечеством проявление его потребности веры в сверхъестественное; как историческое явление, вполне выразившееся в католичестве, православии, протестантстве и не имеющее уже для нас никакого жизненного значения. Для верующих значение учения скрывается церковью, для неверующих – наукою.
Скажу сперва о первых.
1800 лет тому назад среди языческого римского мира явилось, странное, не похожее ни на какое из прежних, новое учение, приписывавшееся человеку Христу.
Новое учение это было совершенно новое как по форме, так и по содержанию, и для еврейского мира, среди которого оно возникло, и в особенности для того римского мира, среди которого оно проповедовалось и распространялось.
Среди разработанности религиозных правил еврейства, где, по словам Исаии, было правило на правиле, и среди римского, выработанного до великой степени совершенства, законодательства явилось учение, отрицавшее не только всякие божества, – всякий страх перед ними, всякие, гадания и веру в них, – но и всякие человеческие учреждения и всякую необходимость в них.
Вместо всяких правил прежних исповеданий, учение это выставляло только образец внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми, – внешнего совершенства, предсказанного пророками, – Царства Божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягненком.
Вместо угроз наказания за неисполнение правил, которые выставлялись прежними законами, как религиозными, так и государственными, вместо приманки наград за исполнение их, учение это призывало к себе только тем, что оно истина. «Кто хочет узнать об этом учении – от Бога ли оно, пусть исполняет его» (Иоан. VII, 17). «Если я говорю истину, почему не верите мне? Зачем ищете убить человека, сказавшего вам истину? Только истина освободит вас. Исповедовать Бога надо только в истине. Всё учение откроется и уяснится духом истины. Делайте то, что я говорю, и узнаете, правда ли то, что я говорю» (Иоан. VIII).
Доказательств учения не выставлялось никаких, кроме истины, кроме соответствия учения с истиной. Всё учение состояло в познании истины и следовании ей, в большем и большем постигновении истины и большем и большем приближении к ней в делах жизни.
Нет по этому учению поступков, которые бы могли оправдать человека, сделать его праведным, есть только влекущий к себе сердца образец истины для внутреннего совершенства в лице Христа, а для внешнего – в осуществлении Царства Божия. Исполнение учения – только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему – подражания Христу, и внешнему – установления Царства Божия. Большее или меньшее благо человека зависит по этому учению не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения.
Движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте по этому учению большее благо, чем неподвижная праведность фарисея. Заблудшая овца дороже 99-ти незаблудших. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже, любимее Богом тех, которые не пропадали.
Всякое состояние по этому учению есть только известная степень на пути к недостижимому внутреннему и внешнему совершенству и потому не имеет значения. Благо только в движении к совершенству, остановка же на каком бы то ни было состоянии есть прекращение блага.
«Пусть левая не знает, что делает правая», а «не надежен для Царства Божия работник, взявшийся за плуг к оглядывающийся назад». «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а ищите того, что имена ваши были написаны на небесах». «Будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный». «Ищите Царствия Божия и правды его».
Исполнение учения только в безостановочном движении – в постигновении всё высшей и высшей истины, и всё в большем и большем осуществлении ее в себе всё большей и большей любовью, а вне себя всё большим и большим осуществлением Царства Божия.
* * *
Очевидно, что явившееся среди еврейского и языческого мира учение это не могло быть принято большинством людей, живших совершенно иною жизнью, чем та, которой требовало это учение; и что даже теми, которыми оно было принято, оно, как совершенно противоположное всем прежним взглядам, не могло быть понято во всем его значении.
Только рядом недоразумений, ошибок, односторонних разъяснений, исправляемых и дополняемых поколениями людей, смысл христианского учения всё более и более уяснялся людям. Совершалось воздействие христианского миросозерцания на еврейское и языческое и языческого и еврейского на христианское. И христианское, как живое, всё более и более проникало отживающее еврейское и языческое и выступало всё яснее и яснее, освобождаясь от накладываемых на него ложных примесей. Люди всё дальше и дальше постигали смысл христианства и более и более осуществляли его в жизни.
Чем дальше жило человечество, тем более и более уяснялся ему смысл христианства, как это не могло и не может быть иначе со всяким учением о жизни. Последующие поколения исправляли ошибки предшественников и всё более и более приближались к пониманию истинного его смысла.
Так это было с самых первых времен христианства. И вот тут-то, с самых первых времен его, появились люди, начавшие утверждать про себя, что тот смысл, который они придают учению, есть единый истинный и что доказательством этого служат сверхъестественные явления, подтверждающие справедливость их понимания.
Это-то и было главной причиной сначала непонимания учения, а потом и полного извращения учения.
Предполагалось, что учение Христа передается людям не как всякая другая истина, а особенным, сверхъестественным способом, так что истинность понимания учения доказывается не соответственностью передаваемого с требованиями разума и всей природы человека, а чудесностью передачи, служащей непререкаемым доказательством истинности понимания. Возникло это предположение из непонимания, и последствием его была невозможность понимания.
Началось это с самых первых времен, когда так неполно еще и часто превратно понималось учение, как мы видим это по Евангелиям и Деяниям.
Чем менее было понято учение, тем оно представлялось темнее и тем нужнее были внешние доказательства его истинности.
Положение о том, чтобы не делать другим того, что не хочешь, чтобы тебе делали, не нужно было доказывать чудесами, и положению этому не нужно было требовать веры, потому что положение это само по себе убедительно, соответствуя и разуму и природе человека; но положение о том, что Христос был Бог, надо было доказывать чудесами совершенно непонятными.
Чем было темнее понимание учения Христа, тем более примешивалось к нему чудесного; а чем более примешивалось чудесного, тем более учение отклонялось от своего смысла и становилось темнее, тем сильнее надо было утверждать свою непогрешимость и тем менее учение становилось понятно.
С самых первых времен по Евангелиям, Деяниям, Посланиям можно видеть, каким образом непонимание учения вызывало необходимость доказательств через чудесное и непонятное.
* * *
Началось это, по книге Деяний, с того собрания, на котором сошлись ученики в Иерусалиме для разрешения возникшего вопроса о крещении или некрещении необрезанных и о едящих идоложертвенное.
Самая постановка вопроса показывала, что обсуждавшие его не понимали учения Христа, отвергающего все внешние обряды: омовения, очищения, посты, субботы. Прямо сказано: «сквернит не то, что в уста входит, а то, что исходит из сердца», и потому вопрос о крещении необрезанных мог возникнуть только среди людей, любивших учителя, смутно чуявших величие его учения, но еще очень неясно понимавших самое учение. Так оно и было.
Насколько члены собрания не понимали учения, настолько понадобилось им внешнее подтверждение своего неполного понимания. И вот для решения вопроса были произнесены на этом собрании, как это описывает книга Деяний, в первый раз долженствовавшие внешним образом утвердить справедливость известных утверждений, эти страшные, наделавшие столько зла, слова: «угодно святому духу и нам», т. е. утверждалось, что справедливость того, что они постановили, засвидетельствовали чудесным участием в этом решении святого духа, т. е. Бога.
Но утверждение о том, что святой дух, т. е. Бог, говорил через апостолов, опять надо было доказать. И вот понадобилось для этого утверждать то, что в пятидесятницу святой дух в виде огненных языков сошел на тех, которые утверждали это. (В описании сошествие св. духа предшествует собору, но написаны Деяния много после того и другого.) Но и сошествие святого духа надо было подтвердить для тех, которые не видали огненных языков (хотя и непонятно, почему огненный язык, зажегшийся над головой человека, показывает, что то, что будет говорить этот человек, – несомненная правда), и понадобились еще чудеса и исцеления, воскресения, умерщвления и все те соблазнительные чудеса, которыми наполнены Деяния и которые не только никогда не могут убедить в истинности христианского учения, но могут только оттолкнуть от него.
Последствия такого способа утверждения истины были те, что чем более нагромождались одно за другим эти подтверждения истинности рассказами о чудесах, тем более отклонялось самое учение от своего первоначального смысла и тем непонятнее становилось оно.
Так это было с первых времен и так это шло, постоянно усиливаясь, логически дойдя в наше время до догматов пресуществления и непогрешимости папы или епископов, или писаний, т. е., совершенно непонятного, дошедшего до бессмыслицы и до требований слепой веры не Богу, не Христу, не учению даже, а лицу, как в католичестве, или лицам, как в православии, или – веры книжке, как в протестантстве. Чем шире распространялось христианство и чем большую оно захватывало толпу неподготовленных людей, тем менее оно понималось, тем решительнее утверждалась непогрешимость понимания и тем менее становилась возможность понять истинный смысл учения.
Уже ко времени Константина всё понимание учения свелось к резюме, утвержденным светской властью, – резюме споров, происходивших на соборе, – к символу веры, в котором значится: верую в то-то, то-то и то-то и под конец – в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. в непогрешимость тех лиц, которые называют себя церковью, так что всё свелось к тому, что человек верит уже не Богу, не Христу, как они открылись ему, а тому, чему велит верить церковь. Но церковь свята, церковь основана Христом. Не мог Бог предоставить людям толковать свое учение произвольно, и потому он установил церковь.
* * *
Все эти положения до такой степени несправедливы и голословны, что совестно опровергать их. Нигде, ни по чему, кроме как по утверждению церквей, не видно, чтобы Бог или Христос основывали что-либо подобное тому, что церковники разумеют под церковью. В Евангелии есть указание, против церкви как внешнего авторитета, самое очевидное и ясное, в том месте, где говорится, чтобы ученики Христа никого не называли учителями и отцами. Но нигде ничего не сказано об установлении того, что церковники называют церковью.
В Евангелиях два раза употреблено слово «церковь». Один раз в смысле собрания людей, разрешающего спор; другой раз в связи с темными словами о камне – Петре и вратах ада. Из этих двух упоминаний слова «церковь», имеющего значение только собрания, выводится то, что мы теперь разумеем под словом «церковь».
Но Христос никак не мог основать церковь, т. е. то, что мы теперь понимаем под этим словом, потому что ничего подобного понятию церкви такой, какую знаем теперь с таинствами, иерархией и, главное, со своим утверждением непогрешимости, не было ни в словах Христа, ни в понятиях людей того времени.
То, что люди назвали то, что сложилось потом, тем же словом, которое Христос употреблял о чем-то другом, никак не дает им права утверждать того, что Христос основал единую истинную церковь.
Кроме того, если бы Христос действительно установил такое учреждение, как церковь, на котором основано всё учение и вся вера, то он, вероятно бы, высказал это установление так определенно и ясно и придал бы единой истинной церкви, кроме рассказов о чудесах, употребляемых при всяких суевериях, такие признаки, при которых не могло бы быть никакого сомнения в ее истинности; но ничего подобного нет, а как были, так и есть теперь различные учреждения, называющие себя каждое единою истинною церковью.
Католический катехизис говорит: «Церковь есть общество верующих, основанное господом нашим Иисусом Христом, распространенное по всей земле и подчиненное власти законных пастырей и святого нашего отца – папы», подразумевая под pasteurs legitimes человеческое учреждение, имеющее во главе своей папу и составленное из известных, связанных между собой известной организацией лиц.
Православный катехизис говорит: «Церковь есть основанное Иисусом Христом на земле общество, соединенное между собою в одно целое одним божественным учением и таинствами под управлением и руководством богоустановленной иерархии», разумея под богоустановленной иерархией именно греческую иерархию, составленную из известных таких-то лиц, находящихся в таких-то и таких-то местах.
Лютеранский катехизис говорит: «Церковь есть святое христианство; или собрание всех верующих под Христом, главою их, в котором св. дух через Евангелие и таинства предлагает, сообщает, усваивает Божеское спасение», подразумевая то, что католическая церковь заблудшая и отпавшая и что истинное предание хранится в лютеранстве.
Для католиков божественная церковь совпадает с римской иерархией и папой. Для православных божественная церковь совпадает с учреждением восточной и русской иерархии. Для лютеран божественная церковь совпадает с собранием людей, признающих Библию и катехизис Лютера.
* * *
Обыкновенно, говоря о происхождении христианства, люди, принадлежащие к одной из существующих церквей, употребляют слово «церковь» в единственном числе, как будто церковь была и есть только одна. Но это совершенно несправедливо. Церковь, как учреждение, утверждающее про себя, что она обладает несомненной истиной, явилась только тогда, когда она была не одна, а было их по крайней мере две.
Пока верующие были согласны между собою, и собрание было одно, ему незачем было утверждать себя церковью. Только тогда, когда верующие разделились на противоположные, отрицающие друг друга партии, явилась потребность каждой стороны утверждать свою истинность, приписывая себе непогрешимость. Понятие единой церкви возникло только из того, что, при разногласии в споре двух сторон, каждая, называя другую сторону ересью, признавала только свою сторону непогрешимою церковью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































