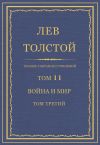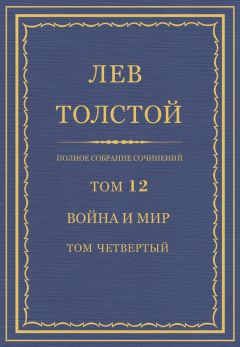
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
Когда Пьер с женою пришли в гостиную, графиня находилась в привычном состоянии потребности занять себя умственною работой гран-пасьянса и потому, несмотря на то, что она по привычке сказала слова, всегда говоримые ею по возвращении Пьера или сына: «пора, пора, мой милый; заждались. Ну, слава Богу». И при передаче ей подарков – сказала другие привычные слова: «Не дорог подарок, дружок, спасибо, что меня старуху даришь…» видимо было, что приход Пьера был ей неприятен в эту минуту потому, что отвлекал ее от недоложенного гран-пасьянса. Она окончила пасьянс и тогда только принялась за подарки. Подарки состояли из прекрасной работы футляра для карт, севрской ярко-синей чашки с крышкой и с изображениями пастушек, и из золотой табакерки с портретом графа, который Пьер заказывал в Петербурге миниатюристу. (Графиня давно желала этого.) Ей не хотелось теперь плакать, и потому она равнодушно посмотрела на портрет и занялась больше футляром.
– Благодарствуй, мой друг, ты утешил меня, – сказала она, как всегда говорила. – Но лучше всего, что сам себя привез. А то это ни на чтò не похоже; хоть бы ты побранил свою жену. Чтò это? Как сумашедшая без тебя. Ничего не видит, не помнит, – говорила она привычные слова. – Посмотри, Анна Тимофеевна, прибавила она, – какой сынок футляр нам привез.
Белова хвалила подарки и восхищалась своею материей.
Хотя Пьеру, Наташе, Николаю, графине Марье и Денисову многое нужно было переговорить такого, чтò не говорилось при графине, не потому, чтобы что-нибудь скрывалось от нее, но потому, что она так отстала от многого, что, начав говорить про что-нибудь при ней, надо бы было отвечать на ее вопросы, некстати вставляемые, и повторять вновь уже несколько раз повторенное ей: рассказывать, что тот умер, тот женился, чего она не могла вновь запомнить; но они по обычаю сидели за чаем в гостиной у самовара и Пьер отвечал на вопросы графини, ей самой ненужные и никого не интересующие, о том, что князь Василий постарел и что графиня Марья Алексеевна велела кланяться и помнить и т. д…
Такой разговор, никому неинтересный, но необходимый, велся во всё время чая. За чай вокруг круглого стола у самовара, у которого сидела Соня, собирались все взрослые члены семейства. Дети, гувернеры и гувернантки уже отпили чай и голоса их слышались в соседней диванной. За чаем все сидели на обычных местах; Николай садился у печки за маленьким столиком, к которому ему подавали чай. Старая с совершенно седым лицом, из которого еще резче выкатывались большие, черные глаза, борзая Милка, дочь первой Милки, лежала на кресле подле него. Денисов с поседевшими наполовину курчавыми волосами, усами и бакенбардами, в расстегнутом генеральском сюртуке сидел подле графини Марьи. Пьер сидел между женою и старою графиней. Он рассказывал то, чтò – он знал, – могло интересовать старушку и быть понятным ей. Он говорил о внешних, общественных событиях и о тех людях, которые когда-то составляли кружок сверстников старой графини, которые когда-то были действительным, живым отдельным кружком, но которые теперь, бòльшею частью разбросанные по миру, так же как она, доживали свой век, собирая остальные колосья того, чтò они посеяли в жизни. Но они-то, эти сверстники, казались старой графине исключительно серьезным и настоящим миром. По оживлению Пьера Наташа видела, что поездка его была интересна, что ему многое хотелось рассказать, но он не смел говорить при графине. Денисов, не будучи членом семьи, поэтому не понимая осторожности Пьера, кроме того, как недовольный, весьма интересовался тем, чтò делалось в Петербурге, и беспрестанно вызывал Пьера на рассказы то о только что случившейся истории в Семеновском полку, то об Аракчееве, то о Библейском обществе. Пьер иногда увлекался и начинал рассказывать, но Николай и Наташа всякий раз возвращали его к здоровью князя Ивана и графини Марьи Антоновны.
– Ну чтò же, всё это безумие, и Госнер и Татаринова, – спросил Денисов, – неужели все продолжается?
– Как продолжается? – вскрикнул Пьер, сильнее, чем когда-нибудь. – Библейское общество, это теперь всё правительство.
– Это чтò же, mon cher ami?[140]140
[любезный друг?]
[Закрыть] – спросила графиня, отпившая свой чай и видимо желая найти предлог для того, чтобы посердиться после пищи. – Как же это ты говоришь: правительство; я это не пойму.
– Да, знаете, maman, – вмешался Николай, знавший, как надо было переводить на язык матери, – это князь Александр Николаевич Голицын устроил общество, так он в большой силе, говорят.
– Аракчеев и Голицын, – неосторожно сказал Пьер, – это теперь всё правительство. И какое! Во всем видят заговоры, всего боятся.
– Чтò ж, князь Александр Николаевич-то чем же виноват? Он очень почтенный человек. Я встречала его тогда у Марьи Антоновны, – обиженно сказала графиня, и еще больше обиженная тем, что все замолчали, продолжала: – нынче всех судить стали. Евангелическое общество, ну чтò ж дурного? – и она встала (все встали тоже) и с строгим видом поплыла в диванную к своему столу.
Среди установившегося грустного молчания из соседней комнаты послышались детские смех и голоса. Очевидно, между детьми происходило какое-то радостное волнение.
– Готово, готово! – послышался из-за всех радостный вопль маленькой Наташи. Пьер переглянулся с графиней Марьей и Николаем (Наташу он всегда видел) и счастливо улыбнулся.
– Вот музыка-то чудная! – сказал он.
– Это Анна Макаровна чулок кончила, – сказала графиня Марья.
– О, пойду смотреть, – вскакивая сказал Пьер. – Ты знаешь, сказал он, останавливаясь у двери: отчего я особенно люблю эту музыку – они мне первые дают знать, что всё хорошо. Нынче еду: чем ближе к дому, тем больше страх. Как вошел в переднюю, слышу заливается Андрюша о чем-то, ну, значит, всё хорошо…
– Знаю, знаю я это чувство, – подтвердил Николай. – Мне итти нельзя, ведь чулки – сюрприз мне.
Пьер вошел к детям, и хохот и крики еще более усилились. – Ну, Анна Макаровна, – слышался голос Пьера; – вот сюда на середину и по команде – раз, два, и когда я скажу три. Ты сюда становись. Тебя на руки. Ну, раз, два… – проговорил голос Пьера; сделалось молчание. – Три! – и восторженный стон детских голосов поднялся в комнате.
– Два, два! – кричали дети.
Это были два чулка, которые по одному ей известному секрету Анна Макаровна сразу вязала на спицах, и которые она всегда торжественно при детях вынимала один из другого, когда чулок был довязан.
Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шопотом приглашал своего воспитанника итти вниз.
– Non, m-г Dessales, je demanderai à ma tante de rester,[141]141
Нет, мосье Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться,
[Закрыть] отвечал также шопотом Николинька Болконский.
– Ma tante, позвольте мне остаться, – сказал Николинька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.
– Когда вы тут, он оторваться не может,… – сказала она ему.
– Je vous le ramènerai tont-à-l’heure, m-r Dessales; bonsoir,[142]142
Я сейчас приведу вам его мосье Десаль; покойной ночи,
[Закрыть] – сказал Пьер, подавая швейцарцу руку и, улыбаясь, обратился к Николиньке. – Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится, – прибавил он обращаясь к графине Марье.
– На отца? – сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными, блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве; Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый, болезненный мальчик, с своими блестящими глазами, сидел никем незамечаемый в уголку, и только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо испытывая какое-то новое и сильное чувство.
Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера.
– Прежде немцем надо было быть, теперь надо плясать с Татариновой и m-me Крюднер, читать… Экарстгаузена и братию. Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапарта. Он бы всю дурь повыбил. Ну на чтò похоже солдату Шварцу дать Семеновский полк? – кричал он.
Николай, хотя без того желания находить всё дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А. назначен министром того-то, а что Б. генерал-губернатором туда-то, и что государь сказал то-то, а министр то-то, что всё это дела очень значительные. И он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших, правительственных сфер.
Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург советоваться с новым другом своим князем Федором, и она помогла ему вопросом: чтò же его дело с князем Федором?
– О чем это? – спросил Николай.
– Всё о том же и о том же, – сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. – Все видят, что делà идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.
– Чтò ж честные люди могут сделать? – слегка нахмурившись, сказал Николай – чтò же можно сделать?
– А вот чтò…
– Пойдемте в кабинет, – сказал Николай.
Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николинька Болконский, незамеченный дядей, пришел туда же и сел в тени, к окну, у письменного стола.
– Ну чтò ж ты сделаешь? – сказал Денисов.
– Вечно фантазии, – сказал Николай.
– Вот чтò, – начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как говорил. – Вот чтò. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во чтò не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди sans foi ni loi,[143]143
без совести и чести,
[Закрыть] которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев, и tutti quanti…[144]144
[и тому подобные…]
[Закрыть] Ты согласен, что ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели, – обратился он к Николаю.
– Ну, да к чему ты это говоришь? – сказал Николай.
– Ну, и всё гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, – мучат народ; просвещение душат. Чтò молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так итти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет, – говорил Пьер (как всегда, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, говорят люди с тех пор, как существует правительство). – Я одно говорил им в Петербурге.
– Кому? – спросил Денисов.
– Ну, вы знаете кому, – сказал Пьер значительно взглядывая исподлобья: князю Федору и им всем. – Соревновать просвещению и благотворительности, всё это хорошо, разумеется. Цель прекрасная и всё; но в настоящих обстоятельствах надо другое.
В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.
– Зачем ты здесь?
– Отчего? Оставь его, – сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: – этого мало, я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Всё молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю: расширьте круг общества: Mot d’ordre[145]145
Лозунг
[Закрыть] пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.
Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и всё больше и больше хмурился.
– Да с какою же целью деятельность? – вскрикнул он. – И в какие отношения станете вы к правительству?
– Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей, и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, – мы только для этого беремся рука с рукой, с одною целью общего блага и общей безопасности.
– Да; но тайное общество, следовательно враждебное и вредное, которое может породить только зло.
– Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд – это союз добродетели: это любовь, взаимная помощь; это то, чтò на кресте проповедывал Христос…
Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, чтò он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что всё это было чрезвычайно просто, и что она всё это давно знала (ей казалось это потому, что она знала всё то, из чего это выходило – всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру.
Еще более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик, с тонкою шеей, выходившею из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце и он нервным движением пальцев ломал, сам не замечая этого, – попадавшиеся ему в руки сургучи и перья на столе дяди.
– Совсем не то, чтò ты думаешь, а вот чтò такое было немецкий тугендбунд, и тот, который я предлагаю.
– Ну, брат, это колбасникам хорошо тугендбунд, а я этого не понимаю, да и не выговорю, – послышался громкий, решительный голос Денисова. – Всё скверно и мерзко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нравится – так бунт, вот это так! Je suis vot’e homme![146]146
Тогда я ваш!
[Закрыть]
Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное и, так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.
– Я вот чтò тебе скажу, – проговорил он, вставая и нервными движениями уставляя в угол трубку и наконец бросив ее. – Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший друг мой, ты это знаешь, но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев итти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь.
После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая.
Когда все поднялись к ужину, Николинька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.
– Дядя Пьер… вы… нет… Ежели бы папа был жив… он бы согласен был с вами? – спросил он.
Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время разговора и, вспомнив всё, чтò он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.
– Я думаю, что да, – сказал он неохотно, – и вышел из кабинета.
Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил, чтò он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю.
– Дядя, извини меня, это я сделал – нечаянно, – сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья.
Николай сердито вздрогнул.
– Хорошо, хорошо, – сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И видимо, с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него.
– Тебе тут и быть вовсе не следовало, – сказал он.
За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а напротив затеялся самый приятный для Николая о воспоминаниях 12-го года, на который вызвал Денисов, и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях.
Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом: она что-то писала.
– Чтò ты пишешь, Мари? – спросил Николай. Графиня Марья покраснела. Она боялась, что то, чтò она писала, не будет понято и одобрено мужем.
Она бы желала скрыть от него то, чтò она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему.
– Это дневник, Nicolas, – сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым, крупным почерком.
– Дневник?.. – с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки тетрадку. Было написано по-французски:
«4-го декабря. Нынче Андрюша (старший сын), проснувшись, не хотел одеваться, и m-lle Louise прислала за мной. Он был в капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его и стала с няней поднимать других детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивляясь; потом в одной рубашке выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго не могла его успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня; потом, когда я вечером дала ему билетец, он опять жалостно расплакался, целуя меня. С ним всё можно сделать нежностью».
– Чтò такое билетец? – спросил Николай.
– Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя.
Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось всё то из детской жизни, чтò для матери казалось замечательным, выражая характер детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были бòльшею частью самые ничтожные мелочи; но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.
5-го декабря было написано:
«Митя шалил за столом. Папа не велел ему давать пирожного. Ему не дали; но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели. Я думаю, что наказывать, не давая сласти, – только развивает жадность. Сказать Nicolas».
Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно (одобрял или не одобрял он дневник?) смотрели на него. Не могло быть сомнения не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своею женой.
«Может быть это не нужно было делать так педантически, может быть и вовсе не нужно», думал Николай; но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей – восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главным основанием его твердой, нежной и гордой любви к жене было всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным Николаю возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена.
Он гордился тем, что она так умна, и хорошо сознавал свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своею душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого.
– Очень и очень одобряю, мой друг, – сказал он, с значительным видом. И, помолчав немного, он прибавил: – а я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете. Мы заспорили с Пьером, и я погорячился. Да невозможно. Это такой ребенок. Я не знаю, чтò бы с ним было, ежели бы Наташа не держала его под уздцы. Можешь себе представить, зачем ездил в Петербург?.. Они там устроили…
– Да, я знаю, – сказала графиня Марья. – Мне Наташа рассказала.
– Ну так ты знаешь, – горячась при одном воспоминании о споре продолжал Николай, – он хочет меня уверить, что обязанность всякого честного человека состоит в том, чтоб итти против правительства, тогда как присяга и долг… Я жалею, что тебя не было. А то на меня все напали, и Денисов и Наташа… Наташа уморительна. Ведь как она его под башмаком держит, а чуть дело до рассуждений – у ней своих слов нет – она так его словами и говорит, – прибавил Николай, поддаваясь тому непреодолимому стремлению, которое вызывает на суждение о людях самых дорогих и близких. Николай забывал, что слово в слово то же, что он говорил о Наташе, можно было сказать о нем в отношении его жены.
– Да, я это замечала, – сказала графиня Марья.
– Когда я ему сказал, что долг и присяга выше всего, он стал доказывать Бог знает чтò. Жаль что тебя не было; чтò бы ты сказала?
– По моему, ты совершенно прав. Я так и сказала Наташе. Пьер говорит, что все страдают, мучатся, развращаются, и что наш долг помочь ближним. Разумеется, он прав, – говорила графиня Марья; – но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми.
– Ну вот, вот, это самое я и говорил ему, – подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил это самое. – А они свое, что любовь к ближнему и христианство, и всё это при Николиньке, который тут забрался в кабинет и переломал всё.
– Ах знаешь ли, Nicolas, Николинька так часто меня мучит, – сказала графиня Марья. – Это такой необыкновенный мальчик. И я боюсь, что я забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня; а у него никого нет. Он вечно один с своими мыслями.
– Ну уж, кажется, тебе себя упрекать за него нечего. Всё, чтò может сделать самая нежная мать для своего сына, ты делала и делаешь для него. И я, разумеется, рад этому. Он славный, славный мальчик. Нынче он в каком-то беспамятстве слушал Пьера. И можешь себе представить: мы выходим к ужину; я смотрю, он изломал вдребезги у меня всё на столе, и сейчас же сказал. Я никогда не видал, чтоб он сказал неправду. Славный, славный мальчик! – повторил Николай, которому по душе не нравился Николинька, но которого ему всегда бы хотелось признавать славным.
– Всё не то, что мать, – сказала графиня Марья, – я чувствую, что не то, и меня это мучит. Чудесный мальчик; но я ужасно боюсь за него. Ему полезно будет общество.
– Чтò ж, ненадолго; нынче летом я отвезу его в Петербург, – сказал Николай.
– Да, Пьер всегда был и останется мечтателем, – продолжал он, возвращаясь к разговору в кабинете, который видимо взволновал его. – Ну какое дело мне до всего этого там, – что Аракчеев нехорош и всё, – какое мне до этого дело было, когда я женился и у меня долгов столько, что меня в яму сажают, и мать, которая этого не может видеть и понимать. А потом ты, дети, дела. Разве я для своего удовольствия с утра до вечера по делам и в конторе? Нет, я знаю, что я должен работать, чтоб успокоить мать, отплатить тебе, и детей не оставить такими нищими, каким я был.
Графине Марье хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам; но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его руку и поцеловала. Он принял этот жест жены за одобрение и подтверждение своих мыслей, и подумав несколько времени молча, вслух продолжал свои мысли.
– Ты знаешь, Мари, – сказал он, – нынче приехал Илья Митрофаныч (это был управляющий делами) из Тамбовской деревни и рассказывает, что за лес уже дают 80 тысяч. – И Николай с оживленным лицом стал рассказывать о возможности в весьма скором времени выкупить Отрадное. – Еще десять годков жизни, и я оставлю детям… в отличном положении.
Графиня Марья слушала мужа и понимала всё, чтò он говорил ей. Она знала, что когда он так думал вслух, он иногда спрашивал ее, чтò он сказал и сердился, когда замечал, что она думала о другом. Но она делала для этого большие усилия, потому что ее нисколько не интересовало то, чтò он говорил. Она сморела на него и не то – что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, чтò она понимает, и как бы от этого она еще сильнее, с оттенком страстной нежности, любила его. Кроме этого чувства, поглощавшего ее всю и мешавшего ей вникать в подробности планов мужа, в голове ее мелькали мысли, не имеющие ничего общего с тем, чтò он говорил. Она думала о племяннике (рассказ мужа о его волнении при разговоре Пьера сильно поразил ее), и различные черты его нежного, чувствительного характера представлялись ей; и она, думая о племяннике, думала и о своих детях. Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним, и с грустью находила, что в чувстве ее к Николиньке чего-то не доставало.
Иногда ей приходила мысль, что различие это происходит от возраста; но она чувствовала, что была виновата перед ним и в душе своей обещала себе исправиться и сделать невозможное – т. е. в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николиньку и всех ближних так, как Христос любил человечество. Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному, и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее.
«Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо», подумал он и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.