Текст книги "Туда и обратно"
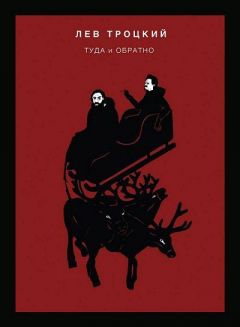
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Несколько раз я просыпался в тревоге, но кругом стояла тьма. В начале пятого, когда часть неба просветлела, я пробрался в чум, ощупал среди других тел Никифора и растормошил его. Он поднял на ноги весь чум. Очевидно, лесная жизнь в морозные зимы не проходит этим людям даром: проснувшись, они так долго кашляли, отхаркивались и плевали на пол, что я не выдержал этой сцены и выбрался на свежий воздух. У входа в чум мальчик лет десяти лил изо рта воду на грязные руки и затем размазывал её по грязному лицу; окончив эту операцию, он старательно вытерся пучком древесных стружек.
Вскоре безносый работник и младший сын с рассечённой губой ушли на лыжах с собаками сгонять оленей к чуму. Но прошло добрых полчаса, прежде чем из лесу появилась первая группа оленей.
– Должно быть, пошевелили, – объяснил мне Никифор, – теперь всё стадо скоро здесь будет.
Но оказалось не так. Только часа через два собралось довольно много оленей. Они тихо бродили вокруг чума, рыли мордами снег, собирались в группы, ложились. Солнце уже поднялось над лесом и освещало снежную поляну, на которой стоит чум. Силуэты оленей, больших и малых, тёмных и белых, с рогами и без рогов, резко вырисовываются на фоне снега. Удивительная картина, которая кажется фантастической и которой никогда не забудешь. Оленей охраняют собаки. Маленькое лохматое животное набрасывается на группу оленей голов в пятьдесят, как только те отдалятся от чума, – и олени в бешеном страхе мчатся назад, на поляну.
Но даже эта картина не могла прогнать мысли о потерянном времени. День открытия Государственной Думы – двадцатое февраля – был для меня несчастным днем. Я дожидаюсь полного сбора оленей в лихорадочном нетерпении. Сейчас уже десятый час, а стадо далеко ещё не согнано. Потеряли здесь сутки: теперь уже ясно, что раньше 11–12 ч. выехать не удастся, да до Оурви отсюда ещё вёрст 20–30 по плохой дороге!.. При неблагоприятной комбинации обстоятельств меня могут сегодня нагнать. Если допустить, что на другой же день полиция хватилась, и от кого-либо из бесчисленных собутыльников Никифора узнала, по какому пути он поехал, она могла ещё 19-гo в ночь нарядить погоню. Мы едва отъехали 300 вёрст. Такое расстояние можно сделать за сутки-полтора. Следовательно, мы как раз дали неприятелю достаточно времени, чтоб догнать нас. Эта задержка может стать роковой.
Я начинаю придираться к Никифору. Ведь я говорил вчера, что нужно немедленно съездить за стариком, а не ждать. Можно было ему накинуть несколько лишних рублей, только бы выехать с вечера. Конечно, если б я сам говорил по-остяцки, я бы всё это устроил. Но потому-то я и еду с Никифором, что не говорю по-остяцки… и т. д.
Никифор угрюмо смотрит мимо меня.
– Что ж ты с ними поделаешь, когда не хотят? И олень у них раскормленный, балованный, – как ты его ночью поймаешь? Ну, да ничего, – говорит он, поворачиваясь ко мне: – доедем!
– Доедем?
– Доедем!
Мне тоже начинает сразу казаться, что ничего, что доедем. Тем более, что уж вся поляна сплошь покрыта оленями, а из лесу показываются на лыжах остяки.
– Сейчас будут имать оленей, – говорит Никифор.
Я вижу, как остяки берут в руки по аркану. Старик-хозяин медлительно собирает петли на левой руке. Потом все они долго перекрикиваются о чем-то. Очевидно, уславливаются, вырабатывают план действий и намечают первую жертву. Никифор тоже посвящён в заговор. Он всполошил какую то группу оленей и погнал её в широкий промежуток между стариком и сыном. Работник стоит дальше. Испуганные олени мчатся сплошной массой. Целый ручей голов и рогов. Остяки зорко следят за какой-то точкой в этом потоке. Раз! Старик бросил свой аркан и недовольно покачал головой. Раз! Молодой остяк тоже промахнулся. Но вот безносый работник, который на открытом месте, среди оленей, внушил мне сразу уважение своим стихийно-уверенным видом, метнул аркан, и уже по движению его руки видно было, что он не промахнётся. Олени шарахнулись от верёвки, но белый большой олень с бревном на шее, сделав два-три прыжка, остановился и завертелся на месте: петля опутала его вокруг шеи и рогов.
Никифор объяснил мне, что это поймали самого хитрого оленя, который мутит всё стадо и уводит его в самый нужный момент. Теперь белого бунтаря привяжут, и дело пойдёт лучше. Остяки стали снова собирать свои арканы, наматывая их на левую руку. Потом перекрикивались, вырабатывая новый план действий. Бескорыстный азарт охоты овладел и мною. Я узнал от Никифора, что теперь хотят поймать вон ту широкую важенку с короткими рогами, и принял участие в военных действиях.
Мы погнали с двух сторон группу оленей в ту сторону, где настороже стояло три аркана. Но важенка, очевидно знала, что ждет её. Она сразу бросилась в сторону и ушла бы совсем в лес, если б её не переняли собаки. Пришлось снова предпринять ряд обходных движений. Победителем оказался и на этот раз работник, который улучил момент и набросил хитрой важенке петлю на шею.
– Эта важенка неплодная, – объяснил мне Никифор, – телят не носит, поэтому в работе очень крепка.
Охота становилась интересной, хотя и затягивалась. После важенки поймали сразу в два аркана огромного оленя, который походил на подлинного быка. Затем произошел перерыв: группа нужных оленей вырвалась из круга и ушла в лес. Снова работник с младшим сыном ушли на лыжах в лес, и мы ждали их около получаса. Под конец охота пошла успешнее, и общими силами поймали тринадцать оленей: семь – нам с Никифором в дорогу и шесть штук – хозяевам. Около одиннадцати часов мы выехали, наконец, на четырех тройках из чума по направлению к Оурви.
На заводы с нами поедет работник. Сзади его нарты привязан седьмой, запасный олень.
Захромавший бык, которого мы, уезжая в чум, оставили в оурвинских юртах, так и не поправился. Он печально лежал на снегу и дался в руки без аркана. Никифор ещё раз пустил ему кровь – так же бесцельно, как и прежде. Остяки стали уверять, что олень вывихнул себе ногу. Никифор постоял над ним в недоумении и затем продал его на мясо одному из здешних хозяев за восемь рублей. Тот потащил бедного оленя на веревке. Так печально кончилась судьба оленя, которому нет равного в мире. Любопытно, что Никифор продал оленя, не справившись о моем согласии. По нашему уговору, быки поступали в его собственность лишь после благополучного прибытия на место. Мне очень не хотелось отдавать оленя, сослужившего мне такую ценную службу, под нож. Но протестовать я не решился… Совершив свою торговую операцию и укладывая деньги в кошелек, Никифор обернулся ко мне и сказал:
– Вот и получил двенадцать рублей чистого убытку.
Чудак! Он забыл, что оленей покупал я, и что они, по его уверению, должны были доставить меня на место. А между тем, я проехал на них каких-нибудь 300 вёрст и нанял других.
Сегодня так тепло, что снег подтаивает. Снег размяк и мокрыми комьями летит из-под копыт во все стороны. Оленям тяжело. Вожаком у нас идет однорогий бык довольно скромного вида. Справа – бесплодная важенка, усердно перебирающая ногами. Между ними – жирный малорослый олень, впервые узнавший сегодня, что такое упряжка. Под конвоем слева и справа он честно выполняет свои обязанности. Остяк ведёт впереди нарты с моими вещами. Поверх малицы он надел ярко-красный балахон и на фоне белого снега, серого леса, серых оленей и серого неба он выделяется, как нелепое и в то же время необходимое пятно.
Дорога так тяжела, что на передних нартах дважды обрывались постромки: при каждой остановке полозья примерзают к дороге и нарты трудно сдвинуть с места. После первых двух побежек олени уже заметно устали.
– Остановимся ли мы в Нильдинских юртах чай пить? – спросил меня Никифор. – Следующие юрты далече.
Я видел, что ямщикам хочется чаю, но мне жалко было терять время, особенно после того, как мы сутки простояли в Оурви. Я дал отрицательный ответ.
– Ваша воля, – ответил Никифор и сердито ткнул шестом бесплодную важенку.
Молча мы проехали ещё вёрст сорок: когда Никифор трезв, он угрюм и молчалив. Стало холоднее, и дорога подмерзала и всё улучшалась. В Санги – тур – пауль мы решили остановиться. Юрта здесь на диво: есть скамейки, есть стол, покрытый клеёнкой. За ужином Никифор перевёл мне часть разговора безносого ямщика с бабами, прислуживавшими нам, и я услышал любопытные вещи. Месяца три тому назад у этого остяка повесилась жена. И на чём?
– Чёрт знает на чём, – сообщал мне Никифор, – на тоненькой старой мочальной веревочке, повесилась, сижа (сидя), привязав один конец к суку. Муж был в лесу, белку промышлял вместе с другими остяками. Приезжает десятский, тоже остяк, зовёт в юрты: жена захворала шибко (значит, и у них не сразу объявляют, – мелькает у меня в голове). Но муж ответил: Разве ж там некому огонь в очаге развести, – на то с ней мать живет, – а я чем могу помочь? Но десятский настоял, муж приехал в юрты, а жена уж поспела. Это у него вторая жена уже, – закончил Никифор.
– Как? И та повесилась?
– Нет, та своей смертью померла, от хворости, как следует…
Оказалось, что двое хорошеньких ребят, с которыми, к великому моему ужасу, целовался в губы наш остяк при отъезде из Оурви, его дети от первой жены. Со второй он прожил около двух лет.
– Может её силой выдали за этакого? – спросил я. Никифор навел справку.
– Нет, – говорит, – сама к нему пошла. Потом он её старикам 30 рублей калыму дал и жил с ними вместе. А по какой причине удавилась, неизвестно.
– У них это, должно быть, очень редко бывает? – спросил я.
– Что не своей смертью помирают? У остяков это частенько бывает. Летось у нас тоже один остяк из ружья убился.
– Как? Нарочно?
– Не, нечаянно… А то ещё у нас в уезде полицейский писарь застрелился. Да где? На полицейской каланче. Взлез на самый верх: вот вам, говорит, сукины сыны! – и застрелился.
– Остяк?
– Не… Молодцеватов – русский субъект… Никита Митрофанович.
Когда мы выехали из Сангитурских юрт, было уж темно. Оттепель давно прекратилась, хотя было всё же очень тепло. Дорога установилась прекрасная, мягкая, но не топкая, – самая дельная дорога, как говорит Никифор. Олени ступали чуть слышно и тянули нарты шутя. В конце концов пришлось отпрячь третьего и привязать сзади, потому что от безделья олени шарахались в сторону и могли разбить кошеву. Нарты скользили ровно и бесшумно, как лодка по зеркальному пруду. В густых сумерках лес казался ещё более гигантским. Дороги я совершенно не видел, передвижение нарт почти не ощущал. Казалось, заколдованные деревья быстро мчались на нас, кусты убегали в сторону, старые пни, покрытые снегом, рядом со стройными березками проносились мимо нас. Всё казалось полным тайны. Чу – чу – чу – чу… слышалось частое и ровное дыхание оленей в безмолвии лесной ночи. И в рамках этого ритма в голове всплывали тысячи забытых звуков. Вдруг в глубине этого темного леса раздаётся свист. Он кажется таинственным и бесконечно далеким. А между тем это остяк развлёк своих оленей в пяти шагах от меня. Потом снова тишина, снова далёкий свист, и деревья бесшумно мчатся из мрака в мрак. В полудремоте мною начинает овладевать тревожная мысль. По обстановке моей поездки остяки должны меня принимать за богатого купца. Глухой лес, темная ночь, на 50 вёрст вокруг ни человека, ни собаки. Что их может остановить? Хорошо ещё, что у меня есть револьвер. Но ведь этот револьвер заперт в саквояже, а саквояж увязан на нартах ямщика, – того самого безносого остяка, который мне в данную минуту начинал, почему-то, казаться особенно подозрительным. Непременно нужно будет, решаю я, извлечь на стоянке револьвер из саквояжа и положить рядом с собою.
Удивительное существо этот наш ямщик в красной мантии! По видимому, отсутствие носа не повлияло на его обоняние: кажется, будто он чутьем определяет место и находит дорогу. Он знает каждый куст и чувствует себя в лесу, как в юрте. Вот он что-то сказал Никифору: оказывается, здесь под снегом должен быть мох, значит, можно покормить оленей. Мы остановились и выпрягли оленей. Было часа три ночи.
Никифор объяснил мне, что их зырянские олени хитрые, и что сколько он, Никифор, ни ездил, никогда не отпускал их кормиться вольно, а всегда кормил на привязи. Отпустить оленя легко, – а если потом не поймаешь? Но остяк держался других взглядов и решил отпустить своих оленей на честное слово. Такое благородство подкупало, но я с сомнением всматривался в оленьи морды. Что, если им покажется более привлекательным тот мох, который растёт в окрестностях оурвинского чума? Это было бы поистине печально. Впрочем, прежде чем отпустить оленей на чисто моральных основаниях, ямщики срубили две высокие сосны и разрубили их на семь брёвен, аршина полтора каждое. Бревна эти были в качестве сдерживающего начала подвешены на шею каждому оленю в отдельности. Надо надеяться, что эти брелоки не окажутся слишком лёгкими…
Отпустив оленей, Никифор нарубил дров, обтоптал вблизи дороги круг в снегу и разложил в углублении костёр, а вокруг него настлал еловых ветвей и устроил помост для сиденья. На двух сырых ветках, воткнутых в снег, мы повесили два котелка и набивали их снегом, по мере того, как он таял… Чаепитие у костра на февральском снегу показалось бы мне, вероятно, гораздо менее привлекательным, если бы хватил мороз градусов в 40–50. Но небо удивительно покровительствовало мне: стояла тихая и теплая погода.
Боясь проспать, я не лёг вместе с ямщиками. Около двух часов просидел я у костра, поддерживая в нём огонь и записывая при его мерцающем свете свои путевые впечатления.
Чуть свет я разбудил ямщиков. Оленей поймали без всяких затруднений. Пока их привели и запрягли, стало совсем светло, и всё приняло совершенно прозаический вид. Сосны уменьшились в объеме. Березы не мчались нам навстречу. У остяка был заспанный вид, и мои ночные подозрения рассеялись, как дым. Заодно я вспомнил, что в древнем револьвере, который я добыл перед отъездом, только два патрона, и что меня убедительно просили не стрелять из него во избежание несчастных случаев. Револьвер так и остался в саквояже.
Пошёл сплошной лес: сосна, ель, берёза, могучая лиственница, кедр, а над рекой – тал и гибкий чернотал. Дорога хороша. Олени бегут ровно, но без резвости. На передних нартах остяк понурил голову и поёт свою унылую песню, в которой только четыре ноты.
Может быть он вспоминает старую мочальную веревку, на которой повесилась его вторая жена. Лес, лес… Однообразный на неизмеримом пространстве и в то же время бесконечно разнообразный в своих внутренних сочетаниях. Вот через всю дорогу перекинулась подгнившая сосна. Огромная, она во всю длину покрыта снежным саваном, который нависает над нашими головами. А вот здесь, очевидно, прошлой осенью горел лес. Сухие прямые стволы без коры и без ветвей стоят как бессмысленно натыканные телеграфные столбы или как неокрылённые парусами мачты замёрзшей гавани. Несколько вёрст мы ищем пожарищем. Потом пошла сплошная ель, ветвистая, тёмная, частая. Старые гиганты теснят друг друга, вершины их смыкаются в высоте и не дают доступа солнечным лучам. Ветви затканы какими-то зелёными нитями, точно покрыты грубой паутиной. И олени и люди становятся меньше среди этих вековых елей. Потом дерево сразу пошло мельче и на снежную поляну рассыпным строем выбежали сотни молодых ёлок и застыли в равном расстоянии друг от друга. Вдруг за поворотом дороги наш поезд едва не наскочил на маленькие нарты с дровами, запряженные тремя собаками и девочкой-остячкой. Сбоку шел мальчик лет пяти. Очень красивые дети. У остяков, как я заметил, вообще нередки миловидные дети. Но отчего же так безобразны взрослые?
Лес и лес… Вот снова пожарище, по видимому, старое: среди обгорелых стволов идёт в гору молодая поросль.
– Отчего загораются леса? От костров?
– Какие тут костры? – отвечает Никифор, тут и души живой летом не бывает: летом дорога рекой идёт. От тучи леса загораются. Ударит туча и зажжёт. А то ещё дерево о дерево трётся, пока не загорится: качает их ветер, а летом дерево сухое. Тушить? Кому тут тушить? Ветер огонь разносит, ветер и тушит. Клей сверху обгорит, кора облупится, хвоя обгорит, а ствол останется. Года через два корень высохнет, и ствол свалится…
Много тут голых стволов, вот-вот готовых упасть. Иной держится на тонких ветвях соседней ели. А этот совсем уж было падал на дорогу, но задержался, бог весть как, аршина на три вершиной от земли. Нужно наклониться, чтоб не расшибить головы. Снова полоса могучих елей тянется в течение нескольких минут, затем внезапно открывается просека на речку.
– По таким просекам весной хорошо уток ловить. Птица весной сверху вниз летит. Вот по заходе солнца на такой просеке натягиваешь сеть: – от дерева и до дерева, до самого верху. Большая такая сеть, что твой невод. Сам тут же под деревом лежишь. Утка стаей летит на просеку и в сумерки вся так стаей в сеть и вобьется. Тогда за веревочку дёрнешь, сеть упадёт и всю добычу накроет. Штук до 50-ти можно так сразу взять. Только успевай закусывать.
– Как – закусывать?
– Убить-то её надо ведь, чтоб не разлетелась? Вот и закусываешь ей зубами головку сверху – только поспевай… кровь по губам так и течёт… Конечно, и палкой тоже можно бить её, только зубами вернее…
Сперва олени, как и остяки, казались мне все на одно лицо. Но вскоре я убедился, что каждый из семи оленей имеет свою физиономию, и я научился её различать. Временами я чувствую нежность к этим удивительным животным, которые уже приблизили меня на пятьсот вёрст к железной дороге.
Спирт у нас весь вышел, Никифор трезв и угрюм. Остяк поёт свою песню о мочальной веревке. Минутами мне невыразимо странно думать, что это я, именно я, а не кто другой, затерялся среди этих необъятных пустынных пространств. Эти две нарты, эти семь оленей и эти два человека – всё это движется вперёд ради меня. Два человека, взрослых, семейных, оставили свои дома и переносят все трудности этого пути, потому что это нужно кому-то третьему, чужому и чуждому им обоим.
Такие отношения имеются всюду и везде. Но нигде они, пожалуй, не могут так поразить воображение, как здесь, в тайге, где они выступают в такой грубой обнажённой форме…
После ночной кормёжки оленей мы проехали мимо Сарадейских и Менк – я – паульских юрт. Только в Ханглазских мы сделали привал. Здесь народ, пожалуй, ещё диче, чем в других юртах. Всё им в диковинку. Мои столовые принадлежности, мои ножницы, мои чулки, одеяло в кошеве, всё вызывало восторг изумления. При виде каждой новой вещи все крякали. Для справки я развернул пред собою карту Тобольской губернии и прочитал вслух имена всех соседних юрт и речек. Они слушали, разиня рты, и когда я кончил, хором заявили, как перевёл Никифор, что всё совершенно верно. У меня не оказалось мелочи, и в благодарность за кров и очаг я дал всем мужчинам и бабам по три папиросы и по конфете. Все были довольны.
Старушка-остячка, менее безобразная, чем другие, и очень бойкая, буквально влюбилась в меня, т. е. собственно во все мои вещи. И по улыбке её видно было, что чувство её – совершенно бескорыстное восхищение явлениями другого мира. Она помогла мне укрыть ноги одеялом, после чего мы с ней очень мило простились за руки, и каждый сказал несколько приятных слов на своем языке.
– А скоро Дума соберётся? – спрашивает меня неожиданно Никифор.
– Да вот уж третьего дня собралась…
– Ага… Что – то она теперь скажет? Надо бы их, надо бы урезонить, едят их мухи. Нашего брата вовсе прижучили. Мука, например, была рубль пятьдесят копеек, а теперь вот, остяк говорил, рубль восемьдесят стала. Как жить при этаких ценах? А нас, зырян, пуще теснят: соломы воз привёз, – плати, дров сажень поставил – плати. Русские и остяки говорят: «земля наша». Думе бы надо в это дело вступиться. Урядник-то у нас ничего – маховой человек, а вот пристав не под нашу лапу.
– Не очень – то Думе дадут вступиться: разгонят.
– Вот то-то и есть, что разгонят, – подтвердил Никифор и прибавил при этом несколько сильных слов, энергии которых мог бы позавидовать бывший Саратовский губернатор Столыпин.
В Няксимвольские юрты мы приехали ночью. Оленей здесь сменить можно, и я решил это сделать, несмотря на оппозицию Никифора. Он всё время настаивал, чтоб нам ехать на оурвинских оленях на проход, без смены, приводя самые несообразные аргументы и чиня мне всякие препятствия при переговорах. Я долго дивился его поведению, пока не понял, что он заботится об обратном пути: на оурвинских оленях он вернётся обратно в чум, где оставил своих. Но я не сдался, и за 18 рублей мы наняли свежих оленей до Никито-Ивдельского, большого золотопромышленного села под Уралом. Это последний пункт оленьего тракта. Оттуда до железной дороги придется ещё вёрст полтораста проехать на лошадях. От Няксимволи до Ивделя считается 250 вёрст – сутки хорошей езды.
Здесь повторилась та же история, что в Оурви: ночью ловить оленей невозможно; пришлось заночевать.
Остановились мы в бедной зырянской избе. Хозяин служил раньше приказчиком у купца, но не поладил и теперь сидит без места и без работы. Он сразу поразил меня своей литературной некрестьянской речью. Мы разговорились. Он с полным пониманием рассуждал о возможностях разгона Думы, о шансах правительства на новый заём.
– Издан ли весь Герцен? – справился он между прочим.
И в то же время этот просвещённый человек – чистейший варвар. Он пальцем о палец не ударит, чтоб помочь своей жене, которая содержит всю семью. Она печёт для остяков хлебы – две печи в сутки. Дрова и воду носит на себе. Да кроме того дети у неё же на руках. Всю ночь, что мы провели у неё, она не ложилась ни на час. За перегородкой горела лампочка, и по шуму слышно было, что идет какая-то тяжелая возня с тестом. Утром она по прежнему была на ногах, ставила самовар, одевала детей и подавала проснувшемуся мужу высохшие пимы.
– Что же муж-то ваш вам не помогает? – спросил я её, когда мы с ней остались в избе одни.
– Да работы ему настоящей нету. Рыбу тут промышлять – негде. За пушниной охотиться он не привычен. Земли тут не пашут, – в прошлом году только первый раз соседи пахать пробовали. Что ж ему делать-то? А по домашности наши мужики не работают. Да и ленивы они, надо правду сказать, не многим лучше остяков. Оттого-то русские девки никогда за зырян замуж не выходят. Что ей за охота в петлю лезть? Это только мы, зырянки, привыкли.
– А зырянки за русских замуж выходят?
– Сколько хочешь. Русские мужики любят на наших бабах жениться, потому что против зырянки никто не сработает. Но только за зырянина русская девка никогда не пойдет. Такого и случая не было.
– Вы вот говорили, что ваши соседи пробовали пахать. Что ж – уродило у них?
– Хорошо уродило. Один полтора пуда ржи посеял – собрал тридцать пудов. Другой пуд посеял – собрал двадцать пудов. Вёрст сорок отсюда до пашни.
Няксимволи – первое место на пути, где я услышал о земледельческих попытках.
Выехать отсюда нам удалось только после полудня. Новый ямщик, как все ямщики, обещал выехать чуть свет, а в действительности привёл оленей только к 12 часам дня. С нами он отправил мальчика.
Солнце светило ослепительно ярко. Трудно было открыть глаза, даже сквозь веки снег и солнце вливались в глаза расплавленным металлом. И в то же время дул ровный холодный ветер, не дававший снегу таять. Только когда въехали в лес, глаза получили возможность отдохнуть. Лес тот же, что и прежде, и такое же количество звериных следов, которые я при помощи Никифора научился различать. Вот заяц путал свои бестолковые петли. Заячьих следов масса, потому что за зайцем тут никто не охотится. Вот целый круг вытоптан заячьими лапами, а от него радиусом во все стороны расходятся следы. Подумаешь, что ночью тут был митинг, и застигнутые патрулём, зайцы бросились врассыпную. Куропаток здесь тоже много, и отпечаток острой лапки там и здесь виден на снегу. Вдоль дороги шагов на тридцать ровной линией, нога в ногу, вытянулся в один ряд вкрадчивый след лисы. Вон по снежному откосу спускались к реке, друг за другом, гуськом, серые волки, растаптывая один и тот же след. Везде и всюду разбросан еле заметный следок лесной мыши. Лёгкий горностай оставил во многих местах свой след, точно отпечаток узлов вытянутой веревочки. Вот дорогу пересекает ряд огромных ям: это неуклюже ступал лось.
Ночью мы снова останавливались, отпустили оленей, развели костёр, пили чай, и утром я снова в лихорадочном состоянии ожидал оленей. Прежде чем отправиться за ними, Никифор предупредил, что у одного из них отвязалась колотушка.
– Что же он, – ушёл? – спросил я.
– Бык – то здесь, – ответил Никифор, и тут же начал обстоятельно бранить хозяина оленей, который не дал в дорогу никакой справы: ни верёвки, ни аркана. Я понял, что дело обстоит не вполне благополучно.
Сперва был пойман бык, случайно подошедший к нартам. Никифор долго хрипел по-оленьи, чтобы заслужить расположение быка. Тот подходил совсем близко, но как только замечал подозрительное движение, немедленно бросался назад. Эта сцена повторялась раза три. Наконец, Никифор разостлал петлями небольшую верёвку снятую с кошевы, и прикрыл её снегом. Потом стал снова вкрадчиво хрипеть и курлыкать. Когда олень приблизился, осторожно ступая ногами, Никифор рванул верёвку, и колотушка оказалась в петле. Пойманного быка на верёвке потащили в лес, к остальным оленям, в качестве парламентёра. После того прошел добрый час. В лесу совсем рассвело. Время от времени я слышал в отдалении человеческие голоса. Потом всё снова затихало. Как обстоит дело с оленем, избавившимся от колотушки? В дороге я слышал поучительные рассказы о том, как приходится иногда по три дня разыскивать ушедших оленей.
Нет, ведут!
Сперва поймали всех оленей, кроме вольного. Тот бродил вокруг да около и не поддавался ни на какую лесть. Потом сам подошёл к пойманным оленям, стал среди них и уткнул морду в снег. Никифор подкрался к нему ползком и схватил вольника за ногу. Тот рванулся, опрокинулся сам и опрокинул человека. Но не тут-то было! Победителем оказался Никифор.
Около 10 часов утра приехали в Соу – вада. Три юрты заколочены, только одна жилая. На бревнах лежала огромная туша убитой самки лося, немного дальше – изрезанный дикий олень; куски посиневшего мяса лежали на закопчённой крыше, и среди них – два лосиных телёнка, вырезанных из брюха матери. Всё население юрты было пьяно и спало вповалку. На наше приветствие никто не откликнулся. Изба большая, но невероятно грязная, без всякой мебели. В окне – треснувшая льдина, припёртая снаружи палками. На стене – двенадцать апостолов, портреты всех монархов и объявление резиновой мануфактуры.
Никифор сам развёл огонь в очаге. Потом встала остячка, пошатываясь от хмеля. Подле неё спали трое ребят, один – грудной. Последние дни у хозяев была большая удачная охота. Кроме лося, добыли семь диких оленей; шесть туш лежат ещё в лесу.
– Почему так много везде пустых юрт? – спрашиваю я Никифора, когда мы выехали из Соу – вада.
– От разных причин… Если кто помер в избе, остяк в ней жить не будет: или продаст, или заколотит, или перенесёт на новый оклад. То же, если женщина, когда нечиста, войдёт в избу, – тогда конец, меняй избу. У них в это время женщины особь живут, в шалашах… А то ещё вымирают остяки шибко… Вот юрты и пустуют.
– Вот что, Никифор Иванович, вы теперь меня купцом больше не называйте… Как станем выезжать на заводы, вы говорите про меня, что я инженер из экспедиции Гете[18]18
Петр Эрнестович фон Гетте, действительный статский советник, инженер путей сообщений, под его руководством была построена дорога Екатеринбург-Тюмень. В Обдорск экспедиция под его руководством прибыла 13 марта 1900 г. См.: Ламин В. А. Ключи к двум океанам. Хабаровск: Хабаровской книжное издательство, 1981. (прим. ред.)
[Закрыть]. Слыхали про эту экспедицию?
– Не слыхал.
– Видите ли, есть проект провести железную дорогу от Обдорска к Ледовитому океану, чтоб сибирские товары можно было оттуда на пароходах прямо вывозить за границу. Вот вы и говорите, что я ездил в Обдорск по этому делу.
День был на исходе. До Ивделя оставалось меньше полусотни вёрст. Мы приехали в вогульские юрты Ойка – пауль. Я попросил Никифора войти в избу посмотреть, что и как. Он вернулся минут через десять. Оказалось, изба полна народу. Все пьяны. Пьют местные вогулы вместе с остяками, везущими купеческую кладь в Няксимволи. Я отказался входить в избу из опасения, чтоб Никифор не напился под самый конец.
– Я пить не буду, – успокаивал он меня, – только куплю у них бутылочку в дорогу.
К нашей кошеве подошел высокий мужик и стал о чём то по-остяцки спрашивать Никифора. Разговора я не понимал до того момента, как с обеих сторон раздались энергичные салюты на чистом русском языке. Подошедший был не вполне трезв. Никифор, ходивший в юрту за справкой, тоже успел потерять за этот короткий промежуток необходимое равновесие. Я вмешался в разговор.
– Чего он хочет? – спросил я Никифора, принимая его собеседника за остяка. Но тот ответил сам за себя: он обратился к Никифору с обычным опросом: кто едет и куда? Никифор послал его к чёрту, что и послужило основой дальнейшего обмена мыслей.
– Да вы кто будете: остяк или русский? – спросил я в свою очередь.
– Русский, русский… Широпанов я, из Няксимволи. А вы не из компании ли Гете будете? – спросил он меня.
Я был поражен.
– Да, из компании Гете. А вы откуда знаете?
– Меня туда приглашали из Тобольска, когда отправлялись ещё для первого исследования. Один англичанин тогда был там, инженер, Чарльз Вильямович… вот фамилию его я забыл…
– Путман? – подсказал я наобум.
– Путман? Нет, не Путман… Путманова жена была, а тот назывался Крузе.
– А теперь что вы делаете?
– У Шульгиных в Няксимволи приказчиком служу, с их кладью еду. Только вот третьи сутки хвораю: всё тело ломит…
Я предложил ему лекарства. Пришлось войти в юрту.
Огонь в очаге догорал, и никто о нём не заботился, было почти совсем темно. Изба была полным полна. Сидели на нарах, на полу, стояли. Женщины при виде нового приезжего по обыкновению полузакрыли платками лица.
Я зажёг свечу и отсыпал Широпанову салицилового натру. Тотчас же меня со всех сторон обступили пьяные и полупьяные остяки и вогулы с жалобами на свои болезни. Широпанов был переводчиком, и я добросовестно давал от всех болезней хинин и салициловый натр.
– А верно, что ты там живешь, где царь живёт? – спросил меня ломаным русским языком старый, высохший вогул маленького роста.
– Да, в Петербурге, – ответил я.
– Я на выставке был, всех видел, царя видал, полициймейстера видал, великого князя видал.
– Вас туда депутацией возили? В вогульских костюмах?
– Да, да, да… – все утвердительно замахали головами, – я тогда моложе был, крепче… Теперь – старик, хвораю…
Я и ему даю лекарства. Остяки были мною очень довольны: пожимали руки, в десятый раз упрашивали выпить водки и очень огорчались моими отказами. У очага сидел Никифор, пил чашку за чашкой, чередуя чай с водкой. Я несколько раз многозначительно взглядывал в его сторону, но он сосредоточенно глядел в чашку, делая вид, что не замечает меня. Пришлось дожидаться, пока Никифор напьётся чаю.









































