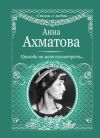Текст книги "Записки об Анне Ахматовой. Том 2. 1952-1962"

Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Затем Анна Андреевна обрушилась на статью Огнева в «Октябре»146. И есть за что! Бедный глухой Огнев. Он умудрился в одном абзаце обругать: Пастернака («Свеча горела на столе»), Ахматову («Есть три эпохи у воспоминаний») и М. Петровых («Назначь мне свиданье на этом свете»). Букет шедевров. С таким слухом, как у Огнева, только и заниматься литературной критикой!
Более всего оскорбило Анну Андреевну слово «слабодушие», сказанное о ней. Ахматова и слабодушие – в самом деле, как это метко! При таком уровне понимания только и рассуждать о поэтах и поэзии[212]212
Об элегии Ахматовой Огнев, в частности, писал: «сколько здесь слабодушного, холодного, опустошительного неверия в жизнь». Силы, смелости, горечи и трагического величия Огнев не расслышал. Трагизм вообще ненавистен советской критике в том случае, если трагическим сознанием наделен современный поэт.
[Закрыть].
Анна Андреевна порылась в сумочке и дала мне прочесть чьи-то безграмотные стихи, анонимные, полученные издательством и любезно пересланные ей: в этих самодельных стишках обругана ее элегия.
– Их, собственно, следовало бы послать не мне, а Огневу, с надписью: «Сейте разумное, доброе, вечное». Ведь это уже прямой результат его статьи, не правда ли? Но все это пустяки. Норма. Не думайте, пожалуйста, что я огорчена. Напротив, у меня большое торжество.
Она снова порылась в сумочке и горделивым движением протянула мне конверт. На конверте – штамп Союза Писателей. Внутри – выписка из протокола: Ахматова утверждена одним из членов комиссии по литературному наследию О. Э. Мандельштама.
– Большая честь, – сказала она. – Большая честь для меня.
Помолчали. Заговорили о Пастернаке.
Анна Андреевна очень встревожена болезнью Бориса Леонидовича. Звонила на днях Зинаиде Николаевне и подробно ее расспрашивала.
– Лежит в Кремлевской больнице, в отдельной палате. Лежит на доске. Плачет от боли.
Я спросила, пишет ли она?
– Я переделала конец. Мне Маршак сказал, что последние строки не удались. Я и сама это знала и сделала теперь по-другому. Макбет – пресно.
И прочла – по-другому[213]213
Не понимаю, о каком стихотворении, о каком конце идет речь.
[Закрыть].
Самым интересным для меня оказалось, пожалуй, вчера ее замечание о словах.
– Дело в том, – сказала она, возвращаясь к статье Огнева, – что наши читатели и критики сейчас по-особому относятся к словам. Из светского лексикона некоторые слова на наших глазах переходят в церковно-славянский и тогда уже становятся запретными для светского. Я убеждена, например, что мои стихи
И время прочь, и пространство прочь —
никто не хочет печатать из-за слова «время». Оно воспринимается не как философская категория, а как наше советское время – и потому о нем нельзя сказать «прочь». То же и со словом «эпоха». Тот, кто прислал мне эти анонимные стишки, знает «эпоху» только в одном смысле и потому возмутился строкой «Есть три эпохи у воспоминаний». Какие же могут быть три, когда существует только одна и притом наша?
13 апреля 57 • Вчера у Анны Андреевны. Она прочитала мне новые стихи, страшноватые. «А за нею темнеет дорога, / По которой ползла я в крови». И последние строки я запомнила:
Так спаси же меня от гордыни!
В остальном я сама разберусь[214]214
«Ты напрасно мне под ноги мечешь» – стихотворение, напечатанное впервые за границей в «Памяти А. А.». Об этом стихотворении и о желании автора включить его в цикл «Из сожженной тетради» («Шиповник цветет») см. мои «Записки», т. 3. В настоящее время оно печатается во всех сколько-нибудь полных изданиях Ахматовой дома. См., например, сб. «Узнают…», с. 275.
[Закрыть].
Рассказала с большим огорчением об Ольге Берггольц. Та, оказывается, погибает: пьет. К ней приставлена сиделка, чтобы она не могла убегать из дому и пить где-то с шоферами, шатаясь по кабакам, но все равно, она и дома с утра до вечера хлещет коньяк – голая, без рубахи, в халате, накинутом на голое тело.
– Бедная Оля, – сказала Анна Андреевна. – Еще одна гибель еще одного поэта.
Завтра Анна Андреевна собирается в больницу к Борису Леонидовичу.
11 июня 57 • Конспект этих двух месяцев.
Вечная история со мной: как раз тогда, когда случается многое, достойное записи – тогда-то я и не пишу. Времени нет на дневник. А главное – слабенький мой приемник сразу портится: он не выносит никакой множественности, никакого изобилия. Ему подавай что-нибудь одно. Иначе, при многообразии впечатлений, я слышу вполуха, вижу вполглаза, чувствую в одну десятую чувств. А ведь от качества приема и передача зависит.
Живу я в спешке, в галиматье, в зарабатывании, в многолюдстве, и, таким образом, в пересечении многих линий: рабочих, бытовых, человеческих. Вот что уничтожает во мне звук, слово. И это бы еще полбеды. Мне бы подождать, а я нагличаю: не дожидаясь покоя, пишу. И наказана: не пиши в суете! Не снимай пенку, пока молоко не отстоялось! Зря только взболтаешь глубину. Вот, накатала пять листов, потом без конца их правила, а статья непоправима. Такая дорогая тема – мученики, убитые, затоптанные в ленинградской редакции и вокруг. Но я оказалась ниже ее. Дорасту ли когда-нибудь?
Статью хвалят, но я-то знаю! В ней нету ритма, потому что нету его в моих теперешних днях. А ритма нет – верный признак, что основная мысль еще не родилась. Одно мне оправдание: основную мысль все равно высказать мне не дали бы. Но оправдание ли это?[215]215
Статья называется «О книгах забытых или незамеченных» – и посвящена, главным образом, книгам, которые были созданы людьми, замученными и погибшими в застенке. О судьбе этой статьи см. с. 278 – 279. В конце концов в отрывках она была напечатана в «Вопросах литературы», 1958, № 2.
[Закрыть]
Суечусь, много суечусь – и для заработка, и так, «участвую в общественной жизни».
Разгром «Литературной Москвы»147; занятия в Литературном институте с людьми, заведомо и нарочито бездарными, «чтенье, чтенье, чтенье без конца и пауз» их рукописей, находящихся по ту сторону литературы (по-видимому, все участники семинара, или большинство их, – это местные карьеристы, которых на государственный счет посылают с «мест» усовершенствовать свои карьеристские способности в столицу)[216]216
Некоторое время, вместе со Степаном Павловичем Злобиным (1903 – 1965), я вела семинар на Высших курсах при Литературном институте им. Горького, и мне приходилось прочитывать пуды бездарнейших рукописей.
[Закрыть]; хлопоты о Митиной реабилитации – какой уж тут ритм! Все наползает одно на другое и все остается за бортом дневника, вытесняемое одно другим и потому не дорастающее до слова. Впрочем, надо признать, кое-что и само по себе, вне зависимости от суеты и спешки, «слово плохо берет», как сказано у Герцена. Не только до слова, но и до сознания моего по сей день не доходит, почему я расплакалась в Прокуратуре, прочитав в кабинете у майора справку о посмертной реабилитации? Стыд, срам, позор. Прочитала стандартную фразу: «за отсутствием состава преступления» и разревелась. Как все. В приемной, выходя от майора, плакали все поголовно, все женщины до единой, как будто каждой он сообщил какую-то оглушительно печальную новость. Быть может, это потому, что они, как и я, двадцать лет жаждали увидеть могилу или услышать слово правды, а эта справка – точно плита на могиле, где начертано имя убитого и признание убийцы? И можно, наконец, упасть на эту траву – на эту плиту – и плакать?148 В кабинете, когда настала моя очередь, еще колебалась в графине вода. Майор предложил мне сесть, вручил справку, я тут же прочитала ее и тут же заплакала. Майор, мужественно преодолевая собственную скорбь, выразил мне свое соболезнование, налил из графина воды и протянул мне стакан. Я пила, продолжая плакать. Приговор отменен «за отсутствием состава преступления». Разве я и раньше не знала, что Митя не совершал никаких преступлений, что, напротив, останься он жив, он сделался бы одной из слав нашего отечества, что они застрелили человека могучих духовных сил, замечательного ума и таланта? И зареветь перед этим учтивым майором, винтиком палаческого механизма («Жандармы – цвет учтивости», писал когда-то Герцен), выражающим свое соболезнование женам посмертно реабилитированных еженедельно каждый вторник и каждый четверг, с 12 до 4-х! Позор. И я еще смела недавно осуждать женщин, которые плакали в Союзе Писателей, слушая письмо Хрущева! Все-таки плакали они не перед прокурором.
________________________
Только мои встречи с Анной Андреевной у меня хватило ума и сил описывать сразу, но и эти записи сделаны мною не на достаточной высоте или, точнее, глубине. Я писала наспех в маленьком блокнотике, лежа в кровати перед сном или даже сидя в коридоре Литературного института, на подоконнике, в ожидании Злобина. А теперь переписываю сюда.
За все пропущенное, то есть недневниковое время я видела Анну Андреевну дважды и потом провожала ее на вокзал.
11 мая она позвонила мне, что хочет придти, – иными словами, чтобы я ее к себе привезла. Я привезла. У меня для нее был приготовлен сюрприз: я положила на стол большую пачку листков из гумилевского архива. Эту пачку давным-давно, еще в Ленинграде, до войны, она дала мне на сохранение. Я не поглядела тогда, что это; она сказала: «кусок из “Трудов и дней”». У себя держать этот пакет я в те времена и думать не смела, это было как раз накануне моего второго бегства из Ленинграда[217]217
10 мая 1941 г.; см. 183.
[Закрыть]. Я передала пакет друзьям. И, о чудо! он пережил ежовщину, войну, голод, блокаду и недавно вернулся ко мне в полной сохранности. И вот он лежит перед Анной Андреевной на моем круглом столе, и она перелистывает страницы прямым маленьким мизинцем. За два десятилетия она ни разу у меня об этих листках не спрашивала (наверное, позабыла, кому отдала его в очередном приступе страха) и теперь, к моему удивлению, разглядывала бумаги безо всякого удивления, как будто они не на голову ей свалились.
Поведала мне дурную новость: слухи о том, что однотомник Цветаевой, намеченный к изданию, отменен.
– Вот и не надо было печатать Маринины стихи в неосторожном альманахе с неосторожным предисловием, – ворчливо сказала она. – Знаю, помню, вы защищали стихи и предисловие! Поступок доблестный и вполне бесполезный. Мнение ваше, или мое, или Эренбурга – кому оно интересно? А не выскочи «Литературная Москва» преждевременно с двумя-тремя стихотворениями Марины – читатель получил бы целый том149.
Я с упреком Анны Андреевны не согласилась. Нет сейчас ни у одного самого проницательного человека никакого способа понять – что преждевременно, а что в самый раз. Не выскочи «Литературная Москва» со стихами Цветаевой – где гарантия, что мы получили бы целый том? А благодаря «Литературной Москве» голос Марины Ивановны, столько десятилетий беззвучный в России, все-таки прозвучал.
Анна Андреевна долго рылась в сумке; наконец, нашла и протянула мне какие-то листки.
– Читайте!
Читаю. Определение сущности поэзии Ахматовой – новое, неожиданное, написанное точно – как-то восхитительно, благоуханно; так написано, что мне захотелось сразу запомнить его наизусть и никогда не расставаться с ним… да где мне! С моей бедной, засоренной головой! Я не запомнила ни слова – одно лишь благоухание.
– Угадали? – спросила Анна Андреевна.
– Проза поэта? – спросила я в ответ.
– Да. Это Осип. Надя нашла, перебирая бумаги.
В прочитанном мною листке о поэзии Ахматовой говорится необычайно высоко.
– В печати, в 1923 году, Осип дважды меня обругал, – сказала Анна Андреевна. – «Столпник паркета» и еще как-то[218]218
«Столпник паркета» – см. «Записки», т. 1, с. 108.
[Закрыть]. Подумайте: если бы эти листочки не нашлись, было бы известно об отношении Мандельштама к поэзии Ахматовой только то, напечатанное. Оно и вошло бы в учебники, только оно. Этот случай навел меня на грустные размышления об истории литературы вообще: какова же степень нашей осведомленности об отношении друг к другу литераторов XIX века? Выходит, все зависит от случая. Не найди Надя случайно эти листочки – и не только другие люди – я сама не узнала бы никогда, как относился к моей поэзии Осип[219]219
Услышанная мною «проза поэта» – это отрывок из ненапечатанной при жизни О. Мандельштама статьи его «О современной поэзии», в которой он говорит о Валерии Брюсове, Вячеславе Иванове, М. Кузмине и об Анне Ахматовой.
«Сочетание тончайшего психологизма (школа Анненского) с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух, привыкший с понятием песни связывать некоторую душевную элементарность, если не бедность. Психологический узор в ахматовской песне так же естественен, как прожилки кленового листа:
А в Библии красный кленовый листЗаложен на Песни Песней… Однако стихи альманаха мало характерны для «новой» Ахматовой. В них еще много острот и эпиграмм, между тем для Ахматовой настала иная пора.
В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности; я бы сказал: после женщины пришел черед жены. Помните: “смиренная, одетая убого, но видом величавая жена”. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». (См.: Н. Харджиев. Восстановленный Мандельштам // Russian Literature (The Hague), 1974, 7/8, с. 19 – 22.) В нашей стране статья О. Мандельштама, включающая в себя приведенную выше характеристику Ахматовой, начиная с восьмидесятых годов перепечатывалась не раз. См. напр. во втором томе «Сочинений в 2-х томах» Осипа Мандельштама, составленных С. Аверинцевым и П. Нерлером (М.: Худож. лит. 1990).
[Закрыть].
У него четыре стихотворения, мне посвященные: «Федра», «Это ласточка и дочка» – непонятное, правда? а это мы просто топили печь… «Твое чудесное произношенье» и «Твоих, Кассандра, губ» (там еще четыре строфы, смотри газету «Воля народа»). И четыре эпиграммы:
Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой,
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены? —
это я на вокзале говорила по телефону, а он смотрел. Еще:
Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода.
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.
И еще:
Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен ваш завод,
К вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.
Анна Андреевна прочла еще одну, четвертую эпиграмму, но я ее забыла150.
Затем, я как-то – не помню даты – была у нее вечером; мы долго сидели вместе с Эммой Григорьевной и хозяевами, поджидая Анну Андреевну, за круглым столом в столовой. Она была занята; потом вышла к нам и сказала, что навестила (в тот день? или в другой, не помню) Бориса Леонидовича в больнице, ему лучше, только сильно болит колено; он подарил ей семь (или восемь?) стихотворений.
– Четыре великолепные, а остальные – полный смрад.
Прочитала вслух два, потом дала читать мне. Четыре стихотворения, действительно, великолепны: «В больнице», «Ненастье», «Летчик», «Когда разгуляется».
Про «Летчика» Анна Андреевна сказала:
– Чуть-чуть растянуто.
Про «Больницу»:
– Это стихотворение мне особенно дорого потому, что, когда я навещала Бориса в первый раз, он мне все это рассказал прозой, а вот теперь стихи151.
Я ушла, потрясенная «Больницей». Это один из шедевров Пастернака – хотя «Летчик» тоже очень хорош. Но «Больница»! В первой половине все движется, покоряясь магии первых строк каждого четверостишия:
Стояли, как перед витриной…
И скорая помощь, минуя…
Милиция, улица, лица…
а под конец – это рождение Бога из опросного листка, из анкеты, из больничного быта, из шума дождя – это чувство присутствия Бога и смерти… Нет, хоть и велик Мандельштам, а такого чудотворства я у него не припомню (разве что:
Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.
И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет).152
Мандельштам творил из благородного металла; Пастернак, подобно Ахматовой, созидает чудеса из сора[220]220
Теперь я понимаю, что приведенное здесь мое суждение о Мандельштаме неверно и может относиться не ко всем его стихам, а разве только к «Камню».
[Закрыть]. Это мне ближе.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.
Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток…
14 сентября 57 • Приехала Анна Андреевна, позвонила, я у нее была. Целая россыпь стихов, прозы, критики. Даже одна эпиграмма.
Посвежевшая, загорелая – лето на воздухе пошло ей впрок.
Сначала Анна Андреевна прочитала мне несколько стихотворений, явно обращенных к тому, приезжавшему[221]221
«Из сожженной тетради» («Шиповник цветет»). Но какие именно стихи были прочитаны в этот день, не отмечено мной.
[Закрыть].
Потом еще одно, которое я запомнила сразу, от первой строки до последней:
Забудут? – вот че́м удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.
И, наконец, эпиграмму:
Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить…
Но, Боже, как их замолчать заставить!
(В самом деле, как?)[222]222
Оба стихотворения см. в сб. «Узнают…», с. 192 и с. 274.
[Закрыть]
Прочитала она мне и главу из воспоминаний о Мандельштаме[223]223
О работе Ахматовой над воспоминаниями о Мандельштаме см. «Записки», т. 3.
[Закрыть].
– Времени у меня осталось так мало, – сказала она, – что теперь мне следует писать только то, чего, кроме меня, никто не напишет.
Затем полились блистательные устные речи.
С возмущением и брезгливостью говорила Анна Андреевна о статьях Серебровской и Коваленкова.
– В этой симметрии что-то кроется153.
Потом она сказала:
– На днях вбегает ко мне Аничка. «Акума, мы проходим враждебные группировки, там ты и Гумилев!» – Помолчав, Анна Андреевна продолжала величественно. – Позорный столб, я нахожу, без меня как-то не имеет вида, – вы замечаете, Лидия Корнеевна?
Но, сказать по правде, я сразу представила себе позорный столб как нечто праздничное, прекрасное.
– Звонил мне один болгарин, хотели меня навестить чехи. Но у нас в коридоре отстали от стены и начали жить самостоятельной жизнью обои. Никого нельзя принять. Впрочем, я все равно никого не приняла бы…
– Передают два крылатых изречения Зинаиды Николаевны. Одно: «Брошенной женой Пастернака я не буду. Я буду только его вдовой». Другое: «Бориса Леонидовича больше нет. Существует одна только Ольга Всеволодовна». Боюсь, тут Зина права. Эта баба его слопала. Проглотила живьем.
Анна Андреевна произнесла последние слова не столько зло, сколь задумчиво. Как будто раздумывая – в самом ли деле утонул Борис Леонидович или еще есть надежда, что он когда-нибудь выплывет.
Воспользовавшись наступившей паузой, я рассказала ей (с таким большим опозданием!) о Митиной реабилитации и о своих непристойных слезах в Прокуратуре.
– Не мучайте себя, – сказала мне Анна Андреевна участливым голосом. – Я помню вас тогда. Тогда вы не плакали. Ни один человек не знает, в какую минуту его настигнут слезы.
Словно грех отпустила мне.
– И тогда я много плакала, – сказала я. – Но не перед ними.
Тут раздался стук в дверь. Ардов пришел звать нас чай пить.
В столовой я имела сомнительное удовольствие познакомиться со Львом Никулиным. Он рассказывал о Париже, о Юрии Анненкове, о Льве Любимове (который, по его словам, при немцах издавал гестаповскую газету). Анна Андреевна весьма светски поддерживала беседу, но вдруг, посреди неоконченной фразы, поднялась и, не дав мне даже допить чашку, повелительно увела обратно к себе: «Идемте договаривать!»
О чем бы это? Оказывается, о Заболоцком, о котором мы и не начинали. Обсудить его сборник154.
– Прочли? Ну, говорите, что вы думаете об этой книге.
Я перечислила стихи, которые мне полюбились: «Уступи мне, скворец, уголок», «Журавли», «Чертополох», «Некрасивая девочка», «Лебедь в зоопарке», «Старая актриса», «В кино», «У моря», «На рейде», «Гроза», – в общем, многое.
– Ваш список, насколько я могу припомнить, верен, – сказала Анна Андреевна с некоторой небрежностью, – кроме «Старой актрисы» и «Некрасивой девочки». Но я спрашиваю вас не о стихах, а о книге.
О книге я сказала, что в ней слышится то Ломоносов, то Державин, то Олейников, то Пастернак, то Некрасов… И кое-что холодно.
– Да ведь это страшная книга! – бурно заговорила Анна Андреевна. – Просто страшная. В ней встречаются хорошие стихи, это правда, но нет лица поэта, нет лирического героя, нет эпохи, нет времени… Грузия вся насквозь переводная… Правильно говорит Маршак, что поэзия Заболоцкого выросла на обломках русской классики… И, как хотите, Лидия Корнеевна, а строка «Животное, полное грез» – это, в своем роде, «мое фамилие»[224]224
Строка из стихотворения «Лебедь в зоопарке».
[Закрыть].
Покончив с Заболоцким, Анна Андреевна показала мне толстенную книгу какой-то болгарской поэтессы: Ахматовой предстоит очередная переводческая деятельность.
– Багряна подражает Ахматовой, а теперь Ахматова будет переводить Багряну… – сказала она. – В этом есть нечто ужасное, противоестественное: туда и обратно, так и этак перекраивается живая ткань. «Остров доктора Моро», вы читали?155
Потом очень возмущалась каким-то очередным очерком Льва Успенского в «Звезде» о старом Петербурге. Вот уж я не ожидала услышать это имя из ее уст!
– Пишет, будто в старом Петербурге на лестницах пахло кофе. Что за вздор. На черных лестницах пахло кошками, а на парадных – духами дам и сигарами мужчин… Если бы там пахло кофе, хозяева уволили бы швейцара… Затем он сообщает, что по вечерам лица женщин, под черными или зелеными вуалями, казались исполненными тайны… По вечерам под вуалями выходили одни проститутки[225]225
В 1989 г. в «Библиотеке “Огонька”» вышли «Страницы прозы» Анны Ахматовой. Там помещен отрывок из ее записей («Дальше о Городе. Три замечания»), в котором она возмущается воспоминаниями Льва Успенского и пишет о быте старого Петербурга, о черных и парадных лестницах, кофе и сигарах почти теми же словами, какими опровергала эти мемуары в разговоре со мной. «Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100?» – пишет она о мемуарах Успенского.
О писателе Льве Успенском см. 156.
[Закрыть].
Не вполне учтиво прервав ее речь, я рассказала ей, кто таков есть Лев Успенский. Рассказала о другом его произведении, куда более интересном, чем мемуары157.
И опять, рассказывая, я почувствовала в горле неуместные слезы. «Что было, то прошло и быльем поросло». Нет, не поросло. Нет, кровавые слова, они хуже кровавых рубцов на живом теле: они не зарастают.
– Это Маршака, вас и Тамару Григорьевну он считал людьми невысокого культурного уровня? – перебила меня Анна Андреевна.
Я кивнула.
– А я вам о каких-то его мемуарах докладываю! – сказала Анна Андреевна, когда я окончила свой рассказ. – И кто-то, и он сам, воображает, что он писатель! Русский писатель… мудрено. И мудренее всего для меня вы, Лидия Корнеевна: как это вы нашли в себе силы перечесть эту папку? Я бы замуровала ее от самой себя навеки… Помню, в Ленинграде, когда мы только познакомились с вами, вы пытались мне что-то рассказывать о судьбе вашей редакции, но все было такое ужасное, что я не могла слушать…
Как это я нашла в себе силы перечесть?
Я ответила ей ее же стихами:
Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла…
– Спасибо, что предупредили, – сказала Анна Андреевна. – А то мне хотели представить Успенского. Прекрасно! Вы мне его уже представили. Гораздо лучше познакомить его с Ольгой Всеволодовной.
Затем она порывисто поднялась и снова повела меня в столовую – допивать чай. Там было уже пусто. Не помню, в какой связи вспомнила Анна Андреевна день взятия Зимнего:
– Впервые в жизни я видела тогда разведенный мост – днем. Грузовики, трамваи, люди – все повисло над внезапно разверзшейся бездной. Я туда заглянула. Под мостом шли миноноски. В толпе говорили: «балтийцы идут на помощь большевикам». А потом снова мост сомкнулся. Валил первый мокрый снег[226]226
См. примеч. на с. 387.
[Закрыть].
Провожая меня в переднюю, она опять заговорила об Успенском:
– Берегите эти статьи. Современники и потомки должны знать твердо who is who. В 37 году был людям великий экзамен. Помните, что писал ваш Герцен: не только не нашли слова защиты, «но даже не нашли молчания» при кровавых расправах. Слово защиты было невозможно, а промолчать-то ведь можно было!158
22 сентября 57 • Тревожные вести о Борисе Леонидовиче.
Я была третьего дня у Анны Андреевны. Она сказала мне, что те итальянские коммунисты, которым Пастернак передал свой роман, вышли из коммунистической партии (носят их сюда черти!). И теперь наше начальство требует от него, чуть ли не под угрозой исключения из Союза, чтобы он взял свой роман обратно. Он испуган и растерян. В Италию написал.
Анна Андреевна прочитала мне свои переводы из Переца Маркиша. Два стихотворения истинно великолепны. И такого поэта убили![227]227
Переводы Анны Ахматовой печатались в сборнике: Перец Маркиш. Избранное. Стихотворения и поэмы. (М.: Сов. писатель, 1957); в томе первом его «Избранных произведений в двух томах» (М.: Гослитиздат, 1960); а до этих двух изданий – в 1956 году в журналах и газетах: в «Дружбе народов», № 10; в «Новом мире», № 10; в «Огоньке», № 48 и в «Лит. газете» от 19 июля. Перец Давидович Маркиш (1895 – 1952) – еврейский писатель, лирический поэт, драматург, романист, автор монографии о Михоэлсе. В 1952-м, в разгар очередной, организованной Сталиным антисемитской компании, П. Маркиш был расстрелян – тогда же, когда И. Фефер, Лев Квитко и Д. Бергельсон, – а после XX съезда реабилитирован.
[Закрыть]
Потом она достала из сумочки письмо читателя. Страдальческое и понимающее. С уверенностью не скажешь, но, кажется, это письмо от ссыльного.
– Писем я писать не умею. Пошлю ему телеграмму: «Отрадно слышать голос друга».
(Чудесное слово: отрада. И почему-то оно исчезает из языка. А в ее стихах и в ее устной речи оно живет полной и естественной жизнью:
Так отчего же такая отрада
Эти вишневые видеть уста?[228]228
«Пленник чужой! Мне чужого не надо» – БВ, Подорожник.
[Закрыть]
________________
О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать…[229]229
«Гость» – БВ, Четки.
[Закрыть]
________________
Но не забуду я никогда
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной[230]230
«Луна в зените», 5 – БВ, Седьмая книга.
[Закрыть].
По дороге домой я размышляла о том, в самом ли деле она не умеет писать письма? (Я не получила ни одного, судить не берусь. У меня хранится только записочка из больницы и телеграмма.)
Думаю, у нее просто и потребности нет писать письма. Свои мысли и чувства, обращенные к людям, она преображает в высшую форму общения: в искусство. Зачем, испытав радость или боль, писать письмо? (Как делаю обыкновенно я – и всегда раскаиваюсь.) Если можешь превращать лично пережитое в нечто обязательное для всех – в стихи? Да еще в точнейшие, лаконические? Кроме того, Анна Андреевна находит точные, равные по лаконизму стихам, словесные формулы и в устной речи: «Отрадно слышать голос друга».
Фраза, по краткости вполне телеграфная, но не искалеченная сокращением, а полновесная, пушкински лаконическая.
Два искусства: лаконической стихотворной речи и лаконической устной. В третьем – в создании эпистолярной прозы – она, по-видимому, просто не нуждается.
(Не уверена я, что эти мои рассуждения имеют резон.)
30 сентября 57 • За последние дни уже в третий раз мне советуют отдать мою статью «в другое место».
Из Ленинграда позвонила Шура[231]231
Александра Иосифовна Любарская. О ней см. «Записки», т. 1.
[Закрыть]: сборник, составлявшийся неким благожелательным Варшавским, куда я послала свою статью, перешел в другие руки, неведомые мне; там все вверх дном, и благожелательный Варшавский советует мне передать мой опус «в другое место».
Я позвонила Беку, попросила его прочесть мою статью, лежащую у них в «Литературной Москве» уже недельки две. Бек сказал, что еще не решено, будет ли у них на этот раз отдел критики. «Я прочту, но советую вам отдать вашу статью в другое место».
Для разведки я позвонила Алигер. Как там, мол, у них дела в общем? и каковы, по ее мнению, шансы моей статьи в частности? Она сказала, что к публицистическому отделу теперь отношения не имеет, что «выгораживает время для работы над собственной поэмой», что и свой отдел (то есть поэзии) налаживает заново и с трудом. «Пока меня не было (не знаю, она, кажется, уезжала куда-то), тут многое вынули». – «Что же именно?» – «Да вот стихи Ахматовой, хотя бы». – «А почему?» – «Видите ли, она ведь не москвичка»…
Весьма уместный довод в те дни, когда с такой помпой создается в Москве Союз Писателей Российской Федерации, специально для работы с «провинциалами», т. е. не с москвичами… Да и Ахматова – какой же она московский или ленинградский автор? Господи, как надоедает дребедень!
– «Вы посоветуйте Анне Андреевне отдать свои стихи в другое место», – сказала мне на прощание Алигер.
Закрывают их, что ли?[232]232
Действительно, третий том «Литературной Москвы» в свет не вышел.
[Закрыть]
И где же это таинственное «другое место»? Где оно, как называется?
Ах, где те острова,
Где растет трынь-трава,
Братцы!
Всюду одно и то же место: подонки пытаются взять реванш.
2 октября 57 • Конец вечера я провела у Анны Андреевны. Она хворает и звала настойчиво. Сильные боли в правом плече. Доктор думает, отложение солей; она – сердце. Однако, она на ногах.
Сначала мы сидели в столовой – одни.
Растет, растет ее обида на Бориса Леонидовича. Зачем у нее не бывает? Зачем не зовет к себе? Зачем написал отвратительную, постыдную «Вакханалию»? Дала мне прочитать ее, и, пока я молча вчитывалась в стихи, не спускала возмущенных, требовательных глаз с моего лица… Ничего отвратительного, постыдного в этих стихах, разумеется, нет, – «все вздор один» – и куски великолепны, но и я, как она, не ощущаю сейчас поэзии ужина, бала, пышности, пьянства. Однако было время, когда и она ощущала эту поэзию. («Новогодний праздник длится пышно».) Теперь же, по-видимому, она чувствует всякую пышность, сытость, воспетую в стихах, как звук фальшивый и оскорбительный. Быть может, она и права; жаль только, что осуждение стихов идет у нее рядом с личной обидой.
Опять «Подорожник» и «Вечер».
Показала мне отрывок из очерка или, точнее, предисловия Пастернака к сборнику стихов – предисловия, о котором я много слышала159. Говорят, оно написано им как бы взамен моей любимой, любимейшей «Охранной грамоты», которую сам он уже не одобряет. В том отрывке, который Анна Андреевна теперь сердито дала мне прочитать и уже не раз поминала, «Вечер» действительно перепутан с «Подорожником». Но такое ли уж это преступление? Описка, обмолвка, неряшество – только и всего. А она – в гневе… Жаль, жаль, жаль. Ведь сама же она говорила мне когда-то – без гнева и с юмором – что Борис Леонидович не знает ее стихов[233]233
См. «Записки», т. 1, с. 177.
[Закрыть]. Потом она увела меня к себе в комнату и села на постель под рисунком Модильяни[234]234
Копия рисунка.
[Закрыть]. Комната на этот раз приведена в более ахматовский вид: Модильяни, а в углу икона, а над тумбочкой – старинное круглое зеркало, а на книжной полке «надбитый флакон», не сам он, а его изображение.
Анна Андреевна вынула из чемоданчика и прочитала мне свои новые записки об Осипе Эмильевиче: не поймешь, прочно ли стоит на ногах ее проза? но иногда вдруг среди чего-то не вполне определенного – две-три сжатые, разящие строки, в которых передано движение мысли Мандельштама, а иногда ее, ахматовская, улыбка, ее обворожительно-едкий юмор. И тогда рыхлость перестает казаться рыхлостью.
– Я прочла это Николаю Ивановичу. Он назвал меня «m-me Хемингуэй». Неужели я могу писать прозу? Никогда не могла.
Потом она заговорила о Достоевском. Оказывается, у нее была специальная работа, посвященная Достоевскому. «Я ее сожгла, когда все жгла».
О «Преступлении и наказании»:
– Это единственный его роман «как у людей». Все происходит по порядку на глазах у читателя. В остальных романах – в «Подростке», в «Бесах» – все основное уже было где-то вдали и давно. Там где-то, у озера в Швейцарии, в прошлом. А в «Преступлении и наказании» все тут же, все у нас на глазах. Зато там есть одна лишняя линия – Мармеладовы. Автору для «Преступления и наказания» одна только Соня нужна, а Екатерина Ивановна и отец – это из другой оперы, это из ненаписанных «пьяненьких».
15 октября 57 • Третьего дня вечером была у Анны Андреевны. Неизвестно, то ли микро, то ли не микро, но во всяком случае велено лежать, и она лежит. Гости: Наталия Иосифовна Ильина и Татьяна Семеновна Айзенман[235]235
О Т. С. Айзенман см. 245.
[Закрыть]. В столовой Нина Антоновна и Пастухова пьют водку с «примкнувшей к ним» Ильиной, а возле Анны Андреевны по очереди – я и Татьяна Семеновна. Анна Андреевна о стихах Слуцкого:
– Поэзия его лишена тайны. Она вся тут сверху, вся как на ладони. Если же заглянуть вглубь, то позади многих стихов чувствуется быт совершенно мещанский: вязаная скатерть, на стене картина – не то «Переезд на новую квартиру», не то «Опять двойка». В сущности, это плоско. Полуправда, выдающая себя за правду.
Дала мне наконец с собою «Предисловие» Бориса Леонидовича. Мне больно, что он отрекается от «Охранной грамоты», от своей тогдашней манеры. Тем более, что самые сильные, самые поражающие места «Предисловия»: о Скрябине, о лесе, о Рильке, о Блоке, о музыке – как раз могли быть кусками из «Охранной грамоты»… Зато, прочитав всю статью целиком, я поняла, наконец, почему так обиделась Анна Андреевна. Дело вовсе не в путанице: «Подорожник» – «Вечер»! Это мелочь, хотя и характерная. Но все «Предисловие» в целом – воспринимается как история поэзии XX века, и в этой истории Ахматова для автора почти не существует, ей посвящен всего-навсего один сбивчивый абзац, в то время как, например, Марине Цветаевой целые страницы.
20 октября 57 • Забегала я к Анне Андреевне. Лежит. Нина Антоновна при мне устроила ей бурную сцену: почему не разрешает вызвать хирурга, у нее не только сердце болит, но и фурункул на спине. Анна Андреевна молчала, опустив глаза, как девочка, которой читают нотацию, а я любовалась Нининым язвительным бушеванием… Каков будет результат этой энергии и этой покорности – не знаю.
Чуть только Нина Антоновна, разбившись о покорное молчание, ушла в аптеку за какими-то каплями – Анна Андреевна подняла ясные очи и безо всяких комментариев к только что разразившейся сцене прочитала мне стихотворение о Царском и о Лицее, написанное 5 октября[236]236
Второе стихотворение из цикла «Городу Пушкина» – БВ, Седьмая книга.
[Закрыть].
4 декабря 57 • Я очень соскучилась по Анне Андреевне и вчера, чуть разобравшись, поехала к ней[237]237
С 1 ноября по 1 декабря 57 г. я жила в Доме Творчества под Ригой, в Дубултах.
[Закрыть].
Картина, увы! прежняя: лежит, был тяжелый сердечный приступ. К тому же, как шепнула мне в коридоре Нина Антоновна, она поссорилась с Эммой.
О ссоре ни слова, зато несколько литературных монологов:
– Пятьдесят лет не брала в руки Софокла. Теперь перечла. И не потеряла его. Оказывается, можно спокойно его перечитывать и не обеднеть.
– Получила два тома антологии – там и мои стихи[238]238
Речь идет об антологии, упоминавшейся выше, на с. 214 – 215 и с. 219.
[Закрыть]. Впервые читаю советскую поэзию подряд в таком количестве. Кажется, будто оба эти тома написал один человек. Интонация у всех одна. О средствах выражения, о сравнениях, например, все забыли. О жанрах тоже.
– Прочитала до конца роман Бориса Леонидовича. Встречаются страницы совершенно непрофессиональные. Полагаю, их писала Ольга. Не смейтесь. Я говорю серьезно. У меня, как вы знаете, Лидия Корнеевна, никогда не было никаких редакторских поползновений, но тут мне хотелось схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест-накрест. И в этом же романе есть пейзажи… я ответственно утверждаю, равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Они гениальны, как «рос орешник»160.