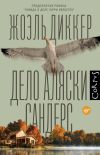Текст книги "В снегах Аляски. Мятежные души"

Автор книги: Луи-Фредерик Рукетт
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Словно шутя, собаки пробегают последние десять миль. Инстинкт подсказывает им, что остановка близка. Грегори подгоняет их криками и весело напевает какую-то песенку. Вдруг он перестает петь, издает нечленораздельные звуки и щелкает несколько раз кнутом. Собаки лают точно бешеные, на горизонте появляется коричневая полоса.
Это лагерь золотоискателей Кидс-Сити.
Шум, поднятый Грегори, щелканье его кнута, лай собак – все это возвещает о прибытии почты. Деревянные бараки пустеют в несколько минут. Появляются на пороге двери даже и те мужчины, которые сидели в баре.
Все приветствуют нас криками «ура!». Я был прав: Грегори Ленд – самый желанный гость в городе. Даже те, кому нечего ждать от его приезда, окружили наши сани.
Здесь мне пришлось наблюдать, как смягчаются самые мрачные физиономии: не одно угрюмое лицо прояснилось при вызове его имени, не на одной паре злобно стиснутых губ заиграла радостная улыбка из-за посылки в несколько граммов. А руки! Все эти протянутые руки, мозолистые, морщинистые, в рубцах, все они дрожат, как крылья птицы; иные из них, более чистые, вносят диссонанс. Откуда все эти руки? Что пришли они делать здесь? Некоторые из них все в трещинах или волдырях, у иных на кистях плетеные из кожи браслеты, а пальцы узловатые, крючковатые, приплюснутые, пальцы своевольные, нетерпеливые и трепещущие…
И каждый, получив все, что причитается на его долю, становится в сторонку, чтобы насладиться радостью и почувствовать себя менее одиноким, не таким затерянным среди этих безграничных таинственных пространств.
У тех, кто ничего не получил, пальцы снова сгибаются, руки сжимаются и вновь опускаются, а лицо застывает прежней маской; на лбу появляются глубокие морщины, взгляд становится угрюмым, и челюсти судорожно подергиваются.
– Уф! Все кончено, – объявляет Грегори Ленд, после того как привел в порядок сани и освободил от постромок своих собак, – и я уже вижу, что вы хотите узнать, который из этих парней тот, что нас интересует. Ни который! Идемте дальше.
Привыкнув к его обхождению, я повинуюсь ему, не спрашивая никаких объяснений. Мы пересекаем лагерь, который живет какой-то особой жизнью, ибо сегодня день воскресный.
В Кидс-Сити есть, конечно, главная улица, громко называемая Бродвей. Пройдя Бродвей, трудно встретить что-нибудь, кроме бесконечных снежных полей. Между тем именно по этому пути мы направляемся вместе с Грегори. Мы делаем поворот вправо, и вдруг перед моими глазами открывается самая неожиданная картина, нечто такое, чего я меньше всего ожидал. Я вижу в самом центре Аляски среди лагеря золотоискателей при температуре ниже 30 градусов холода живого человека в цилиндре и долгополом сюртуке.
Не может быть сомнения, что Грегори завел меня сюда только для того, чтобы насладиться этой минутой и моим изумлением. Он держится за бока и хохочет что есть мочи.
Человек в цилиндре оборачивается, чем сразу прекращает смех почтальона, который почтительно говорит:
– Здравствуйте, товарищ! Я привел вам одного из ваших соотечественников. Я подумал, что вам приятно будет его увидеть…
Человек снимает свой цилиндр и церемонно кланяется.
– Вы прекрасно поступили, сударь!
Грегори удаляется и оставляет нас с глазу на глаз. Я хочу сказать ему что-нибудь любезное и говорю:
– Я счастлив, что встретил француза.
Незнакомец еще раз снимает свой цилиндр и отвечает:
– Принимаю это за честь.
Потом он начинает говорить со мной в самых простых выражениях, расспрашивает о моей жизни, моем прошлом, о Франции. Я смотрю на него и глазам своим не верю.
– Я знаю, что вас интригует, – говорит он.
– Право, должен сознаться… ваш костюм такой странный… – И я выпаливаю: – На кой черт вы носите цилиндр?
Он пристально смотрит на меня и роняет такую фразу:
– Потому что сегодня воскресенье!
Потому что сегодня воскресенье! Тогда только я вглядываюсь в человека, который привел мне такой веский довод. Это широкоплечий детина, севеннский горец с Авейрона или Лозеры (я могу поклясться, что это так!) и, если бы мне удалось сразу вспомнить сообщенные мне Грегори его имя и фамилию – Сезар Эскуффиа, – мне ничуть не пришлось бы удивляться. Теперь я понял все глубокомыслие этого ответа «потому что сегодня воскресенье!».
В нем как на ладони вся психика француза. Безразлично, крестьянина или буржуа: настолько обе они схожи меж собой. Воскресенье – значит надо нарядиться в новую накрахмаленную блузу или в вынутый из шкафа черный сюртук. Воскресенье – это исконная традиция целой расы. И снег как-то сразу исчезает, серое небо перекрашивается в светлую лазурь, я слышу звон родных колоколов, вижу толпы смеющихся девушек и юношей под густыми платанами, мелких рантье, сидящих в садах на скамейках, стариков у порогов своих домиков и чувствую все благоухание, которое идет от родной земли. И в моем воображении проходит вереница всех тех житейских битв, которые должен был выдержать человек в цилиндре, чтобы заставить уважать свою волю!..
Кулаки горца ободряют меня. Первый, кто позволил себе посмеяться над его головным убором, получил, вероятно, уже давно хороший урок, внушивший уважение и другим, которые с тех пор не мешают моему новому знакомому спокойно праздновать по-своему день, созданный для отдыха.
Но моему удивлению, видимо, не суждено было так скоро окончиться.
– Не окажете ли вы мне честь посетить меня?
Можно ли отказаться от приглашения, сделанного таким образом? Я не возражаю и иду за человеком в цилиндре и сюртуке до пят.
Сезар Эскуффиа, в качестве хозяина, ухаживает за мной. У двери своей хижины он пропускает меня вперед.
– Извините меня, – говорит он.
И, почистив свой цилиндр обшлагом рукава, он заворачивает его в папиросную бумагу и бережно прячет в деревянный сундучок. Потом поочередно приподнимает полы своего сюртука и садится.
– Извините меня, – повторяет он, – обитель мудреца проста, но мудрость обнаруживается всюду, при условии не унижать своей души прикосновением с окружающим.
Я во все глаза гляжу на хозяина помещения, но, не обращая на это внимания, он приводит наизусть на греческом языке два стиха Феогниса, которые Ксенофонт и Платон вкладывают в уста Сократа: Ксенофонт – в «Сократовских достопамятностях», а Платон – в «Меноне» и в «Пире».
Мое удивление сменилось остолбенением; вероятно, у меня глаза вылезли на лоб и широко раскрылся рот. Сезар удостаивает меня перевода:
– «С мудрецами ты научишься мудрости; если же будешь вращаться в обществе дурных людей, то лишишься и того разума, который у тебя есть».
Потом он снисходительно добавляет:
– Это по-гречески.
– По-гречески?!
– Да, по-гречески. Это вас удивляет?
– Признаюсь… вы меня простите, но… в этой стране…
Я что-то такое бормочу и путаюсь во фразах, которые начинаю и не могу докончить. Сезар Эскуффиа и жалеет меня, и с самодовольным видом наслаждается своим торжеством:
– Дитя! – говорит он с непередаваемым ударением.
Слово это в его устах принимает уничижительный оттенок, и он роняет его с едва уловимой гримасой презрения; в тот вечер, к счастью, я не был слишком чувствителен к обидам…
Я разглядываю фигуру этого великолепного экземпляра человеческой породы, эту короткую шею, эту массивную голову, эти коротко остриженные волосы на узком лбу, этот толстый нос, эти мясистые губы, этот властный подбородок. Разумеется, я менее всего рассчитывал найти в нем представителя эллинской расы; на этой физиономии можно легко прочесть все упорство, всю решительность, всю грубость романской расы.
Как бы желая предупредить мои вопросы, он удостаивает меня объяснений:
– Вы сейчас спросите меня, не лишенный ли я кафедры профессор, или священник, не окончивший семинарии, или ученый, изгнанный из университета? Нет, ничего подобного; я просто Сезар Эскуффиа, и по ремеслу я извозчик…
Он садится рядом со мной на сундучок, в котором лежит знаменитый цилиндр. В течение нескольких секунд он наслаждается моим изумлением и добавляет:
– Я посещал школу до одиннадцати лет. До пятнадцатилетнего возраста я пас свиней. Теперь мне пятьдесят лет, и я здесь уже лет десять.
В объяснениях моего собеседника наблюдается пробел: кто скажет, что он делал с пятнадцати до сорока лет? Сезар Эскуффиа сделал большой скачок от ранней юности к зрелому возрасту.
Я осмеливаюсь не без робости задать ему вопрос:
– А где вы учились греческому языку?
– Здесь, сударь, здесь! Жизнь в одиночестве на севере – плохой советчик, но кто обладает закаленным духом, тому не страшны искушения. Это не всегда легко, и я повторяю за Гесиодом:
– «Подойти к обиталищу порока легко даже толпой; дорога туда ровная, и он живет возле нас. Но бессмертные боги поместили на пути к добродетели усталость и пот; длинная и крутая стезя ведет к ней; тяжело по ней ступать вначале, но когда ты уже на вершине, она становится легкой». Впрочем, Эпихарм из Коса учит нас тому же, но в другой форме: «Боги продают нам все блага ценою наших трудов». Счастье покупается; я уплатил за него, я могу им наслаждаться. Здесь я следую примеру моего единственного учителя – Сократа. Я закалил себя против холода и так привык довольствоваться малым, что для удовлетворения моих потребностей мне нужны лишь самые пустяки. В самой скверной среде я держусь в стороне. У меня нет никакого желания навязывать свою волю другим; Ксенофонт говорит нам, что таков был обычай этого великого философа. Подобно ему, я воздержан, никогда не пью, если не чувствую жажды, избегаю напитков, вредящих одновременно желудку, голове и рассудку. Я работаю, потому что Гесиод сказал: «Работа не постыдна, безделье же – позор…»
– И вы изучили греческий язык?
Он с гордостью отвечает:
– Один, сударь, совершенно один.
– Но все же для чего?
– Для чего? Потому что меня одолевала скука, сударь.
Сезар Эскуффиа поднимается. Он снова открывает сундучок, осторожно разворачивает папиросную бумагу и снова гладит ворс своего возлюбленного цилиндра.
Пока он занят выполнением этой важной обязанности, я оглядываюсь и вижу на полке книги, разбросанные как попало между жестянками рыбных консервов и сгущенного молока. Некоторые названия приковывают мое внимание. Изократ: «Советы Демонику»; Еврипид: «Электра»; Эсхил: «Скованный Прометей»; Иоанн Златоуст: «Беседа в защиту Эвтропия»; Платон: «Апология Сократа»; Эзоп: «Избранные басни»… Другие книги валяются вместе с толстыми словарями на опрокинутом ящике, который служит ночным столиком, и мне так и не пришлось узнать, что это за книги.
Сезар Эскуффиа снова надел на голову свой цилиндр, поворачивается ко мне, низко кланяется и говорит:
– Мир полон неожиданностей. Я счастлив, что встретился с вами. Увидимся ли мы опять? Вряд ли. Кто знает свою судьбу? Все рождается, все умирает, говорят одни; ничто не родилось, ничто не погибнет, говорят другие. Кому же верить? Лучше было бы для человека, пожалуй, совсем не появляться на свет, как говорит об этом Софокл в стихах 1215–1220 своего «Эдипа в Колонне».
И Сезар Эскуффиа заканчивает отчетливо и на сей раз на чистейшем французском языке:
– Я вас не задерживаю.
У входа в бар я встречаю Грегори Ленда, который поджидает меня, ухмыляясь и заложив руки в карманы.
По своему обыкновению, он подмигивает мне и кричит, едва завидев меня издали:
– Ну что, дружище! Не чудак ли? Вот уж поистине чудак! Вы, кажется, еще не можете прийти в себя от него? Входите, дружище, входите, я заказал для вас салат из жареных устриц – пальчики оближете.
И Грегори Ленд вталкивает меня в бар, где добрая сотня золотоискателей танцует в сизых клубах дыма под звуки хриплого граммофона.
– Мое турне закончено, я еду опять к побережью и по дороге могу отвезти вас домой.
– Прекрасно!
Под щелканье кнута Грегори и его протяжные «эго-о-о!» сани, как ураган, несутся по лагерю среди прощальных криков столпившихся золотоискателей.
В ста пятидесяти шагах я замечаю грузный силуэт Сезара Эскуффиа, который был поочередно свинопасом, извозчиком, рудокопом, а на Аляске изучал греческий язык, чтобы рассеять одолевавшую его скуку.
Он чинно идет мерным шагом. На первый взгляд можно подумать, что он обуреваем низменными помыслами, но под цилиндром мозг продолжает свою таинственную работу, и крепкие челюсти пережевывают греческие изречения. Я дружески приветствую его, но, погрузившись в свои мечтания, он не слышит. Сани делают крутой поворот, силуэт стушевывается и словно уходит в землю. Я поворачиваюсь на своем сиденье и замечаю там, где-то вдали, цилиндр. Долго еще он выделяется черной точкой на девственной белизне полярных снегов.
Ветер, заметая след, хлещет мне в лицо. Я закрываю глаза, а когда я снова открываю их, на горизонте уже ничего не видно.
Я больше никогда не увижу человека, носившего цилиндр, «потому что сегодня воскресенье», и вдруг без всякой причины мною овладевает безграничная тоска…
– Да вы плачете! Честное слово!
– Я плачу?! Вы с ума сошли, Грегори! Это просто холодный ветер режет мне глаза.
Глава IX
Общественное животное
Вот уже три часа как свирепствует снежный буран. Ветер потрясает хижину, хотя она укрыта и защищена как горой, так и сплошной завесой из елей.
Термометр, по всей вероятности, скоро достигнет 40 градусов ниже нуля, как, конечно, и полагается термометру, которым пользуются по ту сторону 70° северной широты.
На дворе лежат все мои собаки, за исключением Темпеста, моего эскимосского хрипуна, которого я оставил при себе. Потрескивает довольно яркий огонек, и чайник заводит свою песенку.
Темпест растянулся, уткнув морду в лапы. Легкое сопение и легкие вздрагивания его шерстяного покрова, в котором оттаивают ледяные сосульки, свидетельствуют о полном удовольствии, которое он получает.
Не зная, как убить время, я берусь за починку своей кожаной рубахи, которая давно пришла в плачевное состояние. По временам Темпест откроет один глаз, заворчит чуть сильнее и снова продолжает дремать.
Нужно действительно пожить в одиночестве, чтобы понять всю прелесть разговора с человеческим существом. Жесточайшие лишения – ничто по сравнению с ужасной пыткой молчания. Стоять совсем одному перед прекраснейшими пейзажами мира, одному со своей мыслью, которая вертится в мозгу, как зверь на цепи, чувствовать, как постепенно уходит разум, шататься от опьянения, в которое бросает вас одиночество, изголодаться по разговору с каким-нибудь живым существом!..
В Аризоне под палящими лучами солнца, где кактусы вздымаются, словно гигантские канделябры, я разговаривал с моей лошадью; здесь, на последних рубежах цивилизации, я обретаю успокоение, а вместе с ним и мудрость, только разговаривая со своей собакой.
– Не правда ли, Темпест, какая отчаянная погода?..
Темпест ворчит, следовательно, он со мной согласен.
– Такая погода, которую люди – несправедливые, ибо они люди – называют собачьей погодой… или погодой для собак, если это вам больше нравится.
Таково, очевидно, и мнение Темпеста.
Я продолжаю свой монолог:
– Справедливости не существует. Что такое, в сущности, справедливость? Слово. Ну а судьи? Меньше, чем ничто, – люди. Если бы ты их увидел, Темпест! Там, у меня, в стране цивилизованных людей, они одеваются в красное или черное, а под подбородком им подвязывают маленькие белые детские нагруднички. Не подумайте, что это делается потому, что они дети или просто впали в детство, – нет, таков обычай, а в британских владениях на них вот этакие высокие парики…
Мой жест или мои рассуждения пугают Темпеста, который поднимается и показывает свои клыки. Его некультурная душа никогда не оценит всех красот нашего мира.
Перейдем на другую тему.
– Довольно, убери свои варварские клыки, ведь я все же прав. Если бы справедливость существовала, то ты сейчас находился бы на дворе вместе с твоими товарищами, уснувшими под снегом, а не поджаривал бы себе лапы здесь, у огня!..
Темпест мало интересуется дальнейшим, он даже не приоткрывает больше своего левого глаза. Уши его опущены, и он вслух грезит перед извивающимися огненными языками. Вдруг он поднимается, насторожив уши и открыв пасть, глухо три раза лает и слегка опускает уши. Насторожился… Снова лает, затем бросается к двери…
Я прислушиваюсь – ничего! Только ветер, кружась, продолжает свистеть.
– Что за нелепая мысль – захотеть выйти… Ну что же, иди в таком случае, если ты так настаиваешь.
Я открываю дверь. Снежный вихрь бьет меня по лицу.
– Подлая собака!
Темпест вылетает как стрела; на дворе разбуженные собаки воют ему в унисон.
– Подлая собака!
Повторив ругательство, я направляюсь, чтобы закрыть дверь, как вдруг слышу ясный голос, обращенный ко мне:
– Эй, отзовите же вашу собаку! Это какой-то демон, который сожрет меня живьем!
Я выбегаю на двор и свистом призываю Темпеста, который становится возле меня, скалит клыки и все продолжает ворчать.
– Кто там?
– Свой, Мак О’Нил! Ну и погода, товарищ!
– Войдите и погрейтесь.
– Отказаться трудно. Подождите минутку. Сюда, Флэш, сюда, Дарк! Придержите же, ради бога, вашего демона! Они сейчас ведь подерутся.
Я беру за шиворот Темпеста, который собирается уже кинуться и, втолкнув его в хижину, закрываю дверь.
Почуяв свободу, собаки моего гостя быстро роют себе в снегу ямы и исчезают в них.
О’Нил снимает лыжи и встряхивает свой плащ. Мы входим. Нас охватывает приятная теплота. Путник облегченно вздыхает, выдирая из усов нависшие ледяные сосульки.
Пьем чай и обильно поливаем его виски. Много виски и очень мало чаю – так понимает это дело мой гость.
– Я подумал, молодой человек, что вам здесь скучно в одиночестве, вот я и пришел…
– Спасибо.
– Не стоит благодарности. Мне тоже было скучно. На меня напала черная… как бы это сказать по-французски?.. Ну, знаете, эта ужасная черная штука…
– Меланхолия?
– Вот-вот! Черная меланхолия. Ведь сегодня сочельник.
– Ах да! Ведь и правда – Рождество, а я и забыл.
– Тогда я взял свои лыжи и пришел. Шестнадцать миль – это пустяки. Река Стюарт вся покрыта толстым слоем льда. Бежать по ней прекрасно, но за Карибу-Кид ветер дует как-то сбоку, поэтому было не особенно тепло…
Он протягивает руки к огню, потом трет их и начинает хрустеть пальцами. Вытянув к огню закутанные в шкуры голубого песца ноги, он приступает к отогреванию их и при этом рассказывает мне, что ему тоже было тяжело оставаться в одиночестве. Я гляжу на незнакомца; он весь охвачен радостью жизни, в глазах появляется блеск. Он говорит, говорит, говорит.
Однако он не интеллигент, этот субъект. Это прекрасный экземпляр животного, созданного для борьбы с жизнью.
Мысль, порхая во все стороны, ушибла свои крылья об узкую клетку этого мозга. И человек прошел в ужасную погоду шестнадцать миль, бежал прямо к одной точке, сто раз сталкиваясь со смертью, лишь бы не оставаться одному в этот вечер, одному со своей мыслью, которая гложет, мыслью, которая сверлит, мыслью, которая лишает рассудка, мыслью, которая убивает.
Наконец человек умолкает. Он молча курит свою трубку мерными затяжками, и голова его тонет в голубоватом дыму. Веки его полузакрыты. Еще немного, и он заворчит от удовольствия, как Темпест.
Человек – животное общественное. И то, которое сейчас передо мной, теперь вполне счастливо.
Когда Мак О’Нил кончил курить, он выколотил о каблук свою коротенькую трубку и промолвил:
– Да, я чуть не околел со скуки! Беседовать с этими собаками совсем не так весело. Вот уже сорок дней, как проехал с почтой Грегори Ленд. Он оставил мне один номер «Почтового курьера» из Сиэтла. Я знаю его наизусть и мог бы вам процитировать все статьи и объявления. Это он, Грегори, сообщил мне, что вы разбили свою стоянку на Стюарте. Он мне также сказал, что вы француз. Я – шотландец (при этих словах Мак О’Нил приподнимает свою котиковую шапку), я люблю Францию, я не жую резинку, я… Вот я и подумал: вероятно, ему так же весело, как и мне, этому парню. Разве поехать навестить его?.. И вот я здесь… Как здесь платит земля? – добавил он спустя минутку.
– Гм! От восьми до девяти центов с таза…
Мак О’Нил удивленно свистнул:
– Глядите-ка, что она дает у меня!
И на ладони своей мозолистой руки он протягивает мне самородки золота величиной с миндалину.
Когда я оценил их, он снова опускает их в небольшой полотняный мешочек из-под табака. Затягивая шнурки и тщательно завязывая их, он со вздохом говорит:
– Вот с этим мы прекрасно справили бы Рождество в Глазго. Я знаю там в нижней части города кабачок, где продают пиво цвета меда, а о ветчине уж и говорить не приходится!..
Воспоминания о былых пирушках вереницей тянутся перед ним, он хлопает себя по бедрам и заливается громким хохотом.
– Однажды, когда я жил еще у отца, мы подстрелили молодого вепря в усадьбе лорда Деншира. Между нами будь сказано, мы подстрелили его, конечно, без разрешения и уплели его – вепря, конечно, а не лорда – с сосисками и каштанами. Всю округу созвали на пиршество, и, как это полагается, каждый приволок свой подарок. А виски, старого доброго шотландского виски было до отвалу.
И Мак О’Нил прищелкнул языком.
– В камине пылал целый ствол дерева. Пламя отсвечивало на лицах девушек, которые смеялись, потому что парни их щекотали. На другое утро мы с отцом оказались за столом одни.
– А соседи?
– Соседи? Они все лежали под столом.
И золотоискатель закончил:
– Вот уж поистине было прекрасное Рождество!..
Потом мой гость передает мне и другие воспоминания…
Но я больше не слушаю; его голос звучит словно монотонное мурлыканье. Во сне ли это происходит или наяву?
Выслушанные воспоминания вызывают и во мне длинную вереницу забытых теней…
Рождественский Дед Мороз, нагруженный столь долгожданными игрушками, куклами для моих сестер, книжками для меня. Я ясно вижу красные переплеты, позолоченные обрезы их и сияющие названия: «Ледяной сфинкс», «Капитан Гаттерас»…
У меня с детства влечение к тайне полярных областей…
Великое белое безмолвие!
А? Что? Да это не грезы… Обледенелые равнины, вечные снега… Получай, чего хотел…
Темпест снова уселся у огня и ворчит с довольным видом. Мак О’Нил занят изготовлением какого-то мудреного коктейля и все говорит, говорит…
Вспоминается еще одно Рождество в студенческие годы, в аристократическом городе, где небо милостиво.
Усыпанное звездами небо, и целая процессия молодежи, распевающей скабрезные песенки. Я вижу вас, друзья мои: вот Брош, такой забавный в пьяном виде; вот Бартек с его сияющей улыбкой; а вот Сапиенс, Катаклум… Я вижу и вас, Лиза, Марго, Дэзи, Муретта – живых куколок, пленявших наши двадцатилетние сердца.
Трезвон колоколов, тех колоколов, которые пели в день моего рождения и рыдали над гробом моего отца… Ветер принес ко мне сюда гул их мощных голосов, пролетевший над морями, пролетевший над землями и за восемь тысяч миль наполнивший радостью мою душу и ярким светом мое сердце.
– Эй, послушайте, милейший, вы, кажется, спите стоя…
И, встряхнув меня, Мак О’Нил пробуждает меня к действительности.
Затем он выходит, захватив с собой кнут из оленьей кожи, чтобы оттрепать своих собак, которые воют на дворе в унисон с вьюгой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?