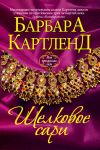Текст книги "Покойный Маттио Паскаль"

Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Луиджи Пиранделло
Покойный Маттиа Паскаль
1. Первая посылка силлогизма
Я знал очень мало, а достоверно мне было известно, пожалуй, только одно: меня зовут Маттиа Паскаль. И я этим пользовался. Если кто-нибудь из друзей или знакомых до такой степени терял рассудок, что приходил просить у меня совета или указания, я пожимал плечами, прищуривался и отвечал:
– Меня зовут Маттиа Паскаль.
– Спасибо, дорогой. Я это знаю.
– И тебе этого мало?
По правде сказать, этого было мало даже мне самому. Но тогда я еще не понимал, каково человеку, который не знает даже этой малости и лишен возможности ответить при случае:
– Меня зовут Маттиа Паскаль.
Иные, пожалуй, посочувствуют мне (это ведь так легко!), представив себе горе несчастного, который внезапно узнает, что… ну, словом, что у него никого нет – ни отца, ни матери, и что ему самому неизвестно, жил он или не жил. Конечно, такие люди начнут возмущаться (это ведь еще легче!) испорченностью нравов и пороками нашего жалкого века, обрекающего ни в чем не повинного бедняка на безмерные страдания.
Ну что ж, слушайте! Я мог бы представить генеалогическое древо, изображающее происхождение моей семьи, и Документально доказать, что я знал не только своих родителей, но и своих предков, равно как их не всегда похвальные дела в давно прошедшие времена.
А что дальше?
А вот что: все происшедшее со мной очень странно и совершенно исключительно, да, да, настолько исключительно и странно, что я решил рассказать об этом.
Почти два года подряд я был хранителем книг, вернее – охотником за крысами в библиотеке, которую завещал нашему городу некий монсиньор Боккамацца, скончавшийся в 1803 году. Нет сомнения, что этот прелат плохо знал привычки и характер своих сограждан, если питал надежду, что дар его постепенно пробудит в их душах любовь к знанию. Могу засвидетельствовать, что такая любовь не пробудилась до сих пор, и говорю это в похвалу моим землякам. Городок был так мало признателен Боккамацце за его дар, что не подумал даже воздвигнуть ему статую – хотя бы бюст, а книги много лет валялись кучей в большом сыром складе. Потом их вытащили оттуда – можете себе представить, в каком виде! – и перевезли в отдаленную часовенку Санта-Мария Либерале, где, не знаю уж почему, запрещено было отправлять богослужение. Здесь их без всяких инструкций вверили, как бенефиций или синекуру, некоему бездельнику с хорошей протекцией, чтобы тот за две лиры в сутки проводил в библиотеке несколько часов в день, глядя или даже не глядя на книги и дыша запахом тлена и плесени.
Такой жребий выпал и мне. С первого же дня я проникся настолько глубоким презрением к книгам, печатным и рукописным (например, к некоторым старинным фолиантам нашей библиотеки), что ни тогда, ни теперь ни за что бы не взялся за перо. Однако я уже сказал выше, что считаю свою историю действительно странной и даже поучительной для любопытного читателя, если он, осуществив давнюю надежду покойного монсиньора Боккамаццы, забредет в библиотеку, где будет храниться моя рукопись. Впрочем, рукопись эта может быть выдана ему для прочтения не раньше чем через пятьдесят лет после моей третьей, последней и окончательной смерти.
Ведь в данный момент (видит бог, мне бесконечно горько это сознавать!) я мертв. Да, да, я умер уже дважды – в первый раз по ошибке, а во второй… Впрочем, слушайте все по порядку.
2. Вторая посылка силлогизма (философская) вместо извинения
Мысль или, вернее, совет писать мне подал мой уважаемый друг дон Элиджо Пеллегринотто, нынешний хранитель книг Боккамаццы, которому я поручу свою рукопись, как только ее закончу, если это вообще когда-нибудь произойдет.
Я пишу эти записки в заброшенной часовенке при свете свисающего с купола фонаря, в апсиде, отведенной для библиотекаря и отделенной от зала низкой деревянной решеткой с маленькими пилястрами. Дон Элиджо тем временем пыхтит, выполняя добровольно взятую на себя обязанность и пытаясь навести хотя бы приблизительный порядок в этом книжном вавилонском столпотворении. Боюсь, однако, что ему не удастся довести дело до конца. Никто из прежних библиотекарей не пытался выяснить, хотя бы даже по корешкам, какого рода книги подарил городу прелат. Считалось, что все они – душеспасительного свойства. Теперь Пеллегринотто, к великой своей радости, обнаружил в библиотеке книги на самые разные темы; а так как их перевозили и сваливали как попало, путаница получилась невообразимая. Книги, оказавшиеся по соседству, склеились, образовав самые немыслимые комбинации. Дон Элиджо рассказывал мне, например, что ему стоило большого труда отделить «Жизнь и смерть Фаустино Матеруччи, бенедиктинца из Поли-Роне, которого кое-кто именует блаженным», биографию, изданную в Мантуе в 1625 году, от весьма непристойного трактата в трех книгах «Искусство любить женщин», написанного Антонием Муцием Порро в 1571 году. Из-за сырости переплеты этих двух книг по-братски соединились. Кстати, во второй книге этого непристойного трактата подробно говорится о жизни и любовных приключениях монахов.
Много занятных и приятнейших сочинений извлек дон Элиджо Пеллегринотто из шкафов библиотеки, целый день просиживая на лесенке, взятой им у фонарщика. Иногда, найдя какую-нибудь интересную книгу, он ловко бросал ее сверху на громадный стол, стоявший посредине часовенки; эхо гулко вторило удару, поднималась туча пыли, из которой испуганно выскакивало несколько пауков; я прибегал из апсиды, перепрыгивая через загородку, и сначала той же книгой прогонял пауков с пыльного стола, а потом открывал ее и начинал просматривать.
Так постепенно я приохотился к подобного рода чтению. Дон Элиджо говорил мне, что моя книга должна быть написана по образцу тех, которые он находит в библиотеке, то есть должна иметь свой особый аромат. Я пожимал плечами и отвечал, что эта задача не для меня. Кроме того, меня удерживало еще кое-что.
Вспотевший и запыленный, дон Элиджо спускался с лестницы и шел подышать воздухом в обнесенный заборчиком из прутьев и колышков огородик, который ему удалось развести позади апсиды.
– Знаете, мой уважаемый друг, – сказал я ему однажды, сидя на низенькой садовой стене и опираясь подбородком о набалдашник трости, в то время как дон Элиджо окапывал латук, – по-моему, теперь не время писать книги даже для забавы. В отношении литературы, как и в отношении всего остального, я должен повторить свое любимое изречение: «Будь проклят Коперник!»
– Ой-ой-ой, при чем тут Коперник? – воскликнул дон Элиджо, выпрямляясь и поднимая раскрасневшееся от работы лицо, затененное соломенной шляпой.
– При том, дон Элиджо, что, когда Земля не вертелась…
– Ну вот еще! Она всегда вертелась!
– Неправда! Человек этого не знал, а значит, для него она не вертелась. Для многих она и теперь не вертится. На днях я сказал это одному старику крестьянину, и знаете, что он мне ответил? Что это удобное оправдание для пьяниц. Простите, но и вы сами не имеете, в конце концов, права сомневаться в том, что Иисус Навин остановил солнце. Впрочем, довольно об этом. Я хочу лишь сказать, что, когда Земля не вертелась, человек, одетый греком или римлянином, выглядел весьма величественно, чувствовал себя на высоте положения и наслаждался собственным достоинством; по этой причине ему и удавались обстоятельные рассказы, полные ненужных подробностей. Как вы сами учили меня, у Квинтилиана сказано, что история существует для того, чтобы писать ее, а не для того, чтобы переживать. Так или нет?
– Так, – согласился дон Элиджо, – но верно и другое: никогда не писали более обстоятельных книг, никогда не входили в более ничтожные подробности, как с тех пор, когда, по вашим словам, Земля начала вертеться.
– Ну хорошо! «Господин граф поднимался рано, точно в половине девятого… Госпожа графиня надела сиреневое платье с роскошной кружевной отделкой у шеи… Терезина умирала с голоду, Лукреция изнемогала от любви…» О, господи, да какое мне до этого дело! Разве не находимся все мы на невидимом волчке, опаленном лучами солнца, на безумной песчинке, которая вертится и вертится, сама не зная почему, без всякой цели, словно ей просто нравится вертеться, чтобы нам было то чуточку теплее, то чуточку холоднее? А после шестидесяти-семи-Десяти ее оборотов мы умираем, причем нередко с сознанием того, что жизнь наша – вереница мелких и глупых поступков. Милый мой дон Элиджо, Коперник, Коперник – вот кто безвозвратно погубил человечество. Теперь мы все постепенно приспособились к концепции нашей бесконечной ничтожности, к мысли, что мы, со всеми нашими замечательными изобретениями и открытиями, значим во вселенной меньше чем ничто. Какую же ценность могут иметь рассказы, не говорю уж о наших личных страданиях, но даже о всеобщих бедствиях? Теперь это только история ничтожных червей. Вы читали о небольшой катастрофе на Антильских островах? Нет? Бедняжка Земля, устав бесцельно вертеться по желанию польского каноника, слегка вспылила и изрыгнула чуточку огня через один из своих бесчисленных ртов. Кто знает, чем вызвано это разлитие желчи? Может быть, глупостью людей, которые никогда не были так надоедливы, как ныне. Ладно. Несколько тысяч червяков поджарилось. Будем жить дальше. Кто вспомнит о них?
Дон Элиджо Пеллегринотто все же заметил мне, что с какой бы жестокостью мы ни старались сокрушить, уничтожить иллюзии, созданные для нашего блага заботливой природой, нам это не удастся: человек, к счастью, забывчив.
Это правда. В иные ночи, отмеченные на календаре, наш муниципалитет не зажигает фонарей и часто – в пасмурную погоду – оставляет нас в темноте.
А это доказывает следующее: в глубине души мы и теперь верим, что луна горит в небе только для того, чтобы освещать нас ночью, как солнце освещает днем, а звезды – чтобы радовать нас великолепным зрелищем. Именно так. Нам часто хочется забыть, что мы лишь ничтожные атомы и что у нас нет оснований уважать и ценить друг друга, ибо мы способны драться из-за кусочка земли и грустить о таких вещах, которые показались бы нам бесконечно мелкими, если бы мы по-настоящему прониклись сознанием того, что мы собой представляем.
Несмотря на это предуведомление, я, ввиду необычности моей истории, все-таки расскажу о себе, но расскажу насколько возможно короче, сообщая лишь те сведения, которые сочту необходимыми.
Некоторые из них, конечно, представят меня не в очень-то выгодном свете; но я сейчас нахожусь в таких исключительных условиях, что могу считать себя как бы стоящим за пределами жизни, а следовательно, свободным от каких-либо обязательств и какой-либо щепетильности. Итак, начнем.
3. Дом и крот
Вначале я чересчур поторопился, сказав, что знал своего отца. Я его не знал. Мне было четыре с половиной года, когда он умер. Тридцати восьми лет от роду он поехал по торговым делам на одном из своих кораблей на Корсику и не вернулся: он умер там в три дня от злокачественной лихорадки, оставив порядочное состояние жене и двум детям – Маттиа (которым я был и когда-нибудь снова стану) и Роберто, родившемуся на два года раньше меня.
Кое-кто из местных старожилов любит порой намекнуть, что богатство моего отца (которое теперь не должно бросать на него тень, потому что оно целиком перешло уже в другие руки) было, скажем мягко, таинственного происхождения.
Говорят, что он добыл его в Марселе, обставив в карты капитана английского торгового судна, который, спустив все деньги, какие у него были с собой (вероятно, порядочную сумму), проиграл также большое количество серы, погруженной в далекой Сицилии для одного ливерпульского негоцианта, зафрахтовавшего пароход, – знают даже это! А имя? Это никого не интересует; после проигрыша капитан в отчаянии снялся с якоря, вышел в море и утопился, так что по прибытии в Ливерпуль тоннаж парохода уменьшился на вес капитана. Итак, балластом удачи моего отца служила зависть его сограждан.
Мы владели землей и домами. Мой отец был предприимчив и хитер и потому не занимался коммерцией в Каком-нибудь одном определенном месте, а путешествовал на своем двухмачтовом суденышке, покупая, где ему было удобнее и выгоднее, и сейчас же перепродавая самые разнообразные товары; однако он не увлекался слишком большими и рискованными операциями и постепенно обращал свою прибыль в земли и дома здесь, в своем родном местечке, где, вероятно, рассчитывал вскоре отдохнуть в мире и довольстве с женой и детьми, наслаждаясь достатком, добытым с таким трудом. Так, он купил сначала участок Дуэ-Ривьере, богатый оливами и шелковицей, потом имение Стиа, щедро орошаемое ручьем, на котором он выстроил мельницу, потом всю возвышенность Спероне – лучшие виноградники в нашей округе – и, наконец, Сан-Роккино, где возвел прелестную виллу. В городке, кроме дома, в котором мы жили, отец приобрел еще два других, а также большое здание, приспособленное ныне под верфь.
Его почти скоропостижная смерть принесла нам разорение. Моя мать, не способная сама управлять наследством, вынуждена была довериться человеку, которому отец оказал столько благодеяний, что его общественное положение совершенно изменилось. Этому человеку перепало от нас так много, что он должен был бы питать к нам хоть чуточку признательности, которая не потребовала бы от него никаких жертв, разве что немного рвения и честности.
Святая женщина – моя мать! От природы тихая и застенчивая, она не знала жизни и людей и рассуждала совсем как ребенок. Она говорила в нос и так же смеялась, хотя, словно стыдясь своего смеха, неизменно сжимала при этом губы. Очень хрупкая, она после смерти отца стала прихварывать, но никогда не жаловалась на свои страдания; думаю, что она никогда даже мысленно не досадовала на них, покорно принимая все как естественное следствие своего несчастья. Может быть, она просто думала, что ей следовало бы умереть с горя, и благодарила бога за то, что он, ради ее детей, оставляет жизнь такому измученному и жалкому существу, как она.
К нам она питала почти болезненную нежность, трепетную и боязливую. Она хотела, чтобы мы постоянно были около нее, словно боялась потерять нас, и стоило кому-либо из нас на минуту отлучиться, как прислугу немедленно отряжали разыскивать пропавшего по всему нашему большому дому.
Она слепо подчинялась мужу и, лишившись его, почувствовала себя потерянной в этом мире. Теперь она выходила из дому только рано утром по воскресеньям, когда отправлялась к мессе в ближайшую церковь в сопровождении двух старых служанок, с которыми она обращалась как с родственницами. Занимали мы в большом доме всего три комнаты; в остальных, за которыми кое-как присматривала прислуга, мы шалили. Обветшалая мебель и выцветшие занавеси в этих комнатах источали затхлый запах, свойственный старинным вещам и кажущийся дыханием другой эпохи; я вспоминаю, что нередко подолгу осматривался там вокруг, изумленный и подавленный молчаливой неподвижностью этих предметов, столько лет стоявших без движения, без жизни.
Одной из самых частых посетительниц мамы была сестра отца, старая дева с глазами, как у хорька, ворчливая, смуглая, гордая. Звали ее Сколастика. Но она никогда не оставалась у нас подолгу, потому что во время разговора внезапно приходила в ярость и убегала, ни с кем не попрощавшись. Ребенком я ее очень боялся. Я глядел на нее во все глаза, в особенности когда она в бешенстве вскакивала и начинала кричать моей матери, гневно топая ногой:
– Слышишь? Под полом яма. Это крот! Крот!
Она намекала на нашего управляющего Маланью, который исподтишка рыл яму у нас под ногами. Тетя Сколастика (это я узнал позже) хотела, чтобы мать во что бы то ни стало вторично вышла замуж. Обычно золовкам такие мысли не приходят в голову и таких советов они не дают. Но у Сколастики было острое и гордое чувство справедливости; оно-то, в еще большей мере, чем любовь к нам, не позволяло ей спокойно смотреть, как этот человек безнаказанно обкрадывает нас. Вот почему, сознавая, как непрактична и слепо доверчива моя мать, Сколастика видела лишь один выход из положения – второй брак. И она прочила маме в мужья одного беднягу по имени Джероламо Помино. Он был вдовец и жил с сыном, который здравствует поныне; зовут его, как и отца, Джероламо; он мой большой друг и даже больше чем друг, как будет ясно из дальнейшего. Еще мальчиком он приходил к нам вместе с отцом и приводил в отчаяние меня и моего брата Берто. Отец его в юности долго добивался руки тети Сколастики, но она и слышать не хотела о нем, как, впрочем, не хотела и никого другого, и не потому, что от природы была не способна любить, но потому, что, как она сама признавалась, даже отдаленное предположение об измене, хотя бы мысленной, любимого человека могло довести ее до преступления. Все мужчины, по ее мнению, были притворщики, мошенники и обманщики. И Помино тоже? Нет. Помино – нет. Но она убедилась в этом слишком поздно. За каждым мужчиной, который к ней сватался, а потом женился на другой, ей удавалось узнать какой-нибудь изменнический поступок, чему она свирепо радовалась. За Помино же таких грехов не водилось: несчастный был жертвой своей жены.
Почему же она не хотела выйти за него теперь? Вот еще! Ведь он уже вдовец! Он принадлежал другой женщине, о которой он, может быть, станет по временам вспоминать. И потом… Ну конечно, это же видно за милю, несмотря на всю его робость! Бедный синьор Помино влюблен, да, влюблен, и понятно в кого!
Да разве моя мать могла согласиться на такой брак? Он казался ей самым настоящим кощунством. К тому же бедняжка и не верила, что тетя Сколастика говорит серьезно; она смеялась своим неповторимым смехом над гневными вспышками золовки и протестами бедного Помино, который обычно присутствовал при этих спорах и которого старая дева осыпала самыми преувеличенными похвалами. Сколько раз он восклицал, ерзая на стуле, как на ложе пытки:
– Боже всемилостивый!
У этого чистенького, аккуратненького человечка с добрыми голубыми глазками была одна слабость – он пудрился и, как мне кажется, даже слегка подрумянивал щеки; он явно гордился тем, что у него до преклонных лет сохранились волосы, которые он заботливо взбивал и постоянно охорашивал.
Не знаю, как пошли бы наши дела, если бы моя мать, не ради себя, а лишь заботясь о будущем своих детей, последовала совету тети Сколастики и вышла замуж за Помино. Несомненно одно: они, во всяком случае, шли бы не хуже, чем при этом кроте, синьоре Маланье.
Когда мы с Берто подросли, большая часть состояния уже исчезла. Спаси мы из когтей вора хотя бы остаток, это позволило бы нам жить если уж не в полном довольстве, то по крайней мере не нуждаясь. Но мы были лентяи и ни о чем не желали думать, продолжая и взрослыми жить так, как мать приучила нас с детства.
Мы у нее не ходили даже в школу. Нашим воспитателем был некто Циркуль. По-настоящему его звали не то Франческо, не то Джованни дель Чинкуе, но всем он был известен как Циркуль и так к этому привык, что сам стал именовать себя этим прозвищем.
Это был омерзительно худой и невероятно высокий человек. Боже мой, он казался бы еще выше, если бы его спина не изгибалась под самым затылком внезапным небольшим горбиком, словно ей наскучило тонким ростком тянуться вверх. Шея у него была как у ощипанного петуха, а громадный кадык непрерывно двигался то вверх, то вниз. Циркуль вечно старался закусить губы, словно для того, чтобы удержать и поглубже запрятать постоянно пробивавшийся сквозь них резкий смешок. Но все его усилия оказывались тщетными: если этому смешку не удавалось сорваться со сжатых губ, он издевательски и зло светился в глазках Циркуля.
Этими маленькими глазками он видел у нас в доме многое, чего не замечали ни мы, ни мама. Но он молчал, может быть, считая, что вмешиваться – не его дело, втайне злобно наслаждаясь тем, что видел.
Мы делали с ним все, что хотели, и он позволял нам все, а затем, словно желая успокоить свою совесть, выдавал нас, когда мы меньше всего этого ожидали.
Однажды, например, мама велела ему повести нас в церковь; наступала Пасха, и мы готовились исповедоваться. После исповеди мы должны были на минутку заглянуть к больной жене Маланьи, затем вернуться прямо домой. Но, едва очутившись на улице, мы предложили Циркулю сделку: мы ставим ему литр хорошего вина, а он разрешает нам вместо церкви и посещения Маланьи пойти в Стиа за птичьими гнездами. Циркуль согласился. Он был очень доволен, потирал руки, глаза его сверкали. Затем он выпил вино, и мы направились в имение. Он бегал с нами три часа как сумасшедший, помогал нам, лазил с нами по деревьям. Но вечером, когда мы вернулись домой и мама спросила, исповедовались ли мы и были ли у Маланьи, он с самым невинным видом ответил:
– А вот сейчас расскажу…
И подробно рассказал обо всем, что мы делали.
И хотя мы каждый раз мстили за предательство, ничто не помогало. А ведь месть наша часто бывала отнюдь не шуточной. Например, однажды вечером, зная, что Циркуль в ожидании ужина дремлет на сундуке в передней, мы с Берто тихонько соскочили с постелей, куда нас в наказание уложили раньше обычного, раздобыли оловянную клистирную трубку в две пяди длиной и наполнили ее мыльной водою из таза с бельем; вооруженные таким образом, мы тихонько подошли к учителю, приставили трубочку к ноздре и – пффф!.. Циркуль подскочил чуть ли не до потолка. Нетрудно представить себе, как мы преуспевали в науках под руководством подобного наставника. Конечно, виноват был не один Циркуль; он все же старался чему-то нас выучить и, не имея представления о том, что такое метод и дисциплина, изобретал всевозможные уловки, чтобы заставить нас хоть как-то сосредоточиться. Со мной ему это удавалось сравнительно часто, потому что я по натуре гораздо впечатлительней брата. Но эрудиция у Циркуля была очень своеобразная, забавная и странная. Он, например, был весьма сведущ по части игры слов, знал фиденцианскую и макароническую, бурлескную и ученую поэзию,[1]1
Фиденцианская поэзия – в сущности, разновидность макаронической. Получила наименование от литературного псевдонима своего основоположника, графа Камилло Скроффа Фиденцио Глоттокризио Лудима-Гистро (1527–1565). В основе фиденцианской поэзии лежит сатирическое пародирование стиля и языка псевдоученых педантов. Макароническая поэзия возникла в Италии в конце XV века в среде гуманистов, развивалась в XVI и XVII веках. Отличительные ее черты: пародийность, острая сатиричность, зачастую весьма непристойный словарь (и соответственная тематика), смешение (в плане пародии и сатиры) итальянского и латинского языков. Бурлескная поэзия – от итал. burla (шутка). Одно из общих наименований всякой шуточной, комической поэзии, основанной на пародийном снижении всех высоких литературных жанров. Возникла еще в античную эпоху, в новое же время получила особенное развитие в XVII–XVIII веках. Ученая поэзия – общее наименование поэтических упражнений ученых гуманистов Ренессанса и литераторов XV–XVI веков, где не было подлинного творческого вдохновения, но зато выставлялось на первый план знакомство авторов с латинской и греческой филологией, мифологией, философией, где подражали античной метрике и т. п. К ученой поэзии относятся также произведения дидактического характера (типа ломоносовского послания Шувалову «О пользе стекла»).
[Закрыть] мог без конца декламировать стихи – тавтограммы и липограммы, крипты, центоны и палиндромы[2]2
Тавтограммы – стихи, сплошь построенные на одной аллитерации (каждое слово стихотворения любой длины начинается с одной и той же буквы). Липограммы – стихи, построенные на словах, в которых отсутствует одна какая-либо буква. Крипты, или «кусочные» стихи, – стихи, в которых каждая строка распадается на две половины. Если эти половинки строк читать одну за другой, получается самостоятельное стихотворение. Таким образом, каждое стихотворение представляет собой три отдельных стихотворения: одно, состоящее из левых половинок, другое из правых половинок и, наконец, третье, «полное» стихотворение, в котором обе половинки читаются как одна строка. Центоны – стихи, имеющие определенный смысл, но составленные из различных стихотворных строк разных поэтов. Палиндромы – стихи, состоящие из строчек, которые могут читаться одинаково справа налево и слева направо.
[Закрыть] – словом, произведения всех жанров, в которых подвизались поэты-празднословы, и немало таких шуточных стихотворений сочинял сам.
Помню, что однажды в Сан-Роккино он привел нас к холму, отличавшемуся особыми акустическими свойствами, и начал вместе с нами повторять свое «Эхо»:
Ужель она меня навек забудет?
(Будет!)
А может, не любила никогда?
(Да!)
Насмешник, кто ты? Мне ведь не до смеха!
(Эхо!)
Он заставлял нас разгадывать «Загадки-октавы» Джулио Чезаре Кроче,[3]3
Кроче Джулио Чезаре (1550–1609) – итальянский поэт, сатирик и юморист, писавший преимущественно на болонском диалекте.
[Закрыть] а также «Загадки-сонеты» Монети[4]4
Монети Франческо (1635–1712) – итальянский монах и сатирический поэт, славившийся как ловкий версификатор.
[Закрыть] и другого бездельника, который нашел в себе мужество скрыться под псевдонимом Катона Утического. Он переписал их чернилами табачного цвета в старую тетрадку с пожелтевшими листами.
– Послушайте-ка вот это стихотворение Стильяни.[5]5
Стильяни Томмазо (1573–1651) – итальянский поэт, декларативно выступавший против крайнего формализма «барочных» поэтов и их усложненной изысканной образности, но на практике проводивший в своем творчестве ту же линию.
[Закрыть] Как красиво! Ну, кто догадается? Слушайте:
Я и одна, и две. Но в должный час
Что было два – единым вдруг бывает.
Нет тем числа на голове у нас,
В кого пятью меня одна вонзает.
Я также в рот огромный разрослась,
Что без зубов еще больней кусает.
И два пупка даны судьбою мне,
И пальцы на очах, и очи на ступне.
Мне кажется, я и сейчас вижу, как он декламирует, полузакрыв глаза, сияя от восторга и прищелкивая пальцами.
Моя мать полагала, что нам вполне достаточно того, чему учит нас Циркуль; может быть, слушая, как мы декламируем загадки Кроче или Стильяни, она считала даже, что мы знаем слишком много. Однако тетя Сколастика, которой не удалось выдать маму замуж за своего любимчика Помино, взялась за Берто и меня. Мы же под защитой мамы не поддавались ей, и это приводило ее в такую ярость, что если бы ей удалось остаться с нами наедине, без свидетелей, она наверняка содрала бы с нас кожу. Помню, однажды, выбегая, как обычно, в бешенстве из нашего дома, она столкнулась со мною в одной из нежилых комнат; схватив меня за подбородок, она из всех сил сжала его пальцами и, все ближе наклоняясь к моему лицу и сверля взглядом мои глаза, несколько раз повторила: «Красавчик! Красавчик! Красавчик!» – а затем, странно хрюкнув, отпустила меня и прорычала сквозь зубы: «Собачье отродье!»
Меня она почему-то преследовала больше, чем Берто, хотя я несравненно внимательнее брата относился к сумасбродным поучениям Циркуля. Ее, вероятно, особенно раздражали безмятежное выражение моего лица и большие очки, которые меня заставляли носить, чтобы исправить один глаз, неизвестно почему смотревший куда-то в сторону.
Для меня эти очки были настоящей пыткой. В один прекрасный день я выбросил их и позволил своему глазу смотреть туда, куда ему больше нравится. Но если бы даже мой глаз не был косым, это не прибавило бы мне красоты. Я был совершенно здоров, и этого мне было достаточно.
В восемнадцать лет мое лицо заросло рыжеватой кудрявой бородищей в ущерб носу, который у меня был маловат и почти терялся между бородой и большим строгим лбом.
Если бы человеку было дано самому выбирать себе нос, соответствующий лицу, или если бы мы при виде какого-нибудь бедняги, подавленного слишком большим носом на тощем личике, могли сказать ему: «Этот нос мне подходит, я его беру», – я, пожалуй, переменил бы его, а заодно и глаза и другие части моей особы. Но, отлично зная, что это невозможно, я примирился со своими прелестями и больше о них не думал.
Напротив, Берто, который был красив и телом, и лицом (по крайней мере в сравнении со мной), не отходил от зеркала, всячески охорашивал себя и без конца тратил деньги на новые галстуки, на все более тонкие духи, на белье и одежду. Чтобы поддразнить его, я однажды взял из его гардероба новенький, с иголочки, фрак, элегантнейший черный бархатный жилет и цилиндр и в таком виде отправился на охоту.
Батта Маланья между тем плакался матери на плохие урожаи, вынуждавшие его делать большие долги, чтобы оплачивать наши чрезмерные траты, и на большие расходы, которые неизбежны, если хочешь содержать имение в порядке.
– Мы получили еще один серьезный удар! – объявлял он всякий раз, когда входил.
Туман погубил на корню все оливки в Дуэ-Ривьере, а филлоксера – виноград в Спероне. Нужно посадить американскую лозу, которая может противостоять этой болезни. Значит – снова долги. Потом совет – продать Спероне, чтобы освободиться от осаждающих его, Маланью, ростовщиков. И так были проданы сначала Спероне, затем Дуэ-Ривьере, потом Сан-Роккино. Оставались еще дома и имение Стиа с мельницей, но моя мать со дня на день ждала сообщения, что ручей высох.
Конечно, мы были бездельниками и тратили, не считая. Но правда и то, что такого вора, как Батта Маланья, свет не видывал. Это самое мягкое, что можно сказать, принимая во внимание родственные отношения, в которые я вынужден был с ним вступить.
Пока моя мать была жива, он ловко доставлял нам все, чего мы желали. Но за всем этим довольством и возможностью легко удовлетворять любой каприз скрывалась пропасть, которая после смерти матери поглотила меня одного; мой брат, к счастью, вовремя выгодно женился. А мой брак, напротив…
– Как вы полагаете, дон Элиджо, надо мне рассказать о моем браке?
– А как же? Конечно!.. По-хорошему… – отозвался дон Элиджо с высоты своей фонарной лесенки.
– Как это по-хорошему?! Вы же отлично знаете, что…
Дон Элиджо смеется, и бывшая часовенка вторит ему. Потом он замечает:
– Будь я на вашем месте, синьор Паскаль, я прочел бы сначала какую-нибудь новеллу Боккаччо или Банделло. Для стиля, для тона…
Бог с ним, с вашим тоном, дон Элиджо. Уф! Я пишу, как взбредет в голову.
Ну что же, смелее вперед!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?