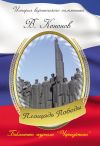Текст книги "От Волги до Веймара"

Автор книги: Луитпольд Штейдле
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Первая из войн
Август 1914-го
Дядя Краус пришел в ужас, когда после убийства в Сараево возникла угроза военного столкновения. И он, и мой отец называли Тройственный союз истуканом на глиняных ногах. Они смотрели на него как на неустойчивое предприятие, в котором действовало слишком много центробежных сил. Окончательно впали оба они в пессимизм, хоть прежде он не был им свойствен, когда объявленная в начале августа мобилизация парализовала все расчеты на летний отдых и спокойную осень с богатым урожаем, полными амбарами, изобилием фруктов и винограда. Как десятки тысяч мужчин, отец упаковал свой серый походный сундучок, дня два разнашивал новые, еще не надеванные ботфорты и 4 августа уже стоял в ожидании отправки перед воинским эшелоном на товарной платформе в Обервизенфельде, чтобы затем под звуки торжественного баварского марша отправиться на фронт.
Когда поезд медленно тронулся, мы побежали за ним, махая и крича вдогонку, вместе с толпой ребятишек, больших и маленьких. За офицерскими вагонами следовали солдатские – товарные вагоны с раскрытыми настежь дверьми. Здесь и там махали платками и пивными кружками. Дикий гул голосов сливался со стуком колес. Народ уже успел хлебнуть порядком пива из бочек, которые выкатили на перрон.
Мать плакала, как все женщины вокруг, всхлипывали мои сестры. Я мчался, не обращая ни на кого внимания, с буйной оравой мальчишек за последними вагонами. Потом потянулись платформы, груженные обозными фурами, и вдруг замелькали первые стрелки и семафоры. И тогда все остановилось. Мы еще раз покричали и помахали вслед поезду. Но тут наше внимание привлек состав на соседних путях, поданный для воинской части, которая как раз грузила своих лошадей, мешки с фуражом и прессованное сено.
Только вечером, когда все собрались дома, мы почувствовали серьезность минуты. Вот и отец уехал, а вести от брата, который уже три дня находился в казарме, мы получили лишь один раз. Он готовился стать телеграфистом в запасном батальоне связи. Туда же попал и наш Пфифф, как мы прозвали преподавателя естественной истории Виммера, который был фельцмейстером нашего 1-го мюнхенского бойскаутского отряда.
В феврале или марте 1915 года отец приехал на побывку в Мюнхен, где провел несколько дней. Одним из первых навестил его в нашем доме дядя Краус, друг отца. Довольно скоро между ними разгорелся ожесточенный спор, что для нас, детей, было ужасно. Нам чрезвычайно редко приходилось видеть отца таким разгневанным. Разговор шел о военных преступлениях немцев в Бельгии.
Очевидно, отцу хотелось высказать своему старшему другу все, что наболело, «излить душу», как он со свойственной ему горячностью говаривал в таких случаях. Слушать их разговор нам запретили, но отдельные фразы мы, навострив уши, все-таки успели уловить.
Мать постоянно обращалась за советом к почтенному другу нашей семьи; обратилась она к нему и в октябре 1915 года, когда внезапно узнала о нашем решении – весьма скоропалительном – пойти добровольцами на фронт, вступить в конноегерский полк. Но этот старый военный юрист в каждом из молодых солдат видел сына, облаченного в военный мундир, и при судебном разбирательстве, как и мой отец, был их неизменным заступником. Услышав о нашем решении, он проявил себя как старый друг, встревоженный, но сдержанный, явно сознавая свою беспомощность перед ходом событий, в который были вовлечены и мы – мой брат и я. Но каковы бы ни были обуревавшие его чувства, до нас дошло только, что он уважительно относится к формированию нашей личности с собственным, твердо сложившимся мнением. Ему это импонировало.
Тихо и уединенно прожил он последние дни своей жизни; она угасла вскоре после первой мировой войны, эта жизнь, отданная служению праву, поискам красоты и апулийского покоя. В последние годы он был одинок – смерть слишком рано разлучила его с женой. Когда он в предсмертном забытьи лежал в Нимфейбургской больнице, друзья его жены и моя мать смиренно молили за него небо. Дядя Краус, масон по убеждению, должен был в свой последний час быть спасен для бога и церкви. Мы с братом испытывали тягостное чувство неловкости и глубокие сомнения из-за всех этих попыток. Дядя Краус, атеист и масон, был для нас образцом настоящего человека. Какая цена такому насильственному обращению на путь истины в последний, предсмертный час?
Я был случайно дома, когда раздался телефонный звонок с Тицианштрассе. Престарелая домоправительница Краусов, которая была намного старше даже самой тети Кэти, свидетельствовала, что, находясь у постели больного, она якобы слышала, как уста его произнесли имя божие и он тихо отошел.
Мать вздохнула с облегчением. Теперь священник мог совершить обряд благословения над усопшим. Потом отслужили панихиду, и все это было так чуждо радостному мироощущению старого дядюшки.
– Как жаль, что отец ничего не мог здесь решать, – говорили мы, дети. – Он бы велел спеть в его честь какой-нибудь просветляющий душу барочный реквием и сыграть Моцарта или Гайдна!
Les crirnes aliemands{17}
Годы между 1914-м и 1945-м не раз называли новым вариантом эпохи Тридцатилетней войны. Быть может, сравнение это и неверно. Однако параллели возникают сами собой, если вникнуть в то, какой всеобъемлющий характер приняло падение морали в это тридцатилетие.
Уже в начале войны германская армия позволяла себе противозаконные действия и бесчинства над гражданским населением в Бельгии, а затем и во Франции, ужаснув этим цивилизованный мир и заставив его насторожиться. Из зарубежных нейтральных стран доносились голоса, в которых звучало осуждение, – предостерегающие голоса. Уже во время первой мировой войны был опубликован ряд материалов, прежде всего в самой Германии, затем в пострадавших от войны странах – Бельгии и Франции, а также в Швейцарии. На арену выступили германские военные эксперты, дабы защитить «немецкую честь» и представить все происшедшее как совершенно закономерную необходимость, вытекавшую якобы из требований ведения войны. Контроверза возникла потому, что уже в первые недели августа 1914 года без суда и следствия расстреливали и бельгийцев-штатских, а немецкие войска изображали это как вынужденную меру самозащиты против партизан.
Только спустя много лет я узнал об этом подробней; только тогда я понял, почему мой отец был так удручен и встревожен, когда приехал в первый раз на побывку домой, и почему он часами разговаривал об этом со своим старым другом, нашим дядей Краусом. Оба юриста говорили до изнеможения, пытаясь понять, как могло дело дойти до таких эксцессов и почему это не пресекли на месте, в самой армии, хотя бы в интересах сохранения международного престижа Германии.
Католических священников расстреливали десятками, и отец удостоверился, что прусским войскам доставляло особенное удовольствие расправляться таким образом с бельгийскими католиками. К тому же утверждение, будто пономари звонили в колокола, чтобы разжечь фанатизм прихожан и подстрекать к «партизанской войне всеми средствами», просто чепуха. Зато действительно были такие немецкие части, которые расстреливали без счета и без разбора священников и причетников, да еще осмеливались при этом загонять в церкви мирных жителей – французов и бельгийцев, – чтобы «преподать им наглядный урок».
Особенно показательный пример представляют собой события в Лувене. В этом городе дело дошло до тяжелых вооруженных инцидентов, причем в сотнях случаев гражданское население не давало для этого никакого повода.
Описываемые мною события происходили свыше пятидесяти лет назад. Уже существует обширная литература по этому вопросу. Правда, после первой мировой войны не раз делались попытки отрицать, что эти эксцессы имели место, замолчать их, утверждая, будто разоблачения – плод вражеской пропаганды о немецких зверствах» . Факты оказались сильнее.
Сегодня я знаю, что повинна в детализации актов произвола правовая система кайзеровского государства, и прежде всего потому, что она подменила понятие «военное право» понятием «военная целесообразность». Если уже тогда, согласно так называемой военной целесообразности, совершенно произвольные расстрелы военнопленных и заложников, грабежи и мародерство в любой форме мотивировались «правом», если целое поколение училось мыслить и чувствовать исходя из такого ложного понятия «права», то удивительно ли, что следующее поколение разработало технику уничтожения всего живого, массовых убийств и выжженной земли.
«Товарищеский ужин» во Фландрии
Примеры этой растлевающей душу ландскнехтовской морали можно привести из моих собственных, казалось бы, незначительных личных впечатлений.
Второго ноября 1915 года я был зачислен в запасный лыжный батальон Имыенштадт-Алъгау (горнострелковой части). Затем целый год, с февраля 1917 года, я провел уже в звании унтер-офицера на фронте, в составе королевского баварского лейб-гвардейского полка. Там в октябре 1917 года я был произведен в лейтенанты, а в апреле 1918-го назначен командиром 1-й пулеметной роты.
Было это в 1917 году в маленьком замке под Анзегемом, во Фландрии. Командир нашего лейб-гвардейского полка во время так называемого товарищеского ужина, когда все уже порядком были на взводе, заорал:
– Бесподобно! Прямо-таки великолепно! В сущности, каждый солдат в душе ландскнехт!
И тогда пирушка превратилась в дикую оргию с омерзительными эксцессами.
Мы с Войтом фон Войтенбергом – самые молодые лейтенанты в этом обществе – хотели было улизнуть еще до полуночи, но на этот счет существовал железный приказ. Наш ротный возражений не терпел. Мы были вынуждены остаться и присутствовать при том, как в третьем часу ночи все участники банкета вдруг встали с мест, затем освободили от людей одну из этих изысканных «рояльных» гостиных, решив превратить ее в большую мишень для стрельбы из пистолетов. Из соседней комнаты стали палить по дорогим фарфоровым тарелкам, развешанным на стенах гостиной, расстреливали лепные орнаменты, грациозных амурчиков в стиле рококо. Занавеси разорвали. Потом вышли в парк, когда уже светало, и продолжали палить, на сей раз по каменным вазам, по статуям, украшавшим парк, по деревьям и куртинам; при этом разлетались вдребезги стекла в окнах, падали наземь как подкошенные деревья – все это было одним из самых разнузданных и гнусных актов осквернения культуры, какие мне тогда довелось видеть.
Особенно тяжело нам было от того, в каком виде предстал перед нами наш ротный командир. Застыв в недоумении, мы смотрели, как этот полковой товарищ, всегда отличавшийся такими безукоризненными манерами, умением вести себя и даже образцовым покроем мундира, сейчас, совершенно пьяный, шатался, помахивая своей элегантной тросточкой с серебряным набалдашником.
Как «очистили» виллу
В ноябре 1917 года, продвигаясь вперед по Фриульской равнине после битвы на прорыв у Изонцо, мы подошли к Порденоне. Здесь мы расположились на ночлег. Штаб дивизии вздумали поместить в старинном поместье, расположенном несколько в стороне от военной дороги. Когда мы туда явились, замок с примыкающими к нему флигелями был почти в полной сохранности. Квартирьеры распределили комнаты и, как это повелось, благо на реквизицию и грабеж давно уже было принято смотреть сквозь пальцы, кое-что разведали: установили, где и за какими воротами, окованными широким листовым железом, спрятаны вина и копчености. А все, что потом творилось, можно назвать примерно так: «Ландскнехты ни в чем себе не отказывают!»
На втором этаже этого невысокого здания находилась маленькая зала с узкими, непомерно высокими окнами, которые выходили в парк. Среднее окно служило одновременно дверью на маленький балкон. Владельцы дома собирали здесь, из рода в род, все, что было дорого и мило их сердцу и с чем они не могли расстаться, даже если эти вещи давно уже не соответствовали современным представлениям о хорошем вкусе. Словом, зала эта, скорей всего, напоминала мебельный магазин, хоть в ней были и угловые диваны, и рояль, и нотные пюпитры, и пульты для музыкальных инструментов. Помещение это отвели командиру. Соседние комнаты решили превратить в спальни для него же и для штабного начальства. Никто не знал, сколько времени мы здесь проведем: все зависело от того, как будет развиваться наступление. Следовательно, незачем было очень уж заботиться о своих удобствах. Но случилось как раз обратное. Господам офицерам не хватало воздуха; комнаты, видите ли, были слишком тесны и загромождены вещами. Стало быть, балконные двери – настежь, окна – настежь, а затем – очистить помещение! Иными словами, все, что не считалось совершенно необходимым, выбрасывали вон. Когда мы, охваченные ужасом, попытались этому помешать, было уже поздно. Из окон летели книги и ноты, даже картины, сорванные со стен, фарфоровые безделушки из горок – драгоценные вещи и менее ценные, произведения искусства и рыночные поделки, все это вперемешку, навалом.
Из парка было видно, как под балконом медленно росла пирамида из мебели и книг, гобеленов и скатертей, хрусталя и фарфора. В результате, разумеется, завалили вход на лестницу в первом этаже, по которой спускались в сад. Из чего опять следовал вывод: очистить! И вот пришел кто-то, взял под мышку охапку книг, расколол в щепы скамеечки и креслица из гостиной, отнес все это метров на пятьдесят от дома в парк и зажег подле зарослей кустарника. И тогда прочие стали безмятежно жарить на этом костре только что ощипанных кур.
Спустился вечер. Огней в парке становилось все больше. А ночь такая чудесная, итальянская ночь! Наверху, в замке, кто-то бодро бренчал на рояле: жалкая попытка сыграть, наверное, одним пальцем гаммы. Затем ландскнехты легли спать.
Дом, отведенный нашей пулеметной роте, отстоял примерно на километр от замка. Тут распевали патриотические песни: «Отчизна милая, ты можешь быть спокойна», «Господь, который сотворил железо».
Вино лилось рекой, ведь винный погреб был под боком, пристроен к дому. Бесконечно растерянные и запуганные итальянцы – преимущественно женщины с уймой детей да несколько стариков – сидели, тесно прижавшись друг к другу, на ступеньках перед домами и разглядывали бесцеремонных пришельцев, которые, хоть у каждого под мышкой было припрятано «реквизированное» добро, старались «договориться» со своими новыми квартирными хозяевами.
А со всех сторон, вблизи и вдалеке, не умолкал жалобный хрип, доносилось отчаянное разноголосое кукареканье петухов, ибо всюду, притом десятками, что ни попало под нож, резали живность.
Мюнхен в дни революции
Демагогическая фальсификация
Сейчас, когда я пытаюсь воссоздать в памяти, как воспринял Ноябрьскую революцию молодой немец из буржуазной среды, выросший в офицерской семье, передо мной лежат груды газет, выходивших в те годы. Я читаю эти сообщения и газетные заголовки, обогащенный опытом своей долгой, семидесятилетней жизни, с совершенно другим объемом исторических знаний и другим кругозором. Сегодня я вижу насквозь эту демагогию, с помощью которой подтасовывали факты, пробуждали низменные инстинкты и гипнотизировали буржуазию ужасным призраком коммунизма. Сегодня для меня очевидно все коварство тех, кому удалось даже нашу жажду мира преобразить в ненависть, в готовность сражаться против революции. 14 апреля 1919 года газеты утверждали, будто Клемансо не заключит мир, пока не будет подавлено коммунистическое восстание. Затем начинают множиться сообщения о боях между мюнхенской Красной Армией – спартаковцами, «Коммуной» и белыми: Национальной гвардией, «разумными силами"; множатся сообщения об арестах при конфискации оружия, обысках в домах, трудностях снабжения, и засим следует такое: „После вступления в город добровольческого корпуса Герлица – это был один из отрядов реакции, пользовавшихся самой дурной славой, – восстановлены спокойствие и порядок. Что касается продовольствия, то положение стабилизируется“.
Еще в первые недели революции искусно было положено начало легенде об «ударе кинжалом в спину": „в бою не побежден, но родиною предан“ – и в качестве главного свидетеля хитроумно выставили английского, а не германского генерала.
«Берн, 19 декабря (собственная информация). Английский генерал Морис пишет в „Дейли ньюс": «До войны германская армия была самой мощной в Европе. Во время перемирия соотношение вооруженных сил союзников и противника на Западном фронте было 5:3,5. Германская армия получила удар в спину от собственного гражданского населения. Можно только осудить поведение матросов немецкого флота. Поединку со смертью они предпочли бунт, предпочли сдать свои корабли неприятелю. Им обязан Париж своим спасением“.
На рождество выступил Гинденбург. В своем воззвании он указывал на мощные военные достижения германской армии, которая не потерпела поражения «лицом к лицу с враждебным ей миром», а «до самого конца внушала страх и уважение своим противникам». Затем после славословия духу немецкого офицерского корпуса Гинденбург пытался возложить ответственность за распад армии на некие «нигилистические и разлагающие силы», ясно намекая на революцию.
А где же в тогдашней печати писалось о том, что этот же самый Гинденбург, который нес сейчас всякий вздор о «священных заветах прошлого», заявил коротко и ясно вместе с начальником своего генерального штаба Людендорфом, что война проиграна, и сказал он это 8 августа 1918 года, стало быть, за три месяца до революции? «Военные действия, – заявили Гинденбург и Людендорф, – приняли характер безответственной азартной игры. Судьба немецкого народа слишком дорога, чтобы делать ее ставкой в азартной игре. Войну необходимо кончать».
Кто знал об этом тогда? Во всяком случае, не двадцатилетний, только что уволенный в отставку офицер королевского баварского лейб-гвардейского полка. А что за человек был этот юный Луитпольд Штейдле, который в 17 лет сбежал из школы на войну? Тот, кто в Обергатау-фене, находясь в запасном батальоне, сказал, будто ничто отныне не связывает его с этими людьми, а позже вступил все-таки в традиционный союз «лейбгардов». Тот, кто накануне революции в Берлине думал: «Только бы меня не впутали во что-нибудь, как бы увильнуть, не то, чего доброго, дадут еще команду разгонять демонстрантов"; а потом этот же человек разрешил все-таки фельдфебелю своей роты Эгельхоферу подсунуть ему вынесенные из мюнхенской „турецкой“ казармы два пистолета и патроны. „Поймут ли дома, что к ним возвращается совсем другой человек, не тот, кто ушел на войну в тысяча девятьсот пятнадцатом?“ – спрашивал он себя по дороге в Мюнхен. А теперь „мальчики Штейдле“ бегали по городу, собирали слухи, целыми днями пропадали в „турецкой“ казарме у Эгельхофера Иозефа, которого так огорчала неприятная история с его братом: Рудольф Эгельхофер, матрос, в 1917 году приговоренный к смертной казни, теперь был командиром Красной Армии в Мюнхене.
У нас было оружие, мы поддерживали связь со студентами и студенческими организациями, с офицерами и солдатами, сохранившими «старинную верность» режиму. Вели мы и кое-какую подпольную работу, пока однажды к нам домой не нагрянули с обыском, конфисковали оружие и увели отца как заложника, ответственного за поведение сыновей (через четыре дня он вернулся). В стихийном порыве мы предложили патрулю молодых рабочих, производивших эту операцию, отвести в тюрьму нас вместо отца. Они наотрез отказались, эти товарищи наших детских игр, явившиеся к нам, обвешанные оружием, повернутым дулом вниз, с патронными сумками поверх рабочих халатов, в шапках набекрень и с красными повязками на рукавах. А, отказывая нам в нашей просьбе, они ссылались на письменный приказ за подписью Рудольфа Эгельхофера.
Куда идти?
Чего же мы хотели? Возврата к старому? Действительно хотели? Ведь отец открыл, наконец, сыновьям, что его мучило и возмущало целых четыре года и с чем, нужно надеяться, раз навсегда теперь покончено: бесчисленные преступления, совершенные немецкими солдатами и офицерами над мирными жителями, – издевательство над правом и законом, одна из мрачнейших страниц в истории германской военной юстиции, а еще более – в истории нашего народа, как неизменно добавлял отец.
И мы хотим вернуть этот старый порядок? Нет, но и не хотим нового, принесшего с собой Советы рабочих и солдатских депутатов, Красную Армию, Советскую республику, как в России. Все это внушало панический страх. Сколько молодых немцев задавались тогда вопросом: «Чего же ты хочешь? Что делать?» Я смутно понимал, когда узнал впоследствии о братании в окопах в 1917 году между немецкими и русскими солдатами, что в них говорило элементарно человеческое побуждение, оно выражало то, что чувствуешь, когда спас после боя всего четырех человек из своего отряда: «Убийство – безумие, бросай оружие!"– а в ушах звучат обрывки аккордов из Девятой бетховенской.
Но все это оставалось лишь неопределенным настроением, на которое наслаивалось другое, которое затем потонуло в гуще повседневных дел. Немногие из людей моего поколения и моего круга нашли в те времена путь туда, «где жизнь». Впрочем, через десятки лет, в плену, они стали – непосредственно или заочно – моими любимыми собеседниками. Мир их идей, решающее «почему» в их судьбе будили мое любопытство и… помогали мне идти вперед.
Но как много было моих сверстников, которые уже тогда шли нарочито другим путем: в добровольческие корпуса, в крайне правые военные союзы, потом – в штурмовые отряды нацистов. К числу их принадлежал мой друг Ганс Циммерман, когда-то, как и я, бойскаут, глубоко привязанный к моим родителям, – мой отец был даже восприемником Ганса при его первом причастии. Часто случалось, что он жил в нашей семье больше, чем дома. Затем в его жизни произошел коренной поворот: увлечение «народными идеями». Через несколько лет он всецело подпал под влияние нацистов и стал фанатическим апологетом их идеологии, одним из самых опасных подстрекателей фашизма. Начало этой эволюции было положено, вероятно, тогда, когда Ганс уже принадлежал к числу крайних среди нас, противников революции, «Против „Спартака“ и Коммуны» – таков был его девиз, и он не брезгал никакими средствами в этой борьбе – и тогда и потом.
Но разве это все, что можно сказать о двадцатилетнем лейтенанте запаса Штейдле, который три года убивал по приказу, получил за свои деяния Железный крест 1-го класса и теперь снова ввязался в войну, на сей раз в гражданскую? Только ли это? Не следует ли упомянуть и о том, что крушение империи, старого уклада подорвало и семейный уклад? И здесь, куда я вернулся, был уже не тот благополучный мир. Тут я застал голод – матери претило выменивать вещи на продукты, а если сестрам и удавалось что-нибудь раздобыть для дома, то в лучшем случае несколько картофелин и капусту, полученные у добрых знакомых, крестьян, в Графинге или Унтерферинге. Я застал дом запущенным: штукатурка осыпалась, на лестничной клетке – плесень, ведь несколько лет нельзя было достать мастеровых; материал для ремонта отсутствовал или был не по средствам. Отапливали только одну комнату, гостиная заперта, вся мебель – в чехлах. Войну-то проиграли, надо было радоваться, что все хотя бы живы.
Тут был отец, военный юрист старой школы, который не мог забыть les crimes allemands. «Это были преступления – слышишь? – преступления немецких солдат, совершенные над безоружными мирными жителями, притом безнаказанно». Теперь он участвовал в переговорах о возвращении на родину военнопленных и раненых из Швейцарии, не задаваясь вопросом, кем были в республиканском правительстве его партнеры по этим переговорам.
И, наконец, был тут же, правда, еще и двадцатилетний лейтенант, имеющий орден, но что в нем проку? Семнадцати лет он бросил, не кончив, школу; он был офицер – но служить как офицеру уже негде; кем же ему быть? У него не было аттестата зрелости. И вот однажды я отправился – нарочно в военной форме – в реальное училище на Зигфридштрассе. Да! И вот тут-то я в первый раз обнаружил некий неизменившийся мир. Тут по-прежнему заправляла все та же разновидность закоснелых педантов, старозаветных магистров, которые умели читать мораль и угрожать, но никогда не понимали смутного пылкого стремления молодежи к независимости. Тут все шло как заведено, по старинке, словно и не было четырех лет войны (что это такое, профессора знали по Гомеру, а мы – по окопам), словно и не было верховного главнокомандующего, которому мы присягнули в верности и который тайно скрылся в Голландии, где ему, наверное, подыскали надежное, тепленькое местечко. А тут все по-прежнему, словно не было умерших от истощения женщин и детей, революции со «Спартаком», Советами солдатских депутатов, Красной Армией и добровольческими корпусами; наконец, революция продолжалась, и нужно было определить свою позицию в ней, но, как ее определить, мы не знали. А тут был совершенно не изменившийся мир, не изменившийся ни на йоту, и я захлопнул за собой дверь и сказал:
– Нет. Никогда.
Но что же тогда остается? Сельское хозяйство. Их было множество, таких, как я, которые тогда ответили себе: «Сельское хозяйство». В биографии многих известных людей под рубрикой «После войны» значится: «Сельское хозяйство». Это такие люди, как Мартин Инмеллер, Рейнольд Шнейдер, Фридрих Вольф. А сколько было неизвестных, поступивших точно так же! Почему же тогда была такая тяга к сельскому хозяйству? Потому ли, что профессия специалиста по сельскому хозяйству позволяла как можно скорее оказать помощь голодному народу? Потому ли, что это было честное, ясное дело, занимаясь которым каждый мог увидеть плоды своих рук, видеть, как растет и созревает что-то живое?
Итак, я тщательно проштудировал программу преподавания в Вейхенстефанском сельскохозяйственном институте во Фрейзинге и программу сельскохозяйственного отделения в Мюнхенском высшем техническом училище. Однажды утром я поехал на велосипеде во Фрейзинг, справился сначала, как обстоит с революцией в егерской казарме, а затем остановился подле пивной у Шлоссборга, перед корпусами Сельскохозяйственного института. Там еще ничего не было известно о дополнительном приеме между семестрами. Следовательно, я вернулся обратно в Мюнхен и, недолго думая, отправился в Высшее техническое училище, где мне повезло: меня зачислили в студенты. Там, да и в Ветеринарно-медицинском институте (как раз у Английского сада) мне довелось узнать немало высокоодаренных педагогов и ученых, которые восхищали нас своим удивительным умением сообщать молодежи новейшие знания в своей области.
Убийство Эйснера
Что же, собственно, произошло в Мюнхене? 7 ноября здесь была свергнута монархия, провозглашена республика, премьер-министром которой стал независимый социал-демократ Курт Эйснер. Правительство Эйснера опиралось на социал-демократов, на независимых социал-демократов, на либеральную буржуазию, но отчасти и на леворадикальные группировки в Баварском крестьянском союзе. Разногласия между ними обнаружились сразу: одни из них способствовали сепаратистским стремлениям, иными словами, стремлениям к «полному суверенитету» Баварии как государства; центр поддерживал всяческие попытки восстановить монархию.
В одном пункте сходились все, как социал-демократы, так и либералы, республиканцы и монархисты: никакой революции наподобие русской, поэтому все силы нужно направить против «Спартака» и коммунистов, против Советов, однако меры против Советов долгое время принимались негласно, втайне, так как заводские Советы – Центральный совет рабочих и солдатских советов – официально были высшей инстанцией; кроме того, они частично находились под мелкобуржуазным влиянием, а, следовательно, вполне годились в союзники против революции.
Группа «Спартака», возглавляемая в Баварии Евгением Левине, в то время боролась, как и всюду, за революцию, против ее клеветников и контрреволюции.
Двадцать первого февраля, через пять недель после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, был убит выстрелом на виду у всех Курт Эйснер. Это злодейское убийство произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Оно вызвало волну возмущения. Свыше 100 тысяч мюнхенцев провожали гроб Эйснера. По радио было передано обращение Баварского рабочего и солдатского совета к пролетариям всех стран. Оно призывало баварский пролетариат сплотиться для защиты революции. Перед зданием ландтага на месте убийства Эйснера лежали цветы. Рядом стоял почетный караул. Я тоже ходил туда, подавленный, потрясенный случившимся. Граф Арко-Валлей, убийца Эйснера, был мой однополчанин.
Дней за десять до этого мы расходились из Немецкого музея после учредительного собрания нашего традиционного офицерского союза; рядом со мною шли полковник барон фон Ридгейм – мой командир по лейб-гвардейскому полку, ротмистр барон фон Шпис и еще несколько человек; тогда лейтенант граф Арко совершенно неожиданно сказал – это сначала шокировало всех нас, как бравада, – что он в скором времени застрелит коммуниста Эйснера! На фронте нам не раз приходилось наблюдать его залихватские манеры, поэтому нам было не совсем ясно, бросил ли он эти слова по свойственной ему наглости и из бахвальства или за ними действительно скрывались серьезные намерения. Мы стали его увещевать:
– Да ты спятил! Ведь это безумие! И вообще, как ты до него доберешься? Да, наконец, разве этим чего-нибудь можно добиться?
Дойдя до Цвейбрюкенштрассе, мы разошлись в разные стороны. А 21 февраля раздались выстрелы.
Эйснер выступал не раз, публично и бесстрашно. Так, я помню массовую демонстрацию на Терезиенвизе в середине февраля, когда Эйснер призывал демонстрантов содействовать достижению цели и замыслов правительства. Он призывал сохранять спокойствие и порядок и просил оказать доверие его правительству «ввиду попыток крайне правых повернуть колесо истории». Я знал, наверное, что он имел в виду образование традиционных воинских союзов, а также старания организовать крайне правые союзы, в первую очередь среди студенчества и молодых офицеров; все это были попытки создать фронт, который опирался бы на силы баварской народной партии, социал-демократов большинства, а главное – на военных, по-прежнему сохранявших верность королевскому дому.
Повернуть колесо?..
После убийства Эйснера начались ожесточенные бои за власть. Наконец в середине марта было образовано социал-демократическое правительство во главе с Гоффманом. Впрочем, в буржуазных кругах плохо различали революционные направления. Чего теперь хотели «соци» или спартаковцы находится ли Рабочий и солдатский совет под влиянием социал-демократов большинства или коммунистов – все это было мюнхенскому буржуа безразлично и в конечном счете так и осталось для него тайной. Главная цель, которой он задавался, – это помешать окончательному провозглашению Советской республики, будь то в самой Баварии или в Берлине.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?