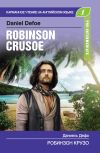Читать книгу "Крузо"

Автор книги: Лутц Зайлер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Лутц Зайлер
КРУЗО
Шарлотте
Маленький полумесяц
С тех пор как отправился в дорогу, Эд пребывал в состоянии обостренной настороженности, которое не позволяло ему спать в поезде. Перед Восточным вокзалом – в новом расписании поездов он назывался Главным – было два фонаря, один наискось напротив, у здания почты, другой над главным входом, где стоял развозочный фургон с включенным мотором. Пустынность ночи противоречила его представлениям о Берлине, но много ли он знал о Берлине? Вскоре он вернулся в кассовый зал и прикорнул на одном из широких подоконников. В зале царила такая тишина, что он услыхал тарахтение отъезжающего фургона.
Эду снилась пустыня. Издалека, от горизонта, приближался верблюд. Парил в воздухе, а четверо-пятеро бедуинов удерживали его, причем, кажется, не без труда. Бедуины были в темных очках и на него внимания не обращали. Открыв глаза, Эд увидел лоснистое от крема мужское лицо, да так близко, что поначалу не мог разглядеть его целиком. Мужчина, вернее старик, вытянул губы трубочкой, будто хотел свистнуть – или только что кого-то поцеловал. Эд мгновенно отпрянул, а поцелуйщик поднял руки:
– О, простите, простите, мне очень жаль, я не хотел… правда не хотел мешать, молодой человек.
Эд потер лоб, влажный на ощупь, и поспешно сгреб свои вещи. От старика пахло кремом «Флорена», каштановые волосы жесткой блестящей волной убегали назад.
– Видите ли, – вкрадчиво начал он, – я как раз переезжаю, переезд большой, а на дворе уже ночь, полночь, слишком поздно и так глупо, ведь из мебели на улице еще остался шкаф, вправду солидный, большой шкаф…
Эд поднялся, а старик меж тем показал на дверь вокзала:
– Тут совсем недалеко, рукой подать до моей квартиры, не бойтесь, пожалуйста, всего четыре-пять минут пешком, спасибо, молодой человек.
На минуту-другую Эд воспринял просьбу старика всерьез. Тот теребил его за непомерно длинный рукав свитера, словно норовил увести.
– Ах, пойдемте же, пожалуйста! – Он начал потихоньку сдвигать шерстяной рукав вверх, неуловимо, движениями, которые гнездились в самых кончиках его мягких, как сало, пальцев, и в конце концов Эд почувствовал на запястье легкие круговые потирания. – Ты же хочешь пойти…
Едва не сбив старикана с ног, Эд отпихнул его, во всяком случае отреагировал слишком резко.
– Уж и спросить нельзя! – проскрипел поцелуйщик, но негромко, скорее прошуршал, почти беззвучно. И пошатнулся он, казалось, тоже наигранно, как бы исполняя небольшой заученный танец. Прическа съехала на затылок, и в первую минуту Эда озадачило, как такое могло случиться, он испугался, увидев внезапно облысевший череп, который словно неведомый маленький полумесяц парил в сумраке кассового зала.
– К сожалению, у меня сейчас… нет времени. – Эд повторил: – Нет времени.
Быстро пересекая зал, он заприметил в каждом углу боязливые фигуры, которые мелкими знаками пытались привлечь к себе внимание, а одновременно как будто бы старались не афишировать свое присутствие. Один приподнял коричневую дедероновую сумку, показал на нее и кивнул Эду. Выражение лица добродушное, как у Деда Мороза перед раздачей подарков.
В «Митропе» пахло горелым жиром. Едва слышно пели неоновые трубки в витрине, где на электрогрелке стояли всего-навсего несколько чашек солянки. Кое-где из подернутого блекло-серой пленкой супа, точно скалы, выглядывали маслянистые кусочки колбасы и огурцов, от непрерывного притока жара они легонько двигались вверх-вниз, напоминая работу внутренних органов – или пульс жизни, думал Эд, перед самым ее концом. Рука невольно ощупала лоб: вдруг треснул, вдруг настала его последняя секунда?
В ресторан вошли транспортные полицейские. Фуражки блестели короткими полукружьями козырьков, вдобавок васильковый цвет форменных мундиров. С ними была собака, она опустила голову, будто стыдилась своей роли.
– Ваш билет, пожалуйста, и удостоверение.
Тем, кто не мог предъявить проездной документ, надлежало немедля покинуть ресторан. Шарканье ног, передвигание стульев, несколько благоразумных пьяниц уковыляли вон, молчком, словно им просто полагалось дождаться этого последнего приглашения. До двух ночи вокзальная «Митропа» осталась почти без посетителей.
Эд знал, что так нельзя, ни под каким видом, но все равно встал и схватил один из недопитых стаканов. Стоя осушил его, залпом. Довольный, вернулся за свой столик. Это первый шаг, думал он, мне на пользу находиться в пути. Уткнулся лицом в сложенные на столе руки, в затхлость старой кожи, и мгновенно уснул. Бедуины по-прежнему возились с верблюдом, но тащили его не в одну сторону, а в разные, между ними, похоже, вообще не было согласия.
Приподнятая дедероновая сумка – Эд не понял, что она означает, но в конце-то концов он впервые ночевал на вокзале. И хотя уже почти уверился, что шкафа в действительности не существовало, воочию видел посреди улицы этот стариканов шкаф и теперь жалел – даже не самого старикана, а все, что отныне будет с ним связано: запах крема «Флорена» и маленький лысый полумесяц. Эд видел, как старикан доплелся до своего шкафа, открыл его и забрался внутрь вздремнуть, на миг он ощутил движение, каким тот свернулся калачиком и отрешился от мира, ощутил с такой силой, что охотно рванул бы следом.
– Ваш билет, пожалуйста.
Они проверяли его второй раз. Может, из-за длинных волос, а может, из-за одежды, из-за тяжелой кожаной куртки, доставшейся Эду в наследство от дяди, из-за мотоциклетной куртки пятидесятых годов, солидной вещи с огромным воротником, мягкой подкладкой и большими кожаными пуговицами, знатоки называли такие куртки тельманками (не презрительно, наоборот, скорее в мифологическом смысле), вероятно, потому, что на всех исторических кадрах рабочий вожак изображен в очень похожей куртке. Эд вспомнил: странно бурлящие людские массы, Тельман на трибуне, его торс, то наклоненный вперед, то откинутый назад, его взлетающий в воздух кулак; всякий раз, когда он видел эти давние кадры, его охватывала растроганность, он ничего не мог поделать, рано или поздно набегали слезы…
Не спеша Эд достал маленький, уже помятый клочок бумаги. Под шапкой «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» в клеточках из тонких линий были указаны пункт назначения, дата, цена и число километров. Его поезд отходил в 3.28.
– Что собираетесь делать на Балтике?
– Друга навещу, – повторил Эд. – Отдохну на каникулах, – добавил он, потому что на сей раз транспортный полицейский не ответил. Во всяком случае, говорил он твердым голосом (тельмановским), хотя собственное «отдохну на каникулах» сразу же показалось ему совершенно неубедительным, прямо-таки нелепым.
– Каникулы, каникулы, – повторил транспортный полицейский. Он будто диктовал, и в сером ящичке рации, прикрепленной кожаным ремешком слева на груди, тотчас тихонько затрещало.
«Каникулы, каникулы».
Судя по всему, этого слова было достаточно; оно содержало все, что необходимо о нем знать. Все о его слабости и лживости. Все о Г., его страхе и беде, все о его двадцати неуклюжих стихотворениях из тринадцати сочинений, начатых сто лет назад, и все о подлинных причинах этой поездки, которых Эд и сам до сих пор толком не понимал. Он увидел централь, контору транспортной полиции, где-то на верхотуре, над стальной конструкцией этой июньской ночи, васильковую капсулу, застекленную, аккуратно выстланную линолеумом, пересекающую бесконечное пространство его нечистой совести.
Он очень устал и впервые в жизни почувствовал, что спасается бегством.
Тракль
Всего лишь три недели минуло с тех пор, как доктор Ц. спросил, не угодно ли Эду (именно так он выразился) написать дипломную работу о поэте-экспрессионисте Георге Тракле. «Быть может, позднее из этого даже получится нечто большее», – добавил Ц., гордый заманчивостью своего предложения, которое, очевидно, не будет сопровождаться добавочными условиями. И в голосе его не было ни особых ноток, ни тени сочувствия, какое не раз лишало Эда дара речи. Для доктора Ц. Эд в первую очередь был студентом, который мог наизусть прочесть любой из анализируемых текстов. Хоть он и забирался в самый дальний угол семинарской аудитории, а длинные, до плеч, темные волосы свисали ему на лицо, он все-таки порой говорил, торопливо, долго и четко продуманными фразами.
Две ночи Эд почти не спал, читая о Тракле все, чем располагала институтская библиотека. Литература о Тракле хранилась в последней из ряда узких проходных комнат, где читатель обыкновенно был один и никто ему не мешал. Рабочий столик стоял у окна, глядевшего на крошечный садик и уродливую, затянутую паутиной сараюшку на заднем дворе, где днем обретался институтский завхоз. Вероятно, он и жил там, об этом человеке каких только слухов не ходило.
Нужные книги стояли на самом верху, почти под потолком, без лестницы не обойтись. Не потрудившись сперва сдвинуть лестницу поближе к «Т» и «Тр», Эд поднялся по ступенькам. Неловко наклонился в сторону, начал вытаскивать с полки одну книгу за другой. Лестница заколебалась, стальные крючья, которыми она цеплялась за направляющую, угрожающе заскрипели, однако ж осторожности у Эда не прибавилось, наоборот. Он еще больше наклонился в сторону Тракля, потом еще и еще немного. И вот тогда испытал это ощущение, впервые.
Вечером, сидя за письменным столом, он вполголоса читал стихи. Звуки каждого слова соединялись с картиной просторного, холодного ландшафта, который совершенно пленил Эда, – белый, бурый, голубой, сплошная тайна. Творчество и жизнь Георга Тракля – студента-фармацевта, военного провизора, морфиниста и опиофага. Рядом с Эдом, в кресле, накрытом простыней, спал Мэтью. Временами кот поворачивал ухо в его сторону, временами ухо вздрагивало, резко, несколько раз подряд, словно старое кресло находилось под током.
Мэтью – так его назвала Г. Она нашла котенка во дворе, в световой шахте, крохотного, мяукающего, комок пуха, не больше теннисного мяча. Часа два или три просидела на корточках возле шахты, в конце концов выманила его и принесла наверх. Эд до сих пор не знал, как Г. набрела на это имя, и уже никогда не узнает, разве что сам кот скажет, когда-нибудь.
Ничьей помощи Эд не принял. Посещал семинары и сдавал экзамены, от которых руководитель отделения, профессор Х., легко бы его освободил: сочувственный наклон крупной головы, добродушно-волнистые волосы, белоснежные и блестящие, и ладонь у Эда на плече, когда на институтской лестнице профессор отводил его в сторонку, а главное – бархатный голос, которому Эд с удовольствием бы покорился… Но со знаниями у него проблем не было. И с экзаменами тоже.
Все, что Эд в ту пору читал, запоминалось как бы само собой и слово в слово, каждое стихотворение и каждый комментарий, все, что попадалось на глаза, когда он в одиночестве сидел дома или за столиком в дальней комнате библиотеки, неотрывно глядя на сараюшку завхоза. Существование без Г. – оно было чем-то вроде гипноза. Когда он выныривал из транса, через некоторое время в голове жужжало прочитанное. Учеба была лекарством, успокаивала. Он читал, писал, цитировал и декламировал, и в какой-то момент изъявления сочувствия прекратились, предложения помощи умолкли, озабоченных взглядов не стало. Причем Эд никогда и ни с кем об этом не говорил, ни о Г., ни о своей ситуации. Только находясь дома, он говорил, без конца что-то бормотал себе под нос, ну и, конечно, разговаривал с Мэтью.
После первых дней с Траклем Эд ходил только на занятия к доктору Ц. Лирика барокко, романтизма, экспрессионизма. Согласно учебному плану, такое не разрешалось. Ведь есть учет посещаемости, записи в зачетке. И доктор Ц. не сможет долго игнорировать сей факт. В известном смысле Эд пока что был как бы защищен. Редко случалось, чтобы кто-нибудь из однокурсников попытался взять слово вместо него. Предпочитали слушать его, робея и одновременно с восторгом, будто Эд какое-то экзотическое существо из зоопарка человеческих бед, окруженного рвом боязливого почтения.
После четырех лет совместной учебы у всех в голове сложились определенные картины: Г. и Эд каждое утро рука об руку на парковке перед институтом; Г. и Эд и долгое, нежное, непрекращающееся объятие, пока аудитория медленно заполнялась; Г. и Эд и их ссоры вечерами в кафе «Корсо» (сперва из-за чего-то, потом – из-за всего), а после, поздно ночью, бурные примирения, на улице, на трамвайной остановке. Но уже после того, как ушел последний трамвай и домой надо было топать пешком, три остановки до Раннишер-плац, а оттуда еще немного до дверей. А трамвай меж тем миновал последние повороты последнего рейса по городу, и ночь над Халле наполнял адский скрежет стальных колес, словно предвестье Страшного суда.
Эд – так его называла Г., иногда Эдш или Эде.
Временами (все чаще) Эд взбирался на лестницу, чтобы испытать то ощущение. Он называл его пилотским. Сперва дрожь и перестук крючьев. Потом пьянящий ток, содрогание, проникающее до мозга костей, в бедра, – напряжение отпускало. Он закрывал глаза и глубоко вздыхал. Был пилотом в кабине, висел в воздухе, на шелковой нити.
Возле сараюшки завхоза уже который день цвела сирень. Прямо из-под порога поднимался пышный куст бузины. Паутина в дверном проеме рваными ошметками покачивалась на ветру. Завхоз дома, думал Эд. Порой он видел, как тот бродит по своему одичалому садику или замирает в неподвижности, словно к чему-то прислушивается. В сараюшку он всегда входил очень осторожно, раскинув руки в стороны. И все равно уже при первом шаге раздавалось дребезжание – на полу сплошное море бутылок.
Один из слухов гласил, что завхоз защитил докторскую и некогда работал за границей, даже, говорят, «в нсс»[2]2
Несоциалистические страны. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть]. Теперь же он принадлежал к касте изгоев, живших своей жизнью, садик и сараюшка были частью другого мира. Эд пробовал представить себе, что этот человек ел на завтрак. Сперва картинки не получалось, но потом он увидел маленький камамбер («Рюгенский купальщик»), завхоз резал его кубиками, на один укус, на старой разделочной доске. Цеплял кусочки острием ножа и клал в рот, один за другим. Посторонним трудно вообразить, что одинокие люди вообще едят, думал Эд. Для него же самого завхоз был в эту пору единственным реальным человеком, одиноким и покинутым, как и он. На миг Эда захлестнуло смятение, показалось неясным, не с большим ли удовольствием он подался бы под защиту завхоза и его сараюшки, чем под крылышко доктора Ц.
В 19 часов институтская библиотека закрывалась. Вернувшись домой, Эд первым делом кормил Мэтью. Давал ему хлеб, порезанную ломтиками сосиску и немного молока. Раньше кормежкой занималась Г. Эд без устали заботился о Мэтью, но до сих пор так и не понял, что для выживания кошкам нужно не молоко, а вода. Вот его и удивляло, когда кот, стоило выйти за порог, рылся в гидропонном горшке с лимоном. Как вкопанный он замирал на кухне, слушая шорох. Легкий стук, с каким камешки сыпались из горшка на шкаф, а оттуда на пол. Он ничего не мог поделать, только слушал. Не верилось ему, что все это часть его жизни… что все это происходило именно с ним.
Мэтью
Потом, накануне его двадцатичетырехлетия, Мэтью пропал. Эд полночи читал, готовился к семинару доктора Ц. по Брокесу[3]3
Брокес Бартольд Генрих (1680–1747) – немецкий поэт, известен своей религиозно-философской лирикой.
[Закрыть]: «Меж тем как я туда-сюда / под сенью дерева брожу…» В какой-то момент он заснул за столом. Утром пошел в институт, через Раннишер-плац до рынка и в направлении университета, по Барфюсерштрассе, то есть Босоногой. На этой узкой, темной улице располагалось «Мерзебургское подворье», куда Эд забегал перед занятиями выпить кофе. Перемазанный жиром текст на обороте меню (возможно, отрывок из старинной хроники) сообщал, что Барфюсерштрассе раньше называлась улицей Братьев, затем – Нищенствующих Братьев и, наконец, Босоногих, сиречь францисканцев, – странная деградация, приведшая Эда к солидарности с улицей.
Ближе к вечеру Мэтью по-прежнему отсутствовал, и Эд начал звать его. Сперва внизу, во дворе, потом из окна, однако так и не услышал короткого, укоризненного «мяу», каким кот обычно откликался.
– Мэтью!
Дворовый запах: словно вдыхаешь давнюю, уже заплесневелую печаль. Печаль из тлена и угля, что жила напротив, в полуразвалившихся сараях, ее непрестанно источали брошенные, навек погребенные вещи. В доме обитали преимущественно бунайцы, рабочие с химического завода «Буна», расположенного в южном предместье. Бунайцы – Эду запомнилось, что сами рабочие тоже называли себя этим словом, употребляли его естественно и не без гордости, так подчеркивают свою принадлежность к народу со славной историей, к племени, среди которого родился и можешь не сомневаться, что оно будет существовать еще очень-очень долго.
– Мэтью!
Эд постоял у открытого окна, прислушиваясь к крысам. «День рождения, мой день рождения…» – подумал он и снова начал звать Мэтью. Чтобы остаться невидимым, он погасил свет. Напротив, наверху косогора, распласталась длинная кирпичная постройка – дом престарелых. С тех пор как он звал, в окнах теснился народ. Он видел линялые краски рубашек и вязаных кофт и седые волосы, поблескивающие в свете люминесцентных ламп, – стариков интересовало все во дворе, особенно ночью. Зачастую они гасили верхний свет не сразу. Эд видел лиловый отблеск гаснущих ламп и представлял себе, как они стоят там в потемках, вплотную друг к другу, и как задние дурным, спертым дыханием дышат в затылок впереди стоящим. Может, кто-нибудь из них видел Мэтью? И теперь они тихонько спорят (сперва тихонько, потом громче, потом опять приглушенно, чтобы не переполошить персонал), стоит ли доставить записку и каким образом.
Прошло два дня, а он все звал. Поначалу ему было неприятно звать во весь голос, теперь он никак не мог перестать. Каждый час по нескольку раз кричал во двор, машинально, почти бессознательно, с холодным от ночного воздуха лицом, маской, прораставшей под корни волос. Сочувствие в доме иссякло. Распахивались и захлопывались окна, слышалась брань, по-халлевски или по-бунайски. В дверь звонили и молотили кулаками.
– Мэтью! Сосисочка, вкусное молочко!
– Пошел ты со своей сосисочкой, ботаник, дай поспать!
Июньский вечер дышал прохладой, но Эд не закрывал окно. Сам того не замечая, сперва чуточку, потом все больше и больше перегибался через низкий подоконник, безопасности ради опоясанный железным прутом. Точно спортивную перекладину, обхватил ладонями ржавый прут и медленно свесился во двор:
– Мэтью!
Голос набрал объема, зазвучал чище и мощнее, низкое, звучное «у»:
– Мэтью-у-у!
В комнате, где-то далеко за спиной, приплясывали по линолеуму кончики ног, а вокруг последних отростков позвоночника растекалось пилотское ощущение, с совершенно неведомым, несравненным размахом. Возникло приятное оцепенение, нет, нечто много большее, наслаждение оцепенило его, от макушки до пяток…
– Мэтью-у-у!
Тело не то плыло, не то парило. Он упивался теплой, бархатистой окраской эха внизу, все чуждое там исчезло. Еще раз, осторожно, набрал воздуху, чтобы позвать, и сразу попал в нужный тон, связавший двор, и темноту, и окружающий мир Халле-ан-дер-Заале в одно мягкое, вибрирующее единство, куда ему хотелось окунуться, и сейчас он был совершенно к этому готов…
– Мэтью!
Словно от удара, Эд отпрянул назад, в комнату. Успел еще сделать два шага, потом колени подогнулись, и он рухнул на пол. Это был Мэтью, крик Мэтью. Возмущенный, обиженный вопль или визг, скрип несмазанного шарнира, двери меж этим и тем светом, которая резко захлопнулась и отшвырнула его назад из падения – первый, второй, третий этаж. В глазах было черно, пришлось глубоко втянуть и снова выпустить воздух, незаметно, будто дышит он не по-настоящему, будто вообще уже не дышит.
Немного погодя ему удалось отнять ладони от лица. Взгляд упал на открытое окно.
Кот затаился.
Его там не было.
Когда Эд засыпал, над ним склонилась Г. Была совсем близко и пальцем показывала на свой приоткрытый рот. Губы она при этом растянула в стороны и прижала кончик блестящего язычка к нижним зубам, стоявшим у нее чуть косо, как шибер снегоочистителя: «Мэтью, скажите: Мэ-тью».
Он попробовал увильнуть и спросил, у всех ли учительниц английского во рту такой маленький снегоочиститель, куда так ловко забирается язык.
Г. покачала головой и сунула палец ему в рот.
«Эдгар Бендлер, так вас зовут? Эдгар Бендлер, двадцати четырех лет? Что с вами, Эд? Думаете, дефект у вас врожденный? Тогда скажите thanks».
«Thanks».
«Скажите both of us».
«Both of us».
Палец у него во рту шевельнулся и объяснил ему все. Все, с чем у него непорядок.
«И еще разок both of us, а потом сколько хотите, будьте добры».
«Both, both…»
Недвижный, как маленький черный сфинкс, Мэтью замер подле кровати, чтобы немного понаблюдать, как он медленно, медленно входил в Г., так, как она любила, миллиметр за миллиметром.