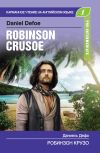Читать книгу "Крузо"

Автор книги: Лутц Зайлер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Рождественская сосна
Среди ночи рокот умолк. Прибой замер. Лес замер. Гудел туманный горн.
«С последним сигналом точного времени…»
Эд ощупью пробрался к лестнице. Небо ясное, необъятный, таинственный свод. Сосны уже поджидали его; они были его друзьями, с ними можно поговорить. Каждые двадцать секунд по их кронам пробегал луч маяка.
Далеко-далеко впереди, на краю обрыва, росло большое одинокое дерево – секунду оно целиком было на свету, точно застигнутое с поличным. Беглец перед спуском к морю. Сезы называли это дерево «наша рождественская сосна», или просто «сигнальная сосна». Три дня назад они собрались вокруг нее и, обращаясь к горизонту, сказали тост – веселого Рождества и всего доброго в грядущем сезоне. Такой они завели обычай. И объясняли его тем, что хотели разделить праздник с близкими, с «семьей». Зимой-то опять останешься один, друг без друга. Они еще и пели. «Тихая ночь, святая ночь» и «О радость». «Мое третье Рождество на острове», – сказал Рембо, стоявший на террасе рядом с Эдом. Некоторые сезы нарядились в маскарадные костюмы, кое-кто со свечами на голове. Праздновали они на летний солнцеворот. Под конец отправились ужинать в «Карл Крулль», где им подали утку с красной капустой. Все походило на вызов, но ничего такого они в виду не имеют, пояснил Рембо.
Рембо жил в хижине пасечника, маленькой хибарке в лесу, подсобном помещении неподалеку от «Отшельника». Там были его владения, там он принимал собственных гостей. Еженедельно по очереди наведывались то пасечник, привозивший на остров новых пчелиных маток, то человек, которого он называл книжным дилером. В специальной переноске, которую, как короб угольщика, надевал на спину, книжный дилер (представитель издательства «Искусство») приносил свой товар на возвышенность, на Дорнбуш, – ценные гравюры, роскошные издания, а кроме того, ценные книги других, недостижимых издательств, которые Рембо оплачивал ночлегами на острове.
Эд поежился. Рука его по-прежнему лежала на стволе рождественской сосны; в свете маяка ее кора поблескивала точно кожа доисторического животного. Он подошел к краю обрыва, прислушался в глубину. Тихое, едва слышное кипение. Вода заливалась в камни осыпи и снова отступала. Тяжелое, астматическое дыхание Балтики. Эд слегка наклонился вперед. Стремление упасть пока не пропало, может статься, оно было всегда. Эд понимал, что необходимо все время защищать свою жизнь, с одной стороны, от постоянно происходящего, с другой – от себя самого и желания сдаться.
Из персонала ему больше всего нравились Крузо, кок Мике и чета буфетчиков. Карола и Рик с самого начала приняли его по-хорошему. Официанты же составляли отдельную компанию. Крис казался безобидным и добродушным, а вот с Кавалло и Рембо обстояло иначе; в обоих он чувствовал вспыльчивость. Рембо производил впечатление человека ухоженного и чуть ли не старомодно пекущегося о мужской харизме. Он единственный, на ком кельнерский смокинг действительно сидел как влитой. В густой, похожей на шлем гриве поблескивали серебристые пряди, равномерно распределенные и как бы аккуратно нанесенные кисточкой.
Посетители нередко путали Кавалло и Рембо, что при отсутствии сходства можно объяснить только тем, что оба носили усы. Причем усы Кавалло были намного уже, в сущности лишь тоненькая полоска на верхней губе, а усы Рембо смахивали на густой, аккуратно подстриженный кустарничек, который он, разговаривая или читая стихи, обычно приглаживал мизинцем. Тем не менее кто-нибудь из клиентов нет-нет да и спрашивал, не братья ли они – «такое сходство…». А ведь это все равно что путать Дали и Ницше. Конечно, посетителям просто хотелось выказать симпатию и искренность (или завершить отпускной день разговором с одним из официантов легендарного ресторана на обрывистом берегу Хиддензее, чтобы после рассказывать об этом дома), но с этой минуты их уже не обслуживали – ни Кавалло, ни Рембо. В таких обстоятельствах очень кстати, что был еще и Крис.
Так или иначе, Кавалло и Рембо в самом деле дружили. Во время работы играли в шахматы, доска всегда стояла наготове, на столике возле буфетной стойки, где официанты могли передохнуть. Если времени на отдых не было, они перекликались через головы посетителей, сообщая друг другу ходы. Эду они напоминали стариков татар, которые часами скачут рядом на конях по степи и при этом могут сыграть целую партию, в уме, без доски. Временами Эд видел за столиком и Рене, мороженщика, но тот не играл, только стерег доску. Мороженщик отличался разговорчивостью, сыпал анекдотами и гулко хохотал в свои контейнеры с мороженым.
И все же Кавалло и Рембо частенько ссорились, из-за философии или политики, а иной раз из-за женщин. «Дело идет только о дневной победе», – пояснял Рик и держал наготове соответствующие напитки.
Возле одной из колонн посреди ресторана красовалась касса. Когда бы ни подходил к высоченному сооружению, Рембо всегда смотрел на фото своего тезки-покровителя и шептал вопрос:
«Когда придешь ты, слава?»
Фотография представляла собой скверную репродукцию юношеского портрета, вырванную из журнала и наклеенную на картон. В тот день, когда приступил к работе, Рембо поставил фото на кассу и таким манером получил свое прозвище. Эд готов был счесть все это одной из многочисленных баек, которые ходили о Рембо, но потом увидел собственными глазами – поднятую голову, шевеление усов.
«Когда придешь ты, слава?»
Зачем скользят человек и луна…[6]6
Паул ван Остайен. Мелопея. Здесь и далее стихотворение фламандского поэта цитируется в переводе Н. Мальцевой.
[Закрыть]
Еще до полудня террасу заполоняли посетители, каждое утро прибывали четыре парома, битком набитые туристами, которые тащились из гавани прямиком наверх, на Дорнбуш, будто больше некуда пойти. В результате прогалина и лес вокруг до самого обрыва кишмя кишели отдыхающими, яблоку негде упасть. Кое-кто пытался делать заказы прямо с обрыва, а самые наглые уже вскоре толпились между столиками, прямо в проходах для официантов. Глазели на столы, обсуждали еду, протягивали руки, показывая на то или иное блюдо, чуть не тыкали пальцами, а не то норовили враждебным бурчаньем разогнать сидящих посетителей. «Внимание! Поберегись!» – кричали официанты, но даже серьезные замечания действовали недолго, и в конце концов появлялся Кромбах, обходил террасу. Увещевая чересчур нетерпеливых, он выпроваживал их на край террасы, словно выводил из лабиринта. При этом держал их за плечо, как слепых, а иногда шел с ними к обрыву, – чтобы столкнуть вниз, думал Эд, это бы и проблему решило, и придало глубокий смысл слову «толкотня», то бишь час пик…
Толкотня действительно выявляла в каждом наилучшие стороны, и скоро Эд начал понимать, что скрыто под высокими понятиями «команда» и «товарищи». Кромбах, который в иных случаях никогда из конторы не выходил, доставал из брючного кармана короткий серый обрезок каната и показывал морские узлы. Вязал узлы-сердца разной формы, поднимал высоко в воздух и пожинал аплодисменты. Кто-то что-то показывал – это незамедлительно привлекало внимание, в первую очередь потому, что явно происходило не по плану, спонтанно, без входных билетов и контроля, а значит, было событием редким, экзотическим, какое можно пережить только здесь, на этом острове.
Эд так и не узнал, что именно Кромбах демонстрировал, когда вязал узлы. Над туристами серые сердца имели, по-видимому, ту же гипнотическую власть, что и над ним. После четырех-пяти сердец директор отвешивал поклон. Затем доставал из брючного кармана другие канатики и раздавал стоящим вокруг, а они брали их, недоверчиво, словно великую ценность. Кое-кто сразу же начинал связывать канатики узлом, по крайней мере пробовал, и некоторое время изготовление собственных узлов-сердец казалось куда желаннее шницеля или стейка на гриле.
Рембо и Кавалло довольно быстро переходили на этакий стайерский бег, тогда как Крис старался идти шагом, однако волей-неволей до предела ускорял шаги и в конце концов сбивался на свою обычную неровную прискочку. Теперь посуда поступала к раковинам высокими, шаткими стопками, клейкими от остатков еды, и все это надо было (посуды вечно не хватало) немедля перемыть, высушить и снова подготовить к использованию. Время от времени над невысокой дверцей в кухню возникал бледный моржовый череп кока Мике. Ругань его не была ни злобной, ни агрессивной, но отличалась непревзойденной драматичностью и настойчивостью – ежедневная авральная ария о нехватке тарелок, ножей, мисок и о неминуемой в таких обстоятельствах полной остановке, окончательном коллапсе, погибели. Как только он заводил свою арию, о деликатностях никто уже не думал. Целые стопки грязных тарелок без церемоний отправлялись в раковину, а жирные остатки шницелей, картошки, салата или котлет резким гребком ребра ладони выметались с поверхности воды прямо на пол. После некоторой тренировки Эд двумя-тремя молниеносными гребками – секундное дело! – очищал раковину. Нужно было только следить, как бы не заляпать чистую посуду, и, конечно, не очень-то приятно до вечера топтаться в мерзкой жиже из раздавленных отходов, в болоте из пищевого месива, которое издавало под ногами непристойные звуки, отчего Эд уже вскоре старался скользить по плиткам. Чтобы официанты не поскользнулись, Крузо время от времени насухо вытирал проход – даже сейчас, когда у всех голова шла кругом, он ничего не забывал, проявляя ответственность и заботу. Эд готов был обнять его за это.
Термометр «Отшельника» показывал сорок три градуса. Они вкалывали как берсерки и все равно не поспевали. Солнце палило в окна, вода в раковинах распространяла едкую духоту. Литрами они заливали в себя чай, который Карола заваривала за стойкой и в большом коричневом керамическом чайнике относила в судомойню. Стоял этот чайник всегда за спиной у Эда, в нише кухонного лифта, раньше этот лифт, наверно, ездил вниз, в подвал, или наверх, на служебный этаж, а теперь служил просто полкой. Наливать в чашку было недосуг, и Эд пил прямо из носика. В спешке тепловатая жидкость стекала через край чайника ему на лицо, но это не имело особого значения, поскольку маек они не надевали, а сушильные полотенца на бедрах и без того давно насквозь промокли от воды и пота. Он был рабом-галерником. Чувствовал себя голым, член и тот мокрый, между ног чесалось.
После часа авральной работы Кавалло впервые начинал ржать. А заодно выделывал мелкие беспорядочные прыжки, как ребенок, который пытается изобразить галоп; при этом он слегка фыркал, пыхтел, тонкие усики подрагивали. Подобные выходки совершенно не вязались с обычным обликом Кавалло (с его замкнутостью). «Romacavalli! – вопил Рембо на весь «Отшельник» и подначивал: – Аvanti, avanti, dilettanti!»[7]7
Римские кони!.. Вперед, вперед, дилетанты! (ит.)
[Закрыть] Эд восхищался тем, как Рембо, широко раскинув руки, вихрем носился вокруг, точно на пуантах; одной рукой он задействовал кассу, сортировал счета, секунду-другую не двигался, что-то расшифровывая на одном из крошечных чеков, и в то же время (рукой, которая словно бы удлинялась) забирал со стойки большой поднос с пивом и лимонадом, плавно, будто обладая телескопической способностью, а вдобавок держал в поле зрения раздачу и неприметным жестом делал знак ковыляющему мимо Крису.
«Когда придешь ты, слава?»
В самый разгар аврала Рембо принимался сыпать цитатами фекально-порнографического содержания, которые резко контрастировали с его элегантной наружностью и, как полагал Эд, выражали какую-то безымянную ненависть, бездонное презрение ко всему в жизни и к самой жизни, но все же, думал Эд, не могли иметь этого в виду. Да и возбужденный, по сути, воинственный звук его голоса говорил о другом. Эд трактовал непристойности Рембо как выражение сложного синтеза философа и старшего официанта, каковой этот определенно самый начитанный член их команды изо дня в день демонстрировал со всем старанием и гордостью. Иногда Рембо вдруг переходил на французский, «mon plongeur, mon ami»[8]8
Судомой, друг мой (фр.).
[Закрыть], а пробегая по дороге в судомойню мимо двери Кромбаха, громко бранил его: «Chef du personnel – une catastrophe!»[9]9
Начальник по кадрам – катастрофа! (фр.)
[Закрыть] После выступления на террасе директор оставался незрим.
Вкалывая и потея, Эд выдавливал из себя остатки мыслей и чувств. Урабатывался до твердой почвы полного изнеможения и в эти часы ощущал чистоту, отрешенность от себя самого и своей беды, был только судомоем, который кое-как держал позицию среди хаоса.
В первый раз Эд решил, что Крузо что-то объясняет, продолжает инструкции, которые надо тщательно мотать на ус. Его слух привык к гулкости судомойни, но тем не менее он понимал лишь отдельные, повторяющиеся слова – «человек» и «море».
– Что? – крикнул Эд в грохот аврала, может слишком резко, потому что руки Крузо мгновенно замерли, лишь вода плескала о стенки раковины.
– Мимо речных камышей мимо пологих лугов скользит каноэ к морю.
Наверно, это было что-то вроде магического заклинания, потому что вокруг мгновенно воцарилась тишина, даже радио на кухне умолкло. Крузо не поднимал головы, и Эд решил, что разговор, еще не начавшись, уже закончился. Он опустил руки в раковину, чтобы ухватить тарелку, когда вступил хор:
– Мимо речных камышей мимо пологих лугов скользит каноэ к морю. Под скользящей луною скользит каноэ к морю…
Эд чувствовал за спиной Рембо и Кавалло, поющих, запыхавшихся, тяжело нагруженных. Вытянув уставленные грязной посудой руки, они выглядели как статисты в абсурдной пьесе. Затем, у них за спиной, в сумраке, низким, чудесно певучим голосом вступила Карола:
– И так они следуют к морю каноэ человек и луна…
Крузо уже только шептал, но тем мощнее звучали басы, голоса кока Мике и Рольфа:
– Зачем скользят человек и луна вдвоем послушные к морю!
Не успел Эд осмыслить эту сцену, как тарелки официантов с грохотом обрушились к нему в раковину; Крис промчался мимо всех, проревел «Послушные к морю!» и заключил Крузо в объятия, а тот остался почти невозмутим, что, однако, не производило впечатления протеста или искусственности. Просто отвечало достоинству стиха, который они продекламировали сообща, по-видимому, что-то вроде гимна «Отшельника», «наше святое», как впоследствии не раз повторял Крузо.
Подобно сердцам-узлам или ржанию Кавалло, хор о человеке и море был неотъемлемой частью ритуала авральных часов и их безумия, был их кульминацией. В ближайшие минуты кок Мике орал из кухни «Finito!», конец заказов à la carte, на порционные блюда. Меню быстро убирали, у иных особенно разочарованных посетителей бледные копии приходилось буквально из рук выхватывать. Два-три блюда еще оставались в ассортименте, большей частью солянка, охотничий шницель и голубцы. Дежурные блюда объявлял Крис, весьма популярный у посетителей по причине грубоватых и вместе с тем обходительных манер. Лучший официант среди обслуги, сладким голосом говорил Рембо и вытягивал губы трубочкой; Рембо и Кавалло охотно посмеивались над Крисом, который год назад приехал на остров из Магдебурга, из прошлой жизни, где был электриком.
Два часа Крис, как дервиш, ковылял туда-сюда (на затылке вяло пружинящий коврик жирных, курчавых черных волос), потом выходил на улицу и, точно королевский герольд, замирал на ступеньках террасы. Ждал, когда наступит тишина и все взгляды устремятся на него. Тогда он кричал «Солянка!», а желающий отведать солянки быстро учился громко и отчетливо отвечать «Я!» и одновременно вставать, «чтобы я видел», как объяснял Крис, логично и вполне разумно. Сходным образом происходило и при разносе блюд. Когда Крис выбегал на террасу и кричал «Шницель!», часто на руках у него было шесть или семь тарелок, заказчики вскакивали и кричали в ответ «Я!», подчас не в меру громогласно в надежде, что их обслужат первыми. Иные и вовсе перегибали палку и кричали «Я, сэр!» или щелкали каблуками, после чего Крис, который одним-единственным плавным движением распределял по столам тарелку за тарелкой или миску за миской, рявкал в ответ что-то вроде «Двадцать отжиманий!» или «К прыжку с места на старт!», при этом он откидывал голову назад, а лицо выражало не то презрение, не то безумие, хотя все это, разумеется, была только игра.
Однако порой в отданиях чести сквозила серьезность, словно от Криса в самом деле исходила некая высшая сила или он пробуждал нечто такое, чему иные посетители не могли противостоять. Иные занимали позицию для отжиманий или разводили руки в стороны и прыжками распугивали птиц, которые в ближних кустах дожидались остатков еды. Некоторые посетители вообще не знали границ (как выражалась Эдова мать), отпуск явно не шел им на пользу, а может, здесь заключалась вся их несбывшаяся жизнь. Крис не обращал на это внимания. В конце толкучки он оставлял их на произвол судьбы. В 13.30 на кухне начинался перерыв, ровно в 14 часов дверь на террасу запирали.
Рембо и Кавалло скидывали пиджаки и рубашки, нагибались над судомоечными раковинами и пригоршнями бросали себе под мышки холодную воду. По завершении аврала, выходя на погрузочную рампу, чтобы наполнить раздраженные испарениями судомойни легкие свежим воздухом, Эд чувствовал себя так, будто весь покрыт коркой, точно не совсем окаменевшее ископаемое. Кожа на лице натянута, как старая мездра, а на руках размокла и беловатыми клочками махрится на кончиках пальцев. Коленки дрожали, голова слегка кружилась, из-за похожего на сироп моющего средства, которое почти не пенилось, но источало едкие пары, действовавшие ему и на желудок.
В перерыв, когда они все вместе обедали, Эд с большим трудом отделял образ жилистого свиного шницеля на своей тарелке от тех, какие видел раньше, порезанные, разжеванные, выплюнутые, растоптанные или плавающие в жиже раковины. Вообще-то ему вполне хватало ежедневной луковицы, больше ничего не требовалось. Он устал и не хотел двигаться, хотел только лечь, вытянуться во весь рост, спать, но упрямо шел к морю.
Перед уходом он некоторое время сидел с остальными за столом во дворе, иногда что-нибудь съедал, выкуривал сигарету, он снова начал курить, все курили, почти не говоря ни слова. Вокруг царило то серьезное удовлетворение, которое так благотворно действовало на него в годы на стройке, перед поступлением в университет, где он заблудился в историях языка, в путаных конструкциях из синтаксиса, морфологии, орфографии и лексикологии, в этой идиотской карусели, как студенты с отвращением и пиететом называли экзамены по упомянутым предметам в конце первого курса, то был предварительный цикл, цитаты из Музиля и Клейста, которые многих доводили до отчаяния и провала.
Эд наслаждался этим удовлетворением; оно было своего рода чувством собственного достоинства – на миг их всех объединяла общая гордость. Искренняя гордость, которая, пожалуй, шла не столько от характера их работы (рабского труда), сколько от того, что они совершили, по сути, невозможное, выдержали бурю. Ничто не давало им такого отчетливого ощущения общности, как толкучка, авральные часы в разгар сезона, с их сумятицей и напором. Без сомнения, их команда из тех, что защищают свой корабль до последнего, прилагая все силы, всю ловкость, гастрономическую дерзость и те искусства, какими они владели в силу университетской или артистической подготовки. Совершая невозможное, совершая эту огромную, хаотическую акцию, они, очевидно, выполняли кодекс чести, о котором говорил Крузо. Тот кодекс, что связывал сезов друг с другом. Особенное безрассудство, эссенция из гастрономии и поэзии, помогало им держать свой ковчег на плаву, день за днем. И спасать зыбкий остров.
Земноводное
Ровно в 15 часов Эд поднимался по крутой лестнице на обрыв и возвращался в «Отшельник». Подъем вгонял его в пот, тело перегревалось на солнце, ведь ни клочка тени на берегу не найти. Как всегда, он делал небольшой крюк по краю леса, чтобы по возможности пройти незамеченным мимо террасы, где уже сидели первые любители кофе.
– Зачем, зачем, зачем еще ты здесь? – бормотал он себе под нос, когда голышом сидел на корточках на грязном полу судомойни, подставив голову и спину под струю чудесно холодной воды. Смотрел на вереницу раковин, на свое отражение в стали той, где отмокали столовые приборы, – и только потом увидел ноги. Ступни и икры, неподвижно торчавшие из-под раковины, словно конечности покойника. По наклонному полу вода, которой остужал себя Эд, неудержимо стекала именно туда. Он испуганно попросил прощения, то есть буркнул что-то этим ногам, ногам Крузо, ему показалось, он их узнал.
Стоки раковин заканчивались сантиметрах в десяти от пола, вода самотеком сливалась в зарешеченные отверстия. Чтобы во время работы не ходить по щиколотку в вонючей жиже, приходилось постоянно очищать решетки от забивающего их грязного месива; Крузо называл это «прополка», работа еще ненавистнее «римлянина». Эд не понимал, почему Крузо лежит под раковиной так тихо. Может, вообще его не заметил, а стало быть, пока что есть возможность смыться на улицу, подумал Эд, и тут раздался громкий шум. В следующий миг перед ним стоял обладатель ног, тоже голый, обитатель девственных лесов, могучий, блестящий от скользкой влаги. В правой руке он сжимал мачете, большущий кухонный нож. Левой поднимал в воздух сточную решетку, на которой болтался метровый клок слизи. По плечу текла струйка крови; помещение наполнил жуткий смрад.
– Старенький уже, месяца четыре, должно быть, поэтому нужно терпение, – объявил Крузо, разглядывая ком слизи, будто живое существо, на которое давно охотился. Существо сужалось книзу и заканчивалось тонким серым хвостиком. Крузо вел себя, как бы это сказать, воинственно, что ли. Он был воином, доисторическим охотником, очень волосатым, с угловатой фигурой и внушительными габаритами.
– У тебя кровь, – сказал Эд, с облегчением, поскольку нашлась тема для разговора.
Крузо бросил нож, легкий плеск, и вода брызнула Эду в лицо. Охотничье орудие приземлилось в алюминиевой массе столовых приборов, что, тускло поблескивая, покрывала дно раковины, будто сокровище, взять которое не рискнет ни один человек на свете. Потом он протянул над раковиной окровавленную руку и посмотрел Эду в глаза. Взгляд был как у разведчика, взгляд из других, давних времен, когда он еще жил в индейском шатре или как член банды планировал налеты, под строжайшим секретом, взгляд доверительности.
Порез неглубокий. Пока Эд осторожно промывал руку, очищая от крови кожу и волоски, холодная жижа с хвоста капала ему меж пальцами ног, но он не отодвигался. Словно завороженный естественностью, с какой Крузо пользовался его услугами. Чем-то это было ему приятно, и куда больше, чем он осознавал. И ни их нагота, ни тем паче вид его гениталий тут ни при чем. Скорее уж другое: Крузо определенно доверял ему, считал, что может его использовать.
Хвостатая добыча наверняка весила немало; она слегка подрагивала в поднятой руке Крузо, которая тоже подрагивала. Походила она на какое-то земноводное или на огромную личинку земноводного, готовую с минуты на минуту обернуться огромной жабой, выбить решетку своим ослизлым горбом и во время работы кусать их за лодыжки.
– Лопата стоит у двери в подвал, – сказал Крузо. На сей раз голос его был чересчур близко, фраза прозвучала неразборчиво, так что Эду пришлось еще раз как следует сложить эти слова и произнести поодиночке.
– Лопата, – уже повторял Крузо, оскалив крупные зубы, словно стараясь артикулировать четче. Но прозвучало это в точности, как если бы он сказал «кофе» или «блюдце». Крузо не дикарь, а прямая противоположность дикарю, голый в судомойне, с неведомым зверем на крючке. Крузо – человек терпеливый.
– У-двери-в-подвал, – повторил Эд, поспешно обернув бедра посудным полотенцем.
Закопали они земноводное у опушки, но в пределах участка, который Крузо называл «травным огородом». Крузо, закутанный в старого розового «римлянина», сказал, что лучшего грибного места на свете не сыщешь, «четыре сорта и восемь разных трав». А затем приступил к инструкциям. Как палкой сбить земноводное с решетки. Как выколачивать решетку об дерево (определенное дерево, Эд заметил по повреждениям коры), до тех пор, пока не выскочат все застрявшие там остатки и т. д.
Впервые Эд уловил в речи Крузо что-то вроде диалекта. Отчасти похоже на швабский, а в сущности, архаическая смесь разных говоров. Так он говорил редко, только когда забывал следить за собой.
Эд старался изо всех сил. Пока копал, полотенце съехало с бедер. Не прерывая работы, он отставил ногу, отправил полотенце вбок, в лесную траву. Сам не знал, почему так надо. Ощущал свои гениталии, но в эту минуту важнее было кое-что другое. Босыми ногами лопату в песчаную почву не очень-то вгонишь – больно. Эд пытался наступать пяткой и давить короткими толчками, знал ведь, как работать лопатой. И от Крузо, который выдирал корни и руками отгребал в сторону песок, эту сложность вряд ли утаишь. Но речь сейчас шла только об одном – делать то, что нужно. И при этом не выказать слабины. Солнце освещало его пенис, мошонка смешно копировала движения копки.
В конце концов Крузо определил земноводное в яму. Лишь теперь Эд заметил огромное количество длинных, явно человеческих волос, которые жилками пронизывали слизисто-серое существо, точно паутина кровеносных сосудов на поверхности только что вскрытого органа. Белокурые волосы отсвечивали на послеполуденном солнце белизной, но попадались и черные, и рыжие. Эд помедлил, будто ему велено похоронить что-то живое, живность (как говорила его мать), но Крузо сказал «лопата», и Эд засыпал земноводное песчаной почвой.
Минута молчания, слышен лишь нарастающий шум прибоя. Сперва он нарастал медленно, потом молниеносно, оглушительно – на бреющем полете над Дорнбушем промчался серый реактивный самолет.
– Здесь замыкается круговорот свободы! – воскликнул Крузо, словно собираясь начать надгробную речь, голос смешивался с рокотом прибоя. – Мы возводим обмен веществ человека и природы к корням много более ранней общности. – В своем розовом «римлянине» он походил на исконного отшельника с фотографии в углу, где они завтракали, недоставало только кошки и ослика. Но сам-то Эд здесь, как раз наклонился, чтобы побыстрее и понезаметнее подхватить с земли свою набедренную повязку.
На обратном пути к «Отшельнику» Крузо говорил о мегалитическом захоронении на Дорнбуше и о кострищах трехтысячелетней давности, однако до сих пор заметных, наверху, на Свантиберге, священной горе, троне какого-то короля… Это слово Крузо произнес на диалекте. Он без труда приноровил свои шаги к размеру «римлянина», шел с достоинством трибуна, тогда как Эд то и дело возвращал свое полотенце на место – на бедрах в самом деле не за что зацепиться.
– Черная Дыра, – произнес Крузо и по наружной лестнице на фасаде «Отшельника» спустился в глубину. Сперва Эд потерял его из виду, потом вспыхнула электрическая лампочка в фарфоровом гнезде, привинченном меж двух чугунных печей. Стекло лампочки покрывала угольная пыль, ее луч освещал кучу разбитых брикетов.
– Выключателя возле двери нет, сперва надо пробраться в потемках сюда, к печке.
Послышался смешок, а может, Эд и ошибся. Рев «Мига» еще гудел в ушах, он поежился.
Напротив печей выстроился ряд разновеликих, наполовину сломанных шкафов.
– Наше вещехранилище, – крикнул Крузо, – а тут – архив! – Он сунул Эду пару брюк в мелкую клеточку, тонких, с тесемкой вместо пояса, таких же, как у молчуна Рольфа и кока Мике. Раньше Эд не стал бы мерить штаны при Крузо, но сейчас примерил. Уж этой-то способности у него не отнять: он чуял, чего от него ждут; чуял, как устроен чужой мир. Порой у него даже случались минуты точнейшего предощущения, он понимал и соответствующим образом поступал, если хотел. Может статься, это своего рода компенсация – за отсутствие некоего качества, чего-то такого, что сближает людей, связывает их друг с другом.
Первая пара оказалась чересчур велика, при второй и третьей попытке Эд тоже выглядел как лилипут в клоунских штанах. Эти этапы назывались примеркой и одеванием. Пятница получал свою козью шкуру. Когда подходящие штаны все-таки отыскались, Крузо накинул ему на плечи длинную белую поварскую куртку. Эд чувствовал взгляд Крузо, сердечное удовольствие.
– Хочу попросить тебя кое о чем.
Вещи пахли затхло, на сгибах были в саже. Эд сомневался, станет ли их носить, но одновременно чувствовал, что удостоен награды – за верную службу, или как это назвать? По спине под курткой бегали мурашки.
– Это очень важно для нашей здешней задачи. Вот я и спрашиваю, можешь ли ты взять на себя одну из печей. Топить надо спозаранку, в шесть утра, и наш завхоз слишком часто забывает. А ты знаешь, как трудно мыть посуду холодной водой, в сущности невозможно…
Пока Крузо рассказывал про печи и оснастку Черной Дыры, Эд представлял себе завхоза Института германистики в его садовой халупе, где весь пол заставлен бутылками, а еще видел завхоза привокзальной гостиницы, который сидел у себя в подвале и выжигал цифры на кубиках, видел и Эбелинга, завхоза «Отшельника» (до сих пор он его не встречал), пьяного в постели, в доме на острове, где он жил со своей матерью. На миг Эд увидел и себя самого: как на занятиях по физкультуре, все завхозы на свете выстроились по росту, он был последним в их шеренге, и над головой у него стояло: «Шесть утра».
Отныне подвал стал его берлогой, его укрытием, полным покоя и уединения. В углу, где штабелями громоздилась старая ресторанная мебель, он разыскал крохотный столик и барный табурет. Вынес их на улицу, щеткой соскоблил плесень и на два дня оставил на солнце. Столик прекрасно поместился в комнате у окна, правда пах он, увы, печалью (гнилью и углем). У табурета Эд отпилил ножки, но по сравнению со столом он все равно остался высоковат.
Затопив печь (дрова должны были хорошенько разгореться, только тогда можно подбрасывать в топку сырой уголь), Эд делал обход. Один из шкафов оказался битком набит маленькими печатками мыла, гостиничного мыла, в некогда белых обертках с тонкой медной надписью «Палас-отель». В следующем, стальном шкафу стояли папки-регистраторы и кассовые книги. Позади стального шкафа, изрядно проржавевшего, но тяжеленного, обнаружилась ниша. Сквозь щель (в руку шириной) виднелся хлам, допотопные гимнастические снаряды, заплесневелая мешковина и цинковая ванна. «Александр Эттенбург называл эту ванну камерой сожжения, крематорием, – сообщил Крузо, словно и это имело значение для Эдовой работы. – Раньше тут была и урна для пепла. Отшельник все подготовил. Дитя природы, далеко опередившее свое время. Он здесь всему дал имена – ущелье Свантевитшлухт, гора Флаггенберг, скала Цеппелинштайн. В конечном счете старикан желал только одного: чтобы его похоронили на острове, но его прах высыпали в море. Островитяне не желают хоронить чужаков в своей земле, по сей день, за редким исключением. Великих вроде Гауптмана или безымянных утопленников».