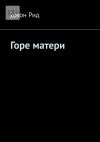Текст книги "Заброшенное село. Ночь"

Автор книги: Любовь Безбах
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Заброшенное село. Ночь
Любовь Безбах
Фотограф Михаил Новиков
Фотограф Радмила Родионова
© Любовь Безбах, 2023
© Михаил Новиков, фотографии, 2023
© Радмила Родионова, фотографии, 2023
ISBN 978-5-0059-6229-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЗАБРОШЕННОЕ СЕЛО, НОЧЬ
Несмотря на кромешную тьму и ливень, Михаил всё-таки вышел к заброшенному селу. Он понял это, когда луч фонаря перестал выхватывать деревья, а лишь освещал остро блестевшие струи дождя, стремительно прошивавшие черноту. Молнии сверкали теперь не так часто, и очередная высветила прогнувшуюся крышу ближнего дома. Михаил, пробираясь через раскисшие колдобины и вытягивая из грязи ноги, добрался до тротуара, выстланного досками. По другую его сторону при свете фонаря виднелся забор.
На тротуаре Михаил провалился сквозь прогнившие доски и с трудом выдернул застрявшую ногу. Не терпелось попасть под крышу, хоть какую, где было посуше и сверху не извергалась потоком вода. Хотелось развести огонь и посушиться, подкрепиться как следует, но на это, похоже, сил уже не оставалось. Гроза застала на ночь глядя, врасплох, и стемнело так быстро, что дойти до машины, оставленной на лесной дороге, Михаил не успел. Лес он знал хорошо, но всё ж заблудился, как следует поплутал, а когда сориентировался, понял, что лучше ему дойти до заброшенного села, чем возвращаться к машине: и далеко, и можно снова заблудиться. Да и, пока шёл к селу, продираясь под ливнем сквозь заросли и натыкаясь на деревья, подлая мыслишка так и точила, что не дойдёт, заплутает, и придётся провести ночь насквозь мокрым, измученным и под открытым небом.
Ольховка – так называлось это село.
Закрыли его лет, пожалуй, тридцать назад, когда остановилась лесопилка.
Михаил отыскал калитку, с силой подёргал её туда-сюда, пока она не поддалась, и, наконец, ввалился в дом. Дверь оказалась не то что не запертой, даже не притворенной. В нос ударил нежилой плесневелый дух, на лицо легла густая паутина. Фонарь осветил голые стены и кровать с панцирной сеткой, чем-то застеленной, на ней лежали какие-то вещи. Была и печь, но растапливать её, когда не было уверенности, что разгорится, желания не возникло, хотелось только упасть на кровать и забыться. Именно так и собирался поступить Михаил, когда шагнул к кровати и погасил фонарь. За окном с чудом уцелевшим стеклом вспыхнуло синим, и на гостя уставились два чёрных глаза на белом лице. Тот резво отпрыгнул, хотя и понял уже, что это всего лишь кукла. Разозлившись, он схватил в потёмках покрывало и сдёрнул его на пол вместе со всем скарбом. Вещи разлетелись по избе. Михаил наступил на что-то, услышал снизу кукольное «ма-ма» и поддал злополучной кукле ногой. И рухнул на голую сетку. Та прогнулась почти до пола, под щекой оказался твёрдый холодный металл. Мелькнула мысль, что надо бы под голову что-нибудь подсунуть, но додумать Михаил не успел, провалился в сон.
Проснулся он от сильнейшего раската грома. Ливень молотил по крыше, как ополоумевший. «Это ещё гроза идёт?» – удивился Михаил, попытался шевельнуться и не смог. Члены оковывал паралич, в глазах щипало, а горло словно охватил раскалённый обруч. «Простыл, что ли? Не может быть. Уже забыл, что это. Подумаешь, промок, не замёрз же. Несерьёзно как-то. А вот сейчас зябко как-то, в мокрой одежде-то. Ф-фу, мерзость…». Удивляясь на себя и досадуя, Михаил полез в нагрудный карман за телефоном, заставляя многотонные руки шевелиться. Пока доставал, задохнулся, аж пот прошиб. Время около трёх всего. Хорошо бы всё-таки раскочегарить печь, погреться, обсохнуть хоть чуточку, но руки бессильно упали на железную сетку. Кое-как дотянулся до отлёжанной щеки, потёр её. Лучше поспать, пока не рассветёт, а потом убраться отсюда подобру-поздорову. Под голову бы подложить чего… Где рюкзак-то? Михаил превозмог слабость и включил фонарь, оглядывая пустое помещение. На полу валялись в беспорядке игрушки и бесформенная тень покрывала, их-то Михаил и сбросил с кровати. Встать за покрывалом, что ли? Михаил в сомнении пошевелился на своём негостеприимном ложе, выбраться из которого казалось почти невозможным. Да и укрываться пыльной ветошью – дело сомнительное, даже когда дрожишь, весь промокший, и горишь от температуры.
Синий сполох задержался на провисшем потолке и погас, почти сразу раскатился гром. Ещё одна вспышка, осветившая игрушки на полу, и почудилось Михаилу, будто эта рухлядь валяется теперь гораздо ближе, чем поначалу. Мало что привидится, когда температура и слабость чудовищная… Надо бы будильник выставить на всякий случай. Залёживаться здесь нежелательно. Будильник на телефоне, можно сказать, убойный, мёртвого поднимет. Михаил поставил его на четыре-тридцать, поморгал воспалёнными глазами и потихоньку задремал.
Приснился ему единственный сын. Не любил он сына, с самого начала душа не легла. Жил так, словно не было его. Так же, как когда-то его собственный отец. Но нет, не так, Михаил, как человек современный, понимал, что за сына, даже нелюбимого, он несёт ответственность, поэтому иногда брался за него, выпытывал, что в школе проходят, оценки выспрашивал у жены, теперь ведь в дневник не выставляют, в интернете всё, а ему оно надо? Гонял по правилам в учебниках, по английским словам, проверял, что творится в тетрадях. Вадик не плакал, но съёживался, смотрел со страхом, жалко блеял под нос, так, что ни слова не разберёшь. И это мой сын! – злился Михаил и остервенело ругался. «Мямлю воспитываешь, – напускался он на Алёну. – Не пацан, а тюлюлюй растёт. Убил бы, честное слово». Отлупил его, правда, только один раз, за «беспримерное» поведение в школе. Классуха пожаловалась, что агрессивный, одноклассников задирает, девочкам под юбки заглядывает. Этот тихушечник, оказывается, без конца дерётся, да так, что родители побитых мальчиков один за другим жалуются!
И сейчас, во сне, Михаил словно с цепи сорвался, избивал сына кулаками. Тот вопил, извивался, тщетно пытался вырваться. Отец всю свою злость, всю обиду вколачивал в маленькое детское тельце. Вадик вывернулся и бросился наутёк, Михаил за ним. Ноги тяжёлые и словно в киселе вязнут, сын всё дальше и дальше, вот уже и скрылся совсем. Всё, нет больше сына, исчез он.
А злоба осталась. И когда Михаил вдруг наткнулся на него, тут же схватил и стал бить по голове камнем. Руки от крови липкими стали, противными…
«Я ж его убиваю!» – с ужасом понял Михаил и обнаружил, что бьётся на голой панцирной сетке, воздуха не хватает, а вокруг по-прежнему темнота. «Это же сон, сон… Ф-фу…» Сердце колотилось так, будто он полночи бегал, а не спал. «С ума я, что ли, сошёл, он ведь всего лишь ребёнок. Ну, не люблю я его, но не убивать же его, в самом деле». И тут же припомнил взгляд сына, который случайно уловил, взгляд тяжёлый, полный ненависти. «Гадёныш, – подумал он тогда. – Лучше б спасибо сказал, что кормлю его и терплю под своей крышей. Тварь неблагодарная». Этот взгляд его здорово зацепил и обидел, но в глубине души он прекрасно понимал, откуда этот взгляд взялся.
Синяя вспышка осветила избу. Игрушки на полу, похоже, подобрались ещё ближе. У самой двери динозавр валялся, где он теперь?! Михаил, человек трезвомыслящий, в подобную чепуху не верил сроду, и теперь глазам своим верить не собирался. Но страх тонкой холодной струйкой уже пробрался в самое нутро убеждённого материалиста. Подоспел отдалённый гром. «Дались мне эти грибы», – не без сарказма подумал незадачливый грибник, громко прокашлял саднящее горло, чтобы разогнать тишину, а сам расширенными глазами уставился в сторону игрушек, ожидая новой вспышки.
А всё началось с имени. Имя для сына они с Алёной подбирали вдвоём. Владимир, Дмитрий, Александр, Михаил – вот настоящие имена для мужчины! Алёна соглашалась. Приехала тёща помогать с новорождённым, и помогала она хорошо. А потом они вдвоём, Алёна и тёща, принесли из загса новенькое свидетельство о рождении. Вадим – вот как звали теперь его сына! Вадим, блин! Какой-то Вадик… Вадим Михайлович, тьфу! Михаил был оскорблён. Отныне тёща исчезла с его горизонта. Есть она, нет её – неважно. Она обижалась, пыталась поговорить, ругалась – зять мазнёт равнодушным взглядом, вот и будет с неё.
Исчез и сын. «Интересно, а если б не имя, любил бы я его?» – думал Михаил, таращась во тьму. Ответа не было. Хотя… хотя… Он и до конфуза с именем с прохладцей относился к червячку в пелёнках. На руки брать не хотел, не смотрел, и уж тем более не тётёшкал сыночка, даже в голову не пришло ни разу. Неужели не в имени дело?
Михаил и думать забыл об игрушках. «Есть разница, как сына зовут, есть же! Мог бы и сам в загс съездить, что мешало-то? Заработался, что ли? Ну, и заработался. Нашёл кому доверить. Самому надо было». И что бы изменилось, если бы Вадика звали Дима? Михаил поразмыслил, примерил имя Дмитрий к Вадиму и пришёл к выводу, что Вадим – он Вадим и есть, но никак не Дима. И не Саша, и не Володя. «За что ты его так не любишь, Миша?» – в сердцах спросила Алёна, когда он отлупил сына по жалобе марьиванны. «Мой ли это сын?» – буркнул тогда отец, не остывший ещё от нового метода воспитания. «В зеркало посмотри на себя и на него! – бросила Алёна. – Ишь, ты, нашёл крайнюю!»
Они тогда вроде не поссорились, но среди ночи Михаил вдруг проснулся, а потом услышал с соседней подушки тихие всхлипы. О сыне плачет, – понял он, соскочил с дивана и ушёл на балкон курить. «Растит тюлюлюя, – злился он. – Всё сюсюкает над ним, юбку бы ещё на него напялила, дура!» Это было верно, Алёна души не чаяла в сыне, и в самом деле над ним сюсюкала. И Вадик сюсюкал до самой школы, противно слушать. Пацан ведь! И бабушка туда же. Как приедет в гости, сготовит чего, и начинает внука потчевать – приходи, кума, любоваться! «Ешь, пока рот свеж!» «Всё полезно, что в рот полезло!» С души воротит. Испортили они парня. Сейчас ему одиннадцать, хоть не сюсюкает, и на том спасибо.
Снизу вдруг донеслось знакомое «ма-ма». Михаил подпрыгнул на сетке, но сил не оказалось выбраться из неё. Бестолково побарахтавшись, он остановился и нашарил фонарь. Луч заметался по полу, по игрушкам, которые валялись теперь совсем рядом, и ту самую куклу. Она не только вылезла из-под кровати, но и по-собачьи уселась, и теперь глядела на гостя пустыми глазами, вовсе не чёрными, а непонятно какими. Платья на ней не было. Да и игрушки уже не валялись, а их будто кто-то разложил: солдатики, динозавры и роботы стояли на ногах, мягкие игрушки сидели, как и положено зверушкам, хоть и созданным руками человека.
– Это кто надо мной потешается, а?! – рявкнул Михаил и кое-как уселся, шаря лучом фонаря по углам. Никого не было, но он не сомневался, что догадка верна.
– Какая падла мне спать мешает?
Голос был севший, слова кипятком обожгли горло. Луч тем временем наткнулся на большой банный халат, висящий в воздухе. Михаил поводил фонарём, пытаясь разглядеть плечики и верёвку, но ничего не увидел. Халат зашевелил рукавами и двинулся на него, одновременно качнулись вперёд и игрушки. Это было уже чересчур. Михаил хрипло заорал и забился в сетке, так подло провисшей почти до пола и превратившейся в ловушку, фонарь упал, и луч бесцельно упёрся в пространство. В этом свете игрушки снова замерли, а халат скользнул на пол. Михаил перестал кричать и тут же услышал звук шагов снаружи. «Люди, вот счастье-то! Люди!»
– Э-эй! – просипел Михаил, а руки сами тянулись к голове, где сильно мешали волосы, стоящие дыбом. Волосы он пригладил двумя пятернями и в бессилии повалился на кровать. Шаги протопали по крыльцу, и дверь раскрылась, впуская коренастую фигуру.
– Вижу свет, – произнесла фигура, отряхиваясь от воды. – Есть кто?
– Я, – сипло ответил невольный гость, радостно улыбаясь. – По грибы сходил вот… Михаил.
– А я Петрович. Коль отца Петром зовут, у детей имён не будет, – ответила фигура и твёрдым шагом прошла к печке. – Староста местный. Что, худо тебе?
– Да тут… подпростыл малость. Ерунда какая-то.
– Молодёжь нынче хлипкая пошла.
– Сорок три годочка.
– Зелёный ещё, – Петрович присел на корточки, открыл дверцу печки и чиркнул спичкой. – Вот поживи с моё…
Оказывается, печь была готова к растопке, кто бы мог подумать! Дрова затрещали очень даже весело, и дымом не пахло. Михаил ощущал несказанное облегчение. Уже и не верилось, что несколько минут назад с ним происходило нечто из ряда вон.
– А вам сколько, Петрович?
– Мне-то? Много. Очень много.
Огонь из печи осветил обыкновенное лицо пожилого человека. Петрович снял с плешивой головы кепку, буднично пригладил остатки волос, потом прикрыл дверцу печи и спросил:
– Надолго к нам?
– Утром уйду, – удивился вопросу Михаил. Конечности его снова налились тяжестью, глаза слипались, и в них немилосердно щипало.
– А то оставайся.
– Где оставаться? В Ольховке? Да ну?
– А зачем куда-то ходить? Будешь здесь, с нами.
– Разве тут ещё живёт кто-то?
– Мы живём, куда ж деваться-то.
– А как до города добираетесь? Дороги-то нет!
– А на что нам город? Нам и здесь хорошо. Чего тебе идти, оставайся. Тут хорошо, лес кругом, свежий воздух. В городе такого воздуха нету, верно?
Староста заброшенной Ольховки тихонько засмеялся, глядя на гостя. В глазах отсвечивало пламя, видневшееся за дверцей печи. Михаил вроде и задрёмывал, но что-то мешало заснуть окончательно. Видать, история с игрушками и халатом взбудоражила. Помнится, когда у Вадика был жар, он рассердился на собственные волосы, схватил ножницы и отчекрыжил себе чёлку, и лицо у него было очень злое. А у Михаила, похоже, сейчас тоже температура, мало ли что привидеться может.
– Выбор-то у тебя всегда есть, – говорил между тем Петрович, неторопливо говорил, негромко. – Можешь остаться, охота тебе возвращаться к жене и сыну. Они давно уже отдельно от тебя живут, своя жизнь у них.
Слова по капле доходили до гостя, и так же медленно отпускала дремота.
– Отдельно?
– Отдельно, да. Ты же сам от них отделился. Ты сам по себе, они сами по себе. А жену ты любишь, этого не отнять. Бесишься, что она сына любит без памяти. Ревнуешь! Так ведь она мать. Было бы странно, если бы она чадо своё не любила, и такие мамаши есть. Их всё больше, таких мамаш. Ты вот, папаша, сына своего отчего не жалуешь? Это же твой сын, плоть от плоти, и ты это знаешь. Алёнка твоя подолом не трясла и не трясёт, ты бы такую в жёны не взял. Ты ведь мужик основательный, даже расчётливый, я бы сказал.
– Имя… – пробормотал Михаил. Глаза открылись окончательно. «Что опять происходит?» – обеспокоенно подумал он.
– Да причём тут имя, – отмахнулся Петрович. Он отодвинулся от печи и уселся на край кровати. Глаза его по-прежнему горели, словно синие угольки. – Сердцу не прикажешь, вот что. Так что ни в чём ты не виноват. А дальше что будет, а? Это сейчас Вадик маленький, а потом вырастет, а ну как станет выше тебя и в плечах шире? А ведь станет! Что ты ему тогда скажешь, а? Какие аргументы приведёшь? Отправит он тебя адресочком, и хорошо, если ускорения не придаст.
Сон ушёл. Михаил с сомнением пошевелил пальцами. Слабость, что б её разобрало! Откуда она только взялась! Угораздило же простыть так бестолково. Хотелось немедленно встать и уйти отсюда, даже невзирая на ночь и на дождь, который, кстати, давно уже не барабанит по крыше, и невзирая на крупный шанс заблудиться в родных лесах. Он здоровый, крепкий мужик, прекрасно переживёт остаток ночи в лесу. А тут всё равно сыро и холодно, и согреться никак не удаётся. Что-то местная печка совсем не греет!
Попытка выбраться из кровати провалилась.
– Ты лежи, лежи, – засмеялся тихонько Петрович и похлопал гостя по мокрой коленке. – Никуда ты отсюда не уйдёшь.
Михаилу стало смешно.
– С чего это? – ухмыльнулся он.
– Я тебе тут про выбор толкую, а ты не разумеешь. Ты можешь уйти, воля твоя, но ты оставишь нам сына.
– Чего? Какого сына?
– Единственного, какого… Вадика своего. На кой ляд он тебе дался, этот Вадик?
– Как на кой? Да его здесь и нету.
– Вижу, что нету, не слепой, чай. Мы найдём, как забрать его, за это ты даже не переживай. Уйдёшь без проблем, хоть сейчас, коль на терпится, но только согласие твоё нужно.
Михаил мог поклясться, что не спит, а значит, всё происходящее вполне себе реально. Так же реально, как горящее горло, мокрая одежда, озноб и слабость. И челюсти от холода сводит так, что говорить приходится сквозь зубы.
– Слушай, Петрович, что-то я тебя не пойму, – произнёс он.
– Я же по-русски объясняю, непонятливый ты мой. Ты соглашаешься отдать нам сына и уходишь. Всё. Даже росписи нигде не требуется. Достаточно устного «согласен». Согласен?
– Нет.
Петрович вздохнул и поднялся. И Михаил понял причину беспокойства: огонь в печи играл голубыми сполохами, но никак не красными, и печь совсем, совсем не грела! Староста отступил вглубь избы, и глаза у него горели, как две кварцевые лампочки. Вокруг началось невидимое шевеление, то самое, которое уже один раз поставило дыбом волосы на голове Михаила.
– Да ты чокнутый, Петрович! – просипел он в каком-то отчаянии. – Вадик всего лишь ребёнок, и уж кто и вправду ни в чём не виноват, так это он! Чего тебе нужно от меня, нерусь?!
– Сын. И всё. И ты свободен.
Михаил громко сопел и молчал, и Петрович продолжил:
– С чего это вдруг ты в него вцепился? Речь о жизни и смерти, твоей, между прочим, если ты не допетрил до сих пор. Дух противоречия взыграл, мыслить разумно мешает?
– Это мой единственный сын, другого не будет.
– Чего?! – засмеялся Петрович. – Да с чего ты взял, что не будет? Хочешь – Сашка будет, хочешь – Димка, всё будет, коль захочешь, всё от тебя зависит. Старая жена рожать не захочет – другую найдёшь, одиноких женщин много вокруг. А с Вадимом у тебя не сложилось, так и стоит мучить его, жену мучить и самому мучиться?
– Да, не сложилось. Но ведь можно же всё исправить, – ответил Михаил и сам подивился своим словам. – Можно исправить, ведь не поздно ещё!
– Ничего ты исправлять не собираешься. Ну, так что?
– Нет.
– Нет? Не согласен, значит?
– Проваливай к чёрту, нелюдь.
– Я у себя дома, – последовал ответ.
Дверца печи распахнулась, и оттуда вырвались языки синего холодного пламени. На кровать резво вскарабкались игрушки и набросились на несговорчивого гостя. Тот простуженно зарычал, и, превозмогая слабость, выбрался таки из сетки. Ватные ноги подломились, и Михаил грохнулся на пол. Пластмассовые зубки больно впились в ногу, в бока торопливо втыкалось что-то острое, а на грудь взгромоздилась проклятая кукла и полезла ручонками прямо в глаза. Михаил, воя, перевернулся и скинул куклу, но избавиться от назойливых зубов не удавалось. Длинно выругавшись, пленник ухватился за спинку кровати и поднялся. Перед глазами завертелись синие стены, а колени так и норовили подломиться.
– Ничего, ничего, – прорычал Михаил, скинул с себя несколько игрушек и даже ухитрился на одну наступить. Та заверещала. Зубки причиняли боль уже невыносимую, пленник рискнул нагнуться и отшвырнул от себя вредную игрушку. Ящеры и солдатики подступили снова. Петровича в избе не было, зато из темноты вырисовался халат и загородил путь к двери.
– Ах, с-су-ука, – выругался Михаил и попытался обойти халат стороной, да не тут-то было. Халат метнулся к гостю и накрыл смердящей тканью лицо. Михаил вцепился в ткань руками и зубами, но отодрать окаянный саван от себя не удавалось. В обе ноги опять кто-то впился, а в щиколотки вонзились острые иглы.
Халат зашёл за спину, и нашлось у него оружие посерьёзнее, чем копья оловянных индейцев. Рукава! Они обвились вокруг шеи и стянулись в узел. «Гори всё огнём», – подумал Михаил, задыхаясь и тщетно отдирая от себя халат. Откуда-то взялся пол и больно ударил в голову и плечо. Ну, уж нет, не возьмёте! Михаил оставил халат и нащупал в мокром кармане зажигалку. Халат вспыхнул, и узел на шее мгновенно развязался. Игрушки отпрянули. Из синей темноты наблюдали страшные глаза куклы. Халат скачками метался по избе, сбивая с себя пламя. Михаил щёлкал зажигалкой и лёжа вертел головой, ища, что ещё можно подпалить. Вот оно – покрывало! Пленник подполз к нему и поджёг, а потом с трудом поднялся – это далось уже легче, чем в первый раз. Горящим покрывалом он достал до игрушек, которые оказались ближе остальных. По избе с верещанием запрыгали горящие комки. Кукла увернулась. С потолка посыпалась труха. Михаил, глядя на огненную вакханалию, возрадовался, но тут заметил, что огнём занялись стены и пол, и двинулся к выходу. Уцелевшие игрушки уже столпились у закрытых дверей. Пленник ожидал любого коварства и весьма удивился, когда дверь послушно распахнулась. Волна свежего сырого воздуха сбила с ног, и пламя в избе с рёвом взметнулось к полотку. Игрушек уже и след простыл.
– А, бесенята, – пробормотал Михаил и гусеницей перебрался через порог, торопливо подбирая от жара ноги и вдыхая воздух полной грудью.
Царила ночь, дождь прекратился, воздух отяжелел от влаги, а со спины несло оранжевым светом и жаром. Михаил поднялся, сделал несколько неуверенных шагов, убеждаясь, что стало легче, обернулся и увидел, что пламя уже перебралось наружу, и пожар не могли остановить даже напоенные дождём брёвна и доски. Калитка была открыта – можно идти своей дорогой.
Рюкзак и фонарь остались в горящей избе. Придётся передвигаться в полной темноте, но село нужно покинуть. Лучше до рассвета в мокром лесу пересидеть. Михаил высмотрел длинную жердь, подпалил её с одного конца и с жердью наперевес шагнул за калитку.
На тротуаре, проломленном давеча нетвёрдой ногой грибника-неудачника, он снова провалился, теперь уже другой ногой и ещё более нетвёрдой. И застряла нога гораздо крепче, чем в прошлый раз. Михаил дёргал, дёргал её, уже согласен был уйти и вовсе босым, но тут явственно почувствовал на щиколотке чьи-то пальцы, и эти пальцы тянули вниз.
– Эй, кто там? – глухо вопросил Михаил, морщась от усилий освободиться. Кто там может быть, под тротуаром, если там канава?! И нога в кроссовке в воде полощется, в холодной и мокрой чрезвычайно, и кто-то снизу, из канавы, тащит его под тротуар! И тащит успешно… Михаил провалился по пояс, насмерть перепугался и начал тыкать горящей жердью под гнилые доски, прямо себе в ноги. Уж лучше сгореть живьём, чем погибнуть от рук неведомой нечисти! Снизу вздыбился жуткий крик, мало похожий на человеческий, и нога освободилась. Михаил рывками, на четвереньках, выбрался из пролома, и на другой стороне тротуара поднялся на ноги. Всё, свободен!
Позади жарко и торжествующе ревело пламя. И при его свете разглядел Михаил лица, много лиц, и остановился. Похоже, его ждут всей деревней…
Он наклонил догорающий, чадящий остаток жерди, и население брошенного села попятилось. Надо бы другой факел найти, иначе из села не выбраться. Пленник оглянулся, но позади горело всё, что могло гореть, вместе с забором и калиткой. Рядом темнел соседний дом, хорошо было бы организовать ещё один пожар, и вообще подпалить всю деревню, но как, если всё в округе пропиталось водой?
Дом можно подпалить изнутри. Михаил тяжело, мешком, перепрыгнул опасный тротуар и стал шарить вокруг в поисках чего-нибудь горящего, что можно забросить в окно соседнего дома. Изловчился, выломал доску из горящего забора – тот рухнул в пламени – и пошёл войной на соседний дом, освещённый играющим пламенем, насупленный, блестящий чёрными стенами из мрака.
Из тьмы выступило несколько фигур. Михаил двинулся на них, размахивая горящей доской, но тут в ногу снова впились чьи-то мерзкие зубки, да так свирепо, что пленник потерял равновесие и упал, и выронил доску, а в руки и в ноги вцепились знакомые игрушки. Тут и кукла подоспела, подобралась к лицу, пластмассовые пальцы полезли в глаза. Первая и полетела прочь. Остальные куклы последовали туда же, какие-то отстали сами. Но своё дело они сделали: доска с шипением тлела в мокрой траве, и подпалить ею уже ничего было нельзя. Михаил, шатаясь, побрёл к пожару. Около забора «поживиться» уже было нечем.
– Не ищи, не ищи, – донёсся с другой стороны тротуара голос Петровича. – Иди, сердешный, сюда. К нам.
«Что я пырхаюсь тут, в самом деле, – подумал Михаил, едва держась на ногах. Мир вокруг вертелся бешеной каруселью. – Я тут, можно сказать, у гибели на краю. Надо отвязаться от них, да и дело с концом. Сказано же – даёшь согласие, и свободен. Дался мне этот… придурок, в кого он только уродился».
Михаил знал, в кого. Как-то попалась на глаза фотография, он в первую секунду подумал, что это он сам в детстве, и только потом сообразил, что фотография цветная. И новая. Поразился тогда сходству и больше глупых упрёков жене не бросал.
И поплёлся туда, к сельчанам. На тротуар ступил смело, знал, что ничего не случится. Оно и не случилось.
Жители Ольховки подступили ближе. Люди как люди, не скажешь даже… Вперёд вышел староста и спросил:
– Согласен?
Михаил вздохнул и обратился к ольховцам:
– Вы ответьте, люди добрые, а то я чего-то не разумею. Сын мой вам на что?
Из толпы, из тьмы донёсся женский голос, грудной, переливчатый, необыкновенно красивый:
– Нам бы ребёночка… Мальчишечку бы нам…
Толпа шевельнулась, вздохнула, и таким холодом понесло от неё, что Михаила снова охватил болезненный озноб. Замогильное население расступилось, пропуская вперёд маленькую девочку с куклой в руках. Девочка не стала ничего говорить, только смотрела ясными, чистыми глазами. Отражались бы облака в таких глазах, если бы они, облака, были. А кукла на руках та самая, знакомая, и по-прежнему голышом. «Ребёночка им, нежити этой, – озлобился Михаил. – Обойдётесь. Совесть потом жизни не даст. Да и жаль дурака, он же не виноват, что мамаша-курица имя ему дурацкое отвесила». Имя тут ни при чём, – взвизгнуло пилой где-то на задворках.
Как же сквозь строй прорваться? Он оглядел потусторонних жителей, бросил взгляд за спину – там тоже маячили фигуры, и задрал голову. Вместо неба чернела бездна, и придвинулась она к самой земле, густая, без единого проблеска, плотная, словно крышка гроба. Михаил прислушался к себе. Озноб так и бьёт, руки-ноги ватные, горло горит, нос заложен, да ещё и одежда насквозь мокрая. Хотя нет, изнутри она уже подсохла, та, что на теле. Да и верхняя уже далеко не «насквозь».
Михаил стянул куртку. Сельчане помалкивали, ждали.
– К смерти готовишься, что ли, чудной человек? – участливо поинтересовался староста, фашист недобитый.
«Мысли ты читать всё-таки не умеешь», – подумал Михаил с некоторым удовлетворением. Куртку он зажал промеж ног, через голову стянул рубашку и остался в майке. А рубашку поджёг зажигалкой.
Нежить с дружным вздохом отпрянула. Долетел насмешливый возглас Петровича:
– Надолго ль хватит?
Сзади затявкала игрушечкая собачка, стала бросаться. «Чучело китайское», – со злобой подумал Михаил, подхватил куртку, махнул горящей рубашкой в сторону замогильной братии, чтоб держали дистанцию, ловко пнул плюшевую псину и перескочил тротуар. Неизящно вышло, но это и неважно. И двинулся к соседнему дому. Бегом не получилось, иссякли силушки богатырские. Рассчитывал Михаил дотянуть до рассвета вместе со спасительным пожаром.
Рубашка догорела быстро, следом сгорела и майка, и от майки Михаил с трудом поджёг сырую, тяжёлую куртку. Та тлела и горела едва-едва, оно и к лучшему, на дольше хватит.
Его встретили несколько человек, но подойти близко опасались. Окна дома были заколочены, но горящая куртка легко пропихнулась внутрь свозь широкие щели.
И тогда один из сельчан что-то бросил ему в голову. Это что-то вцепилось ему в лицо маленькими твёрдыми пальчиками. Снова кукла, будь она проклята! Она вертелась на голове, как обезьяна, больно драла лицо и уши, всё пыталась выдавить глаза, и её никак не удавалось оторвать от себя. Тут и сельчане подоспели, повалили его и принялись пинать, и вместе с ними – девочка с чистыми глазами.
И тут зазвонил будильник. Воздух разорвало отчаянное петушиное «кукареку», такое звонкое, что вся нечисть мигом отпрянула от воющего тела. Электронный петух кукарекал снова и снова, а местные братки с воплями разбегались кто куда. Михаил видел их дружное бегство, потому что уже светало, а нежить, увлечённая травлей, рассвет прохлопала.
Он немного полежал в траве, приходя в себя, радуясь и не веря, что ночной кошмар окончился, и он свободен, а потом осторожно себя ощупал. Бока болели, исцарапанное лицо горело, но кости вроде целые. И глаза уцелели, и даже истерзанные уши. Откуда-то сбоку и сверху доносились гул и треск, звук хорошего пожара!
Надо уносить отсюда ноги. Михаил поднялся, радуясь и удивляясь, как легко это удалось, и огляделся. Внутри дома полыхало, сквозь щели в заколоченных окнах ярко светилось пламя. Небо уже не давило, оно стояло высоко, чуть подсвеченное лиловым, ветхую Ольховку окутывал туман, всё вокруг было мокрым. Битые бока и лицо перестали болеть, горло тоже, дышалось легко. И никакой слабости, словно не было ни бессонной ночи, ни смертельной борьбы, ни простуды.
А это что в траве белеется? Кукла?! Михаил брезгливо поднял её двумя пальцами за редкие волосёнки, да и затолкал в окно, в щель между досками, туда, где весело и ярко трещало. Оттуда раздался такой вопль, что Михаил отшатнулся.
В лесу он снова весь вымок. Как, интересно, в такой дождь хоронятся птицы? Лес полнился бодрым свистом и щебетом. Всё им нипочём, мелким и стойким пташкам. Грибнику-неудачнику, по пояс обнажённому, было холодно, очень хотелось есть и курить, но всё казалось неважным. И сам уцелел, и сына уберёг. Что ж, будем жить вместе и дальше. Не всегда же сын волчонком смотрел, Михаил помнил и другой взгляд. Один раз он взял его на рыбалку, Алёнка уговорила. Единственный выходной, а ему ребёнка навязали! Всю дорогу до речки он злился, а то, что Вадик, шагая до реки, старался попадать с отцом в ногу, просто выбешивало. А потом, когда Михаил стал показывать, как насаживать червя, как закидывать удочку, как правильно подсекать, о раздражении забыл. Вадик слушал внимательно, даже не дышал, и было забавно наблюдать, как он старается во всём отцу подражать. А какой был восторг от первой рыбки! И было отцу отрадно, что поделился он с сыном этой маленькой пятнистой форелькой, и глупым щенячьим восторгом, и мелкой быстрой речушкой с каменистым дном, и прекрасным лесом, родным и понятным, который Вадик совсем не знал.
Телефонный звонок выдернул Михаила из воспоминаний. «Надо же, „берёт“, – удивился он. – И кому я понадобился ни свет ни заря?» Высветился номер Вадика, именно номер, потому что вбить имя отец не удосужился, хотя номер знал и так, память на цифры у него была хорошая. «Вадик?» – удивился он и вдруг обрадовался. И тут же перепугался. Вадик ни разу ему не звонил, никогда. Значит, случилось что-то. Но он, Михаил, согласия не давал!