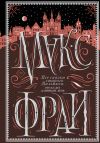Текст книги "Сказки старого Вильнюса VII"
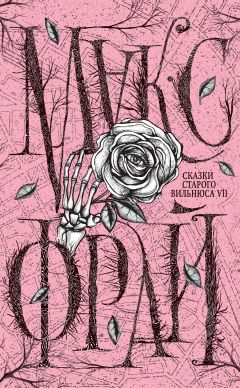
Автор книги: Макс Фрай
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Улица Балстогес
(Balstogės g.)
Синей вечности, вечности
Когда он шел к Юрге по улице Балстогес, где клены и рельсы, рельсы, но никаких поездов, откуда тут поезда, была осень. А больше он никуда, и-мец, не ходил, не ходил.
Юрга долго возилась с замками, замками, наконец открывала двери, сначала тяжелую металлическую внутреннюю, потом хлипкую наружную, выкрашенную в «цвет синей вечности», согласно каталогу цветов и оттенков, а на самом деле тусклый, почти серый при электрическом свете, близоруко моргала, радовалась: «Борька, ты?» – прижималась к нему всем тонким, твердым, очень горячим телом, всего на какую-то долю секунды, секунды, потом отступала, бормоча: «Чего мы топчемся в коридоре, и-мец, заходи, заходи», – и впускала его в жаркую, натопленную квартиру, где всегда, даже в солнечную погоду царил полумрак, окна были закрыты ставнями, ставнями, в дальнем углу мерцал какой-то тусклый старинный светильник, больше похожий на кальян, да на высоком кухонном столе, который он сам когда-то помогал мастерить, выжигал на толстой деревянной столешнице старинные карты, карты каких-то выдуманных островов, шкурил, раскрашивал, лакировал, горела настольная лампа с витражным цветным абажуром, тиффани или что-то вроде того. Изредка Юрга принималась крутить эту лампу, лампу, и тогда на потолке плясали разноцветные тени, и-мец, тусклые, как синяя вечность, виноградный туман, шифер, бездна и буря, бледные, как ее лицо.
Он всегда приносил Юрге цветы, чаще мелкие горькие хризантемы, иногда – астры, астры, изредка – крупные георгины с тонкими длинными лепестками, золотые, алые, темные, цвета свернувшейся крови, да какие угодно, лишь бы не круглые, как помпоны, их она терпеть не могла. Юрга ставила цветы в вазы, банки, бутылки, ни разу не видел, как она наливает воду, но цветы оставались свежими, вообще никогда не увядали, их становилось все больше и больше, а он каждый раз все равно приносил новый букет, и-мец, и-мец, черт его знает зачем.
Юрга шла к плите готовить чай; он предпочел бы кофе, очень соскучился по его вкусу, но безропотно брал тонкий керамический стакан, стакан с горячим пуэром, и-мец, сваренным на огне по методу Лу Юя, как их когда-то учили в чайном клубе. Юрга запомнила рецепт, а он, конечно, давно забыл, забыл.
У пуэра был удивительно честный вкус мокрой земли и солоноватой золы. Пил его маленькими глотками, растягивал удовольствие. Юрга неизменно доставала откуда-то блюдечко с сушеными ананасами, передвигала его по столешнице, как шашку по полю, полю, аккуратно переставляла с одного нарисованного острова на другой, смущенно улыбалась, поймав его взгляд: «Глупо получится, если оно утонет в океане, кроме этих ананасов в доме сейчас никакой еды, еды, а выходить в магазин мне не хочется, и-мец, ты уж прости». Говорил: «Ничего, я не голоден, голоден». Обещал: «Завтра что-нибудь тебе принесу», но потом наступало завтра, и он опять приходил к Юрге с дурацким, никому не нужным букетом, букетом вместо конфет, печенья, фруктов и колбасы.
Иногда Юрга спрашивала: «Как ты живешь?» Правильный ответ: «Не живу, и-мец», но вместо этого он всегда начинал рассказывать о погоде, делах, общих друзьях, выставках и концертах, концертах, Стинг приезжает, ты знаешь, знаешь? Правда, не к нам, а в Каунас, но можно съездить, и-мец, сколько там, сто километров, не о чем говорить. Я возьму машину, машину в прокате, в CityBee, говорят, недорого; впрочем, это неважно, с деньгами сейчас все в порядке. Тебе, кстати, надо? – на этом месте Юрга всегда отрицательно мотала головой: «Пока не нужно, если что, сразу тебе скажу, скажу».
Допив чай, он обнимал Юргу, целовал ее в шею, нежно кусал мочку уха, касался губами мягких податливых губ; не то чтобы он действительно этого хотел, но Юрга ждала поцелуев, и-мец, и-мец, она всегда их ждала. Снова, как в коридоре, прижималась к нему всем телом, телом, теперь не на миг, надолго, казалось, что навсегда. Шептала: «Как же с тобой спокойно, и-мец, и-мец, словно вернулась домой, хотя я и так сижу дома, дома, но без тебя, и-мец, нет покоя, словно это не дом, и-мец, и-мец, или просто не мой». От ее умиротворенного шепота, шепота ему тоже становилось спокойно: ну вот, наконец-то все правильно, делаю то, что должен, как могу, так и делаю на дне твоей синей вечности, вечности, как могу, и-мец, как могу.
Он всегда оставался с Юргой до утра, утра, а потом начинал собираться, говорил: «Мне пора, и-мец, на работу», – какая такая работа и в чем она заключается, предпочел бы не уточнять; Юрга, слава богу, не спрашивала, сонно потягивалась, как кошка, сладко щурилась, бормотала: «И-мец, и-мец, когда же ты будешь спать?», но не ждала ответа. Ей было все равно. Он уходил, а она оставалась в спальне, спальне, загроможденной мебелью, цветочными вазами, сундуками, и-мец, статуэтками, погашенными светильниками, устланной коврами, увешенной картинами, которые он не мог рассмотреть в полумраке; кажется, на одной из них было нарисовано море, на другой – цветущий сад, а на третьей – квадраты и треугольники, почти неразличимые, черные на черном же фоне, он и не различал, просто помнил: эти квадраты и треугольники когда-то очень давно нарисовал он сам. Это больше не имело значения, но при взгляде на невидимые в темноте спальне квадраты и треугольники, он всегда улыбался, словно бы говорил себе – тому, кто когда-то их рисовал: «Привет».
Он уходил от Юрги, и-мец, спускался по лестнице и где-то между третьим и вторым этажами всегда приходило сладкое, ни с чем не сравнимое ощущение, словно тело понемногу тает, очень медленно, как кусок рафинада, брошенный в умеренно теплый чай. Впрочем, оно и правда таяло, начинало таять в подъезде и продолжало на улице, тихой, темной, тусклой, как синяя вечность, вечность, запорошенной мокрым снегом, когда он уходил от Юрги, всегда наступала зима. Но он, конечно, не мерз, на улице его оставалось так мало, что некому было мерзнуть, только идти легкой, как снегопад походкой через этот восхитительный, исполненный красоты и покоя сумрачный предрассветный ад.
А потом наступала осень, осень, теплая, сладкая, ласковая, золотая, почти безветренный солнечный день, и он снова шел к Юрге, по улице Балстогес, где клены, клены и рельсы, как всегда с цветами, на этот раз с лиловыми и белыми астрами, астрами, смешной куцый букет, такие обычно младшие школьники приносят учительницам первого сентября. В последний момент, уже возле Юргиного подъезда, подобрал несколько алых кленовых листьев, добавил к букету. Уже забыл, как это бывает – делать что-то по собственной воле вместо того, чтобы наблюдать, как оно с тобой случается. Очень необычное ощущение, а-ши, а-ши, скорее мучительное, чем приятное. Но все равно пусть теперь всегда будет так.
Увидев кленовые листья, листья, Юрга не стала его обнимать, как обычно при встрече, отступила назад, в теплую темноту коридора, спрятала руки за спину, словно боялась, что он насильно заставит ее взять букет. Наконец опомнилась, приветливо улыбнулась: «Борька, я так ждала, а-ши, заходи же скорей!» Но цветы не взяла, не поставила в вазу, пришлось положить их на стол, так что алые кленовые листья оказались прямо в нарисованном океане, а-ши, а-ши, но, конечно, не утонули, не в чем там было тонуть. Юрга смотрела на них, как зачарованная, не отрываясь, наконец сказала: «Надо же, листья, а мне почему-то казалось, уже наступила зима, зима».
Чайник как всегда стоял на огне, огне, но вода в нем не закипала, даже не нагревалась, оставалась холодной наверное полчаса, долгие, как самая синяя вечность, вечность, наконец, Юрга сказала: «Это, наверное, потому, что тебе, а-ши, никогда не нравился чай», – и достала откуда-то из темноты очень старую джезву, дешевую, алюминиевую, теперь таких уже нет даже на барахолках, долго рылась на полках, бормоча: «Где-то здесь, а-ши, оставался кофе, кофе», – и действительно отыскала почти полную пачку арабики, осколок коричной палочки, горошину черного перца; вдруг рассмеялась звонко, совсем как раньше: «Твоя взяла!»
Кофе был горек, а-ши, как память о нем, то есть ровно настолько, чтобы очнуться от его вкуса, как от пощечины. Давно было пора.
Юрга смотрела на него так внимательно, словно впервые увидела, или наконец-то узнала, или испугалась, что вот-вот перестанет узнавать. Наконец спросила: «Я умерла, это правда?» – и он молча кивнул. Допил горький кофе, поставил чашку, чашку на нарисованный остров Курайти-Кунайти, название которого когда-то придумали вместе, теперь уже, пожалуй, не вспомнить, почему оно тогда казалось настолько смешным.
Молчание становилось невыносимым, тогда он сказал: «Из-за меня». Подумав, добавил: «Я тебя убил. Нечаянно. Просто оттолкнул, но так неудачно, что ты… Неважно. В общем, ты умерла».

«И ты мне теперь мерещишься? – почти беззвучно спросила Юрга. – Потому что я тебя очень любила? А это место – такой специальный рай для несчастных влюбленных дур, которых убили их кавалеры? Спасибо тебе, ты отлично мерещился, я тебе почти верила, верила. Вернее, в тебя. Но знаешь, пожалуй, хватит. Больше не надо. Мне все надоело, особенно ты, такой хороший, такая неправда. Настоящий Борька не стал бы ходить с цветами. Он давно меня разлюбил».
Не стал говорить ей: «Я тебе не мерещусь, я тоже умер в тот день, решил, что должен пойти с тобой, раз уж так получилось, потому что если вдруг все-таки выяснится, что со смертью ничего не кончается, ты испугаешься, натворишь каких-нибудь дел, испортишь себе всю предстоящую вечность, вечность, я тебя знаю, ты великая паникерша, а значит, надо за тобой присмотреть». Не стал говорить: «Я ни секунды не сомневался, сразу пошел за тобой, смерть дело серьезное, промедлений не терпит, я и так, похоже, промазал, оказался не рядом, а где-то еще; может быть, просто нигде. И теперь хожу к тебе в гости вместо того, чтобы всегда быть рядом, как собирался, но, по-моему, лучше уж так, чем никак». Не стал говорить: «Наверное, я не могу оставаться рядом с тобой, потому что перед тем, как все это случилось, я хотел от тебя уйти, очень хотел, больше всего на свете, а ты не пускала, кричала и плакала, проклинала и умоляла, висела на шее, шее, ни вдохнуть не давала, ни выдохнуть, это было невыносимо, поэтому сейчас – так».
Вместо этого он сказал: «Если все надоело, просто выйди наружу. Сколько можно сидеть взаперти, среди завалов этих твоих красивых, бесполезных, ненужных мертвых вещей, словно в волшебной лавке, закрытой на вечный обеденный перерыв? Одевайся. Я подожду внизу – настоящий. Тот, который действительно я, такой же мертвый, как ты, все честно». И ушел, не дожидаясь ответа. Пусть решает сама, сама.
Спускаясь по лестнице, больше не таял. И, наверное, знал, почему стало так, но объяснить словами не смог бы, даже на языке мертвых; особенно на языке мертвых, а кроме него, теперь не было языков.
Потом долго стоял на улице у подъезда, не днем, не ночью, не утром, не вечером, в сумерках цвета синей, синей, вечности, вечности, среди алых, алых кленовых листьев и белого, белого, белого снега, ни о чем не тревожился, просто ждал Юргу. Очень хотел ее обнять.
Белый Мост
(Baltasis tiltas)
Гражданская оборона
– Погоди, – говорит Магда, – постой. Мне надо… – и умолкает на полуслове.
– Что-то случилось? Голова закружилась?
Магда смотрит на свою спутницу так, словно впервые ее увидела. Наконец отвечает каким-то новым, незнакомым ей самой голосом:
– Спасибо, все хорошо.
И улыбается так мечтательно, что Алдона думает: надо же, что творится. Неужели влюбилась в того бухгалтера? Он же моложе на десять лет…
Но тут Магда говорит:
– Удивительно, как же все-таки морем пахнет. А ведь оно далеко. Ты о чем-то рассказывала? Я прослушала. Извини.
Потом, вечером, Магда на всякий случай заходит к соседке, чтобы измерить давление; обычное, сто десять на шестьдесят, нижняя граница нормы, как всегда у нее.
– Стало плохо? – сочувственно спрашивает соседка. – Сейчас такая погода, по десять раз на дню меняется, многим нехорошо.
– Ничего страшного, просто голова закружилась, не сейчас, еще днем, – отвечает Магда, потому что не знает, как описать – не соседке, хотя бы самой себе – это удивительное, ни на что не похожее ощущение, словно бы она взлетает к небу и одновременно ныряет в него, как в море; даже вспоминать о таком как-то глупо, когда твердо стоишь обеими ногами на очень твердой земле.
* * *
– Привет, – говорю я.
От звуков моего голоса Наталья сразу превращается в лиловое облако. Зато Ромас становится еще более четким и ярким – вот что значит есть у человека навык держать свои реакции под контролем, это работает даже во сне. Забавная пара. Ну, то есть, строго говоря, не пара, а два незнакомых друг с другом человека, одновременно увидевших меня во сне. Так, кстати, довольно редко бывает. Обычно я снюсь кому-то одному. И далеко не каждую ночь. Что на самом деле большая удача. Сниться горожанам – хорошее, полезное дело, но я люблю разнообразие. Чокнулся бы каждую ночь лекции им читать.
* * *
– Ты меня совсем не слушаешь, – говорит Нийоле, и Яцек виновато моргает:
– Задумался, прости. – И неожиданно сам для себя спрашивает: – А ты еще летаешь во сне?
– Не знаю… не помню, – хмурится дочь и вдруг расцветает улыбкой: – Слушай, ну да! Буквально позавчера снилось, что лечу высоко-высоко, как птица, а далеко внизу какой-то удивительный синий лес. Забыла, а сейчас вспомнила. А почему ты спросил?
– Тоже вспомнил, – говорит Яцек. – Мне в детстве часто снилось, как я иду по улице и взлетаю. Не очень высоко, только чтобы печные трубы брюхом не задевать. Мне так нравилось сверху все разглядывать! Давно таких снов не видел, даже не вспоминал. А сейчас вспомнил, да так подробно, что чуть наяву не взлетел. Ну, то есть мне показалось, что сейчас взлечу. Буквально на секунду. Было хорошо.
– Голова закружилась? – встревоженно спрашивает Нийоле. – А сейчас как себя чувствуешь? Может, надо присесть?
– Да не надо мне никуда присаживаться, – почти сердито говорит Яцек. – Что ж вы пугливые такие, что ты, что твоя мать? Человеку может стать хорошо просто так. А не потому, что у него инсульт.
– Просто мы с мамой тебя любим. Поэтому и боимся, – укоризненно отвечает дочь.
– Что-то не то с этой вашей любовью, если от нее столько страху. Лучше бы думали, что если уж так сильно меня любите, значит со мной все всегда будет хорошо, можно не волноваться.
– Ты прав, конечно, – вздыхает Нийоле. – Я так любить не умею, вечно обо всех беспокоюсь, но ты все равно совершенно прав.
– Когда ты была маленькая, я за тебя тоже постоянно боялся, – примирительно говорит Яцек. – Да и сейчас часто волнуюсь, просто так, без всяких причин. Так что и сам такой же дурак. А еще тебя лезу учить.
– Лезешь, – улыбается Нийоле. – И всегда лез. Но все равно ты лучше всех в мире. Точно тебе говорю.
* * *
– Никаких особых приключений, уж извините, не будет, – говорю я. – Ни разноцветных драконов, ни разнузданных оргий, ни удивительных превращений, разве что сами во что-нибудь нечаянно превратитесь. Но я тут же верну вас в исходное положение. Я – чрезвычайно скучный сон. Только сижу и что-нибудь рассказываю: «Бу-бу-бу». Правда, с моей точки зрения, это довольно интересное «бу-бу-бу». А будет ли интересно вам, не знаю. Честно говоря, совсем не факт.
Наталья смеется и снова превращается в лиловое облако. Такова, надо понимать, ее естественная реакция на любые раздражители. По крайней мере, в текущем сновидении. Легкомысленная особа. Я таких люблю, но без особой взаимности. В смысле они забывают меня прежде, чем успеют проснуться. Легкомысленные особы крайне редко запоминают свои сны.
Но пока Наталья спит, а я выполняю угрозу, вернее, свое обещание. В смысле возвращаю ей первоначальный облик: роскошные длинные ноги, смоляные кудри, бездонные зеленые глаза. Вряд ли Наталья на самом деле так выглядит, но именно в таком виде она здесь появилась, а значит, пусть будет любезна оставаться длинноногой красоткой, пока не проснется. Какой-то порядок должен быть.
Ромас снится себе почти великаном. Я довольно высокий, а ему хорошо если до плеча. И если уж речь зашла о плечах, плечи у Ромаса гораздо шире, чем положено иметь такому громиле. То есть даже для своего огромного роста он поразительно широкоплеч. Но в остальном Ромас выглядит вполне обыкновенным. Очень крупный обыкновенный человек.
Но я еще более обыкновенный. Из нас троих самый обыкновенный человек здесь определенно я. К тому же в пижаме. Я всегда стараюсь сниться посторонним людям в пижаме, чтобы они не ощущали себя беспомощными в моем присутствии. Беспомощность – худшее, что может случиться с человеком во сне; наяву, впрочем, тоже ничего хорошего. Очень ее не люблю.
* * *
…и позвонить наконец в эту фирму, которая бесплатно вывозит старую бытовую технику, – думает Андрей. – Где-то у меня был их телефон; ладно, если потерялся, еще раз спрошу Йонаса. Сегодня же надо им позвонить… хотя нет, сегодня уже поздно, вряд ли они работают до восьми. Значит, надо позвонить завтра, прямо с утра. И договориться, чтобы приехали, чем скорее, тем лучше, хорошо бы успеть до выходных; впрочем, это вряд ли, сегодня уже среда… Так, ладно, где там Алдонин список? Все взял, ничего не забыл?
Андрей внимательно сверяет список покупок с содержимым нагруженной тележки, сосредоточенно хмурится, устало вздыхает и идет к кассе самообслуживания. В больших магазинах у него всегда не то чтобы болит, но неприятно тяжелеет голова. И мыслей в ней становится совсем мало, зато все нужные, все полезные, все про дела, будь они трижды прокляты, эти нескончаемые дела, о которых приходится думать бедной своей огромной свинцовой башкой.
Оплатив покупки и загрузив их обратно в тележку, Андрей выходит из супермаркета, катит тележку к машине, машинально утирает выступивший на лбу пот. Думает: вот я дурак, Алдона просила хлеб из пекарни, а я зачем-то взял фасованную нарезку, теперь придется… Господи, что сегодня творится в небе? Не просто облако, а настоящий облачный замок! Как наш с Митькой Эй-Эристан!
Эй-Эристан придумал Митька; на самом деле даже не придумал, просто ляпнул первое, что пришло в голову, когда они впервые пробрались на крышу своего пятиэтажного дома и сидели там, страшно гордые своим подвигом и одновременно вусмерть перепуганные нарушением всех взрослых запретов: а вдруг сейчас сюда заявится дворник и каааак даст или еще хуже, отведет к родителям и все расскажет; ай, ладно, может, еще и не заявится, что дворнику делать на крыше? Ему надо подметать двор. В общем, они сидели на крыше, упиваясь первой в жизни серьезной победой над вечным взрослым «нельзя», а по небу над их головами медленно плыло огромное облако, похожее на старинный замок с башнями и бойницами, и Митька вдруг завопил: «Эй-Эристан!» А потом объяснил: это такой облачный город на границе земли и неба, кто его однажды увидел, непременно туда попадет и станет царем Эй-Эристана, а мы, получается, оба будем царями, одновременно, если вместе его увидели, но это даже хорошо, можно будет править по очереди, один сидит на троне, а второй смотрит мультфильмы и ест мороженое, знаешь, какое там вкусное мороженое? Из специальных сливочных облаков.
Надо же, я и забыл, какая блестящая меня ожидает карьера, – саркастически думает Андрей, но улыбается при этом до ушей, словно из-за угла вот-вот появится Митька, а с неба спустится облачное воинство, чтобы их короновать. Интересно, где теперь Митька? Как живет? Чем занимается? Вспоминает наш Эй-Эристан или забыл, как последний дурак, в смысле как я? Но я же все-таки вспомнил. Может и он сейчас…
Андрей улыбается еще шире и катит тележку с покупками в дальний конец огромной парковки, где оставил свой автомобиль. Вслед ему задумчиво смотрит охранник супермаркета Ромас, буквально на минутку вышедший покурить, но так и забывший достать сигарету из пачки. Ромас думает: интересно, этот мужик хоть что-нибудь почувствовал? И если да, то что?
* * *
– Для меня не секрет, что быть человеком среди людей очень трудно, – говорю я.
Лиловое облако само, без напоминаний превращается в Наталью. Ромас слушает меня так внимательно, что становится ниже примерно на голову. И вдвое уже в плечах. Похоже, он вообще большой молодец. Может быть даже, чем черт не шутит, не забудет, что ему сегодня приснилось. Хотя, будем честны, шансы на это исчезающе невелики. Люди даже захватывающие приключения обычно забывают в лучшем случае примерно помнят какую-то часть сюжета, да и ту перевирают до неузнаваемости – вынуждено, за неимением нужных слов. А наш разговор на крыльце моего старого дома, на самом деле снесенного еще в позапрошлом году, при всем желании не назовешь захватывающим приключением. Кулинарные курсы, и те были бы веселей.
Но делать нечего, и деваться мне некуда. Кто, если не я.
– Быть человеком чертовски хлопотно, – говорю я. – И довольно страшно, хотя многие предпочитают этого не осознавать. Этот неосознанный страх и многочисленные хлопоты, которые только затем и нужны, чтобы от него защититься, отбирают у людей все силы. И заодно все внимание. Ничего не остается на настоящую жизнь. Даже здесь, в нашем городе, построенном на границе сбывшегося и несбывшегося, это так.
Наталья вдруг начинает плакать, да так горько, что того гляди исчезнет. В смысле сейчас проснется в своей постели, а я еще ничего толком не рассказал. Но Ромас строго говорит ей: «Не ревите, пани», – и покровительственно обнимает ее за талию. Наталье это явно нравится; подозреваю, ее даже во сне очень давно никто не обнимал. Поэтому она не спешит просыпаться. Ну и молодец.
– Знали бы вы, какие чудеса мы для вас тут творим, – говорю я. – Только почти некому брать, что дают. Так что все достается восторженным туристам, отчаявшимся подросткам, городским сумасшедшим, падшим ангелам и тем, кто видит нас во сне. Я не то чтобы против, наоборот, считаю, все честно, этим – нужнее всех. Но мне все равно обидно, что для большинства горожан ни нас, ни наших чудес просто нет. И не потому что вам не надо. Надо, и еще как! Просто нечем, некуда, некогда, да и некому взять. Будь моя воля, насильно бы вас заставил сделаться живыми, сами потом были бы рады, быстро вошли бы во вкус. Но насильно никого оживить нельзя.
На этом месте люди, которых угораздило увидеть во сне меня с моими занудными лекциями, обычно все-таки просыпаются. Им неприятно слушать подобные вещи, даже во сне. Собственно, особенно во сне, когда они настолько живы, насколько это вообще возможно вот прямо сейчас для каждого из них. Но Наталья и Ромас остаются на месте. Очень уж удачно они обнялись, и теперь им совсем не хочется расставаться, вот и держатся за этот сон. Сводник из меня, чего греха таить, всегда был отличный. А вот лектор, увы, наоборот.
– А теперь хорошая новость, – говорю я. – Там, где бессильны боги, демоны, ангелы, духи и другие невообразимые существа, человеку может помочь другой человек. Это совсем нетрудно. А иногда так легко, что даже не верится. Порой бывает достаточно вообразить, что идущий мимо вас посторонний прохожий вдруг взял и взлетел высоко-высоко в небо. И улетел.
– Улетел! – повторяет Наталья. Она звонко смеется, по-детски хлопает в ладоши и все-таки превращается в лиловое облако. Однако никуда не улетает, а окутывает широкие плечи Ромаса, словно шарф из крашеного марабу.
* * *
Проснувшись, Наталья какое-то время неподвижно лежит в постели, пытаясь вспомнить, что такое замечательное ей приснилось, но вспомнить не получается вообще ничего, зато ее почему-то охватывает печаль, такая глубокая, словно кто-то из близких совсем недавно умер, хотя она совершенно точно знает, что после бабушки, которую похоронили двадцать пять лет назад, в их семье, слава богу, никто не умирал.
– Мама, ты что, плакала? – спрашивает за завтраком Томас, младший сын, студент первого курса Технического Университета, он всегда готов защитить Наталью от всех бед, включая те, о которых она никогда ему не расскажет. Особенно от них.
Наталья отрицательно мотает головой.
– Но кажется, ревела во сне, – подумав, добавляет она. – Хотя сон при этом, вроде бы, был хороший. Очень обидно, что все забыла. Я почти никогда не запоминаю сны… Будешь еще омлет?
* * *
– По-моему, я занимаюсь полной ерундой, – говорю я.
– Конечно, – легко соглашается Нёхиси. – И я тоже. Причем всегда. Строго говоря, мы с тобой сами – полная ерунда. Никто в здравом уме даже предположить нас не способен. Даже предположить!
Он совершенно прав. На этом месте, вероятно, следовало бы добавить: «Но кому от этого легче». Однако я знаю кому. Мне легче. Мне!
* * *
Заместитель директора клинингового агентства Наталья идет домой. Ей надо поторопиться, вечером в гости придут старший сын с женой, а у нее ничего не готово, только селедку под шубой вчера успела сделать, Линас с детства от нее без ума, душу за эту селедку продаст; ждала бы его одного, можно было бы вообще больше ничего не готовить, только черного хлеба купить, но Машка селедку не любит, поэтому надо бы все-таки успеть к их приходу поставить в духовку курицу с картошкой и настрогать хотя бы один салат. А на работе, как назло, задержали, поэтому теперь придется бегом-бегом.
Наталья ускоряет шаг, но внезапно, движимая каким-то смешным, почти детским чувством противоречия, сворачивает в летнее кафе, открывшееся прямо на Белом мосту, заказывает «газированный кофе», эспрессо, тоник, колотый лед, отличная смесь, чтобы пить в жару, достает из пачки вторую за день сигарету, думает с удивившим ее саму веселым упрямством: я заслужила эти десять минут покоя с кофе и сигаретой, никому их не отдам, пусть весь мир подождет.
Наталья сидит за пластиковым столом, спиной к реке, лицом к пересекающим мост прохожим, по большей части, офисным теткам средних лет в светлых летних блузках, таким, как она сама. Одобрительно улыбается, увидев забавную пару: низенькая толстуха в длинной цветастой юбке, а рядом с ней худая высокая дама в таком радикальном мини, с такими отчаянными глазами, словно надела это дурацкое платье на спор или, наоборот, решила, что это – самый последний в ее жизни раз.
У нее такой легкомысленный и одновременно трагический вид в этом коротком детском платье, что Наталья невольно думает: вот уж кому явно не находится места на земле. Бабушка Катя в таких случаях говорила: «неприкаянная душа», и Наталья тоже думает: «неприкаянная душа», хотя на самом деле просто нелепая тетка, зато с такой легкой походкой, что кажется, сейчас ее унесет ветер. В небо, где ей самое место, прыгать по облакам.
Наталья почти невольно рисует в воображении эту картину: как речной ветер подхватывает женщину в красном мини-платье и уносит куда-то ввысь, и вдруг вспоминает, что все это уже было. То есть нет, не было, просто снилось, как какой-то невнятный мужик в пижаме говорит ей, что так и надо поступать с людьми: представлять, как они взлетают в небо… Или даже два мужика? Точно, один в пижаме, второй большой и очень красивый. Хороший был сон, даже просыпаться жалко. То-то чуть не расплакалась утром; теперь хотя бы ясно из-за чего.
– …Погоди, – говорит Магда, – постой. Мне надо… – и умолкает на полуслове.
– Что-то случилось? Тебе нехорошо?
Магда смотрит на свою спутницу так, словно впервые ее увидела. Наконец отвечает каким-то новым, незнакомым ей самой голосом:
– Спасибо, все хорошо.
А что еще скажешь, когда не знаешь, как еще описать – не подруге, самой себе – это удивительное, ни на что не похожее ощущение, словно бы она взлетает к небу и одновременно ныряет в него, как в море; даже думать о таком как-то глупо, когда твердо стоишь обеими ногами на твердой земле.
Удивительно, как же все-таки здесь пахнет морем, – думает, глядя им вслед, Наталья. – А ведь оно далеко.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?