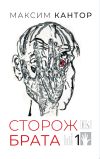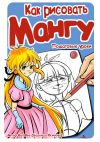Текст книги "Учебник рисования. Том 2"
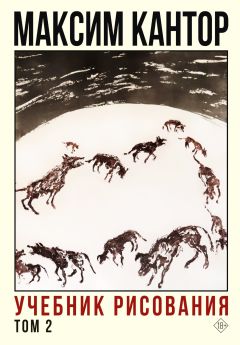
Автор книги: Максим Кантор
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
VII
И пока Павел подбирал слова и пытался сформулировать мысли, Роза Кранц готовилась к разговору с Кузиным. Именно Кузина она выбрала на роль посредника в общении с Тушинским и разговор повела так, чтобы ничто не намекало на их былые отношения. Роза знала, что дела Кузина идут не блестяще, знала, что в новую российскую элиту он не вошел. В разговоре с Борисом Кирилловичем она постаралась показать, что разделяет его разочарование – и в русской действительности, и в западной. «Мы не этого ждали», – сказала Роза. «Да, – согласился Кузин, – не этого». – «Как переменился мир за пятнадцать лет», – сказала Роза. «Да», – согласился Кузин. «Непредвиденные изменения», – сказала Роза. Кузин снова кивнул. «Не так все просто в эпоху глобализации, – сказала Роза, – процесс имеет свои законы. Не все идет гладко».
В ходе строительства новой империи действительно изменилось многое. Несколько лет назад, во время первого визита с лекциями на Запад, Борис Кузин был поражен однородностью западного общества. А нам рассказывали о богатых и бедных, о капиталистах и рабах, думал он, вспоминая о пропаганде. Ничего подобного он не увидел. Некоторые люди богаче других, дома у них больше и костюмы богаче, но и те, что были одеты менее роскошно, держались с достоинством. В письмах жене Кузин описывал западный мир как общество в большей степени социалистическое, нежели казарменное общество России. «Поверишь ли, – писал Кузин Ирине, – на вчерашнем банкете слева от меня сидел банкир, напротив – директор издательства, а справа – корректор из типографии, где набирают мою книгу, – и противоречий не возникало. Банкир рассказывал, что он отдыхает на Майорке, и – представь! – рабочий поддержал разговор! Оказалось, он тоже ездит летом на Майорку, просто в менее дорогую гостиницу. Здесь сумели построить однородное общество, где теория классовой борьбы просто смешна». Так казалось не только Борису Кузину, так казалось и западным интеллектуалам. «Не думаю, – писал Кузин, – что советский партийный секретарь мог бы сесть за стол с нашим соседом водопроводчиком и тем более со мной – интеллектуалом. Так может быть лишь в социуме, где главной ценностью является свобода личности».
Четверть века назад западное общество казалось сплоченным общей идеей прогресса, и у художника было впечатление, что он работает для всего общества сразу. Скорее всего, это чувство сопричастности всем, ощущение ответственности за общее дело (а именно эти смыслы и старалось сконденсировать в себе искусство) родилось за время мировых войн, соединившихся в одну европейскую гражданскую войну. Гражданское чувство, часто подменявшее чувство эстетическое, или, во всяком случае, столь же востребованное искусством, как чувство эстетическое, было обязательным для творца. Собственно, вся эстетика середины века была сформирована этим чувством. Некогда спартанцы, отправляясь на битву, молились не о победе, но о том, чтобы боги послали им певца, достойного победы. Европейская гражданская война родила таких певцов, и они – по определению – должны были говорить от лица всего либерального общества, в тяжелые его минуты и в дни триумфа. Ничто не может служить лучшим катализатором творчества: богемность времен авангарда была забыта. Сознание того, что бойцы в окопах держат репродукцию твоей картины (говорят, так случилось с «Герникой») или читают твои очерки (это было с Эренбургом и Мальро), есть высшее оправдание деятельности. В темный период войны (иные историки обозначают его временем с 14-го по 45-й) невозможно найти ни одного крупного художника, обслуживающего знать, власть или богему: любой мало-мальски одаренный человек обращался сразу ко всему обществу, говорил от имени всех. Так могло произойти лишь потому, что у богатых в годы испытаний, выпавших на долю западного мира, не было отдельной от прочей публики судьбы. Во время упоения европейскими свободами – двадцать пять послевоенных лет – у французского эстета и у немецкого антифашиста была жива уверенность в том, что они служат общему делу, а не своему карману. Отличия в социальном статусе и эстетических пристрастиях с лихвой покрывались общими представлениями о прогрессе; разные люди встречались на митингах против тоталитаризма, и можно было решить, что они – заодно. Их сплотила победа, общее стремление туда, где чтут человеческое достоинство и не служат Большому Брату. Художник, пожелавший своим творчеством служить идее свободы, не должен был спрашивать себя: а, собственно говоря, чьей конкретно свободе я служу – этих или тех? Это лишь в тоталитарных обществах искусству вменялся классовый подход – не то в свободном мире. Искусство должно служить свободе, говорили интеллектуалы. Ну кому конкретно, в самом деле, служит Энди Ворхол – какому такому классу? Никто и не задавался таким вульгарно-социологическим вопросом, поскольку казалось, что глубинные интересы мусорщика из Брикстона и домовладельца из Южного Кенсингтона должны – обязаны! – совпадать. Другое дело, что мусорщик может быть эстетически не вполне развит, культурно не подкован и не вполне отдает себе отчет, что искусство Ворхола сделано в его интересах. Но спросите мусорщика, в чем состоит благо, – и банкира спросите: и ответы совпадут.
Даже если картины Пикассо приобретали богатые люди, а бедные купить бы не смогли, иллюзия того, что он выражает общество в целом, у художника сохранялась. В самом деле, недалеко было то время, когда он писал в мансарде, – и, в конце концов, он, Ремарк, Чаплин писали о жизни бедняков, и даже если парадоксальным образом их произведения стоили дорого, это только значило, что богатые признали личность бедняка как ценность – и классовое различие стерто уважением к свободе.
Приезжая из командировок (а путешествовал Кузин, как правило, в Южную Германию, в альпийские края), Борис Кириллович рассказывал знакомым о «немецком экономическом чуде». «Понимаете, – говорил Кузин, – шницель в ресторане полкило весит. Когда официант принес тарелку и поставил на стол, я просто обомлел. Спрашиваю у Питера Клауке: что это? – Шницель! Помните, какие шницеля у нас в столовках были? Такие серенькие подавали. Тощенькие котлетки, в рот взять нельзя». Если Кузину указывали на то, что нынче в Москве ресторанная культура стоит на уровне стран западной демократии, он только отмахивался: знаем, знаем! А сколько все это стоит? Вот в Нюрнберге такой шницель стоит копейки, а здесь – ого-го! И поскольку Кузину никто не решался намекнуть на то, что в Германии за обед расплачивался хозяин стола, а на родине пришлось бы платить самому и в этом кроется экономический секрет, Борис Кириллович пребывал в убеждении, что западное экономическое чудо существует и оно уравняло возможности всех членов общества. «Вот сидишь, допустим, в кафе, – рассказывал Кузин единомышленникам, – ешь шницель. Напротив – финансист, он, может быть, в пять раз больше получает. Но ест точно такой же шницель. Вот что такое демократия». Понятно, что шницель в данном рассуждении выступал символом свободы, квинтэссенцией человеческих прав. И впрямь, общий шницель демократии просвещенное общество ело в течение послевоенного времени. Однако никакая котлета не вечна – съели и шницель.
Спустя короткое время и упоение общим делом прошло. Теперь, когда стратификация общества произведена заново, когда пропасть между бедными и богатыми сделалась снова непреодолимой, когда понятие однородного либерального общества более не существует, – искусство более не может пользоваться привилегией универсальной ценности. Интеллигенту, как и в былые эпохи – снова сделалось нужно выбирать: за каким столом сесть, с кем делить обед.
VIII
Всегда есть надежда, что искусство стоит выше вульгарных социологических делений. Искусству (сколь соблазнительно произнести эту тираду) следует просто пребывать, безотносительно общественной стратегии. Зачем, совершая вольный полет, отвлекаться на то, кому твой полет нравится, а кому – нет? Смотрите, любуйтесь. Да, действительно, порой щекотливым представляется рыночный аспект проблемы: все-таки именно богатые должны платить художникам деньги, а богатые – люди придирчивые, будут платить, только если их хорошо обслуживать. Однако будем рассчитывать на то, что вкусы богатых стоят выше их социальной выгоды. Они, богатые, могут быть подлецами в своих сделках, однако их эстетическое чутье безупречно – сколько поколений учились. Правда, мы не допускали подобных рассуждений в отношении партийцев, секретарей обкомов, мелких восточноевропейских диктаторов, фашистских вождей. Но то – другое же совсем дело! Те кровопийцы в искусстве не разбирались, а эти кровопийцы – разбираются превосходно. И художник доверился галеристу, который зависел от коллекционеров, которые зависели от банка. Искусство, выражающее пристрастия богатых, не в состоянии выполнять те же самые функции по отношению к людям, пораженным в правах, – но в обществе равных возможностей угнетенных нет, и это снимает проблему, печалиться не о чем. Пусть искусство выражает идею свободы, идея годится всем, хоть платит за нее и богатый. Интеллектуал продолжал честно трудиться, империя строилась, энтузиазм военных лет быстро был забыт. Угнетенный или не угнетенный – но скоро оформился социальный слой, чей шницель стал в пять раз худее положенной свободой нормы. Этот слой составило население Восточной Европы, освобожденных азиатских стран, эмигрантов, наполнивших Запад в качестве дешевой рабочей силы, русских, рассеянных по мерзлым просторам своей бессмысленной родины. Это были окраинные племена, коим новый генеральный план развития предполагал в будущем дать некоторые блага, но пока руки не доходили. Очень скоро понятия свободы и прогресса, бывшие безразмерными унифицированными идеалами для либерального общества, оказались идеалами, пригодными для господствующих классов по преимуществу – и в силу этого простого факта к общему употреблению непригодными.
Борис Кузин, совершавший регулярные выезды с лекциями, не мог не отметить, что западное общество за пятнадцать лет изменилось – и в худшую сторону. Что-то такое легкое и беззаботное ушло. И куда только оно подевалось? И шницели не те, и стоят уже не столько. Вот и сигареты подорожали в три раза, вот и зарплаты у его знакомых профессоров стало не хватать на кругосветные круизы. И когда он опять очутился на банкете, то наборщиков, корректоров и водопроводчиков среди гостей уже не обнаружил. А когда взгляд его случайно остановился на дорогом ресторане, за витриной которого ели такое, что Борис Кириллович даже и в кино не видел, настроение его ухудшилось. Прошло пятнадцать лет – и словно дух веселья вышел из Европы. Кузин сказал об этом своей жене. Сказал он об этом и Розе Кранц.
– Не кажется вам, Борис, – сказала Роза Кранц, – что здесь и наша вина?
– Вот как? В чем же?
– В том, например, что развиваемся мы недостаточно либерально, не помогаем Европе так, как могли бы помочь. С нашими ресурсами, сами понимаете, сделать можно многое.
IX
Как бы ни проходил далее разговор Бориса Кузина с Розой Кранц (в том, что она подвигнет его на новый виток деятельности, сомнений не было), новая стратификация в обществе была произведена, и деятельность интеллектуала – художника в том числе – этой стратификацией определялась. Частная деятельность на благо общей свободы, как всегда, была дивной целью, вопрос стоял иначе: а есть ли такая общая свобода? Огромное большинство населения, коему посулили ровно те же преимущества жизни, какими обладали люди влиятельные, этих преимуществ не получили – взамен им дали веру в то, что если они будут себя хорошо вести, им когда-нибудь, при благоприятном развитии событий, их дадут. В частности, из этой простой препозиции следует, что сегодня не может существовать понятия «авангард». Вести вперед можно только общество в целом, а не придворную обслугу. Сегодня искусство Джефа Кунца, Джаспера Джонса, Маркуса Люперца, Гастона Ле Жикизду обслуживает только богатых, и обслуживает самым унизительным для искусства образом – имитируя свободу, принадлежащую всем. Если бы художники задались вопросом, для кого они сегодня работают, то ответ бы нашелся не сразу. Для церкви? Для отверженных? Для идеологии? Для народа? Для интеллигентов? Для того, чтобы сказать правду? Большинство из тех, кому случалось отвечать на такой вопрос, отвечали: для самовыражения в духе современности. Этот ответ означал только одно: для утверждения той современности и той моды, что смиряется с несправедливым миром и настаивает на его несправедливости. И тот факт, что произведение Ле Жикизду равно по стоимости госпиталю в Конго, только поддерживает порядок вещей. Иногда художники отвечали так: я рисую во имя свободы. И никто не спрашивал их – чьей свободы.
X
Впрочем, следует ли настаивать на ангажированности изобразительного искусства? Не в том ли его извечная функция, чтобы услаждать глаз и отвлекать от бурь?
В этом можно было убедиться, послушав просветительскую беседу отца Николая Павлинова, председателя фонда «Открытое общество», со своей домашней челядью. Здесь следует отметить, что Общество захирело и практически перестало существовать: те из его членов, что сделались солидными гражданами, давно посещали другие общества, парламент, например, или Совет министров, а некогда знаменитое Открытое общество стало достоянием истории. Нередко теперь случалось так, что отец Николай собирал в гостиной шофера Геннадия, повариху Марью и уборщицу Марту и назидательно втолковывал им что-либо культурно значимое. В принципе такие речи следовало вести с трибуны, но за неимением таковой и в силу того, что свободного времени прибавилось, энергию, что расходовалась на проведение собраний интеллигенции, мог нынче он отдать беседе с домашними. А Открытое общество? Что сожалеть о нем: время его миновало объективно. Злоязычники говорили даже, что и затеяно-то было это Открытое общество исключительно для предвыборной кампании: сделать председателем парламента партийного держиморду Басманова, набрать электорат молодому демократу Кротову, прижать выскочку Тушинского и тому подобное. Кто теперь проверит? Попытался было Открытое общество возродить министр топлива и энергетики, миллиардер и воротила Михаил Дупель – взбрела ему в голову дерзкая мысль пойти еще дальше основателей, увеличить втрое вложения, создать преогромный фонд «Открытая Евразия», но мечтам Дупеля сбыться было не суждено. Иные заботы отвлекли богача. В пору, пока фантазии Дупеля еще казались осуществимыми, отец Павлинов строил дальние планы. Так, хотелось ему закончить книгу «Град Божий-2», купить гектар земли на Полтавщине, съездить на корриду в Памплону, способствовать строительству храма в родной деревеньке. Когда же обнаружилось, что развертывания гражданственной деятельности, а с нею вместе и финансирования, не предвидится, отец Павлинов планы строить перестал, отдавшись милым домашним заботам. В воздухе чувствовалось уже иное время. Перекипели страсти, переболели совестью совестливые, утомились скорбью скорбящие; общество утвердило свои новые формы, выбрало вожаков, обозначило цели. Пришла пора собирать камни – и активность на трибуне нынче начальством не поощрялась. Рассказывают, что спросили как-то раз Басманова, не хочет ли он – по старой памяти – выступить в Открытом обществе, а Герман Федорович посмотрел странно и сказал еще более странно: а что, они там живы еще, в Обществе? Я думал, их посадили давно. Что имел в виду парламентский спикер? Шутил ли? Так и осталось это загадкой, а переспрашивать Басманова не стали: зачем солидного человека беспокоить, еще обидится. Он мужчина серьезный.
Так что нынешней аудиторией отца Павлинова являлись исключительно домочадцы, им-то протоиерей и втолковывал азы культуры.
Он держал на коленях альбом нидерландской живописи и показывал натюрморт кисти Класа Хеды своим воспитанникам.
– Мастер кисти перед вами, – говорил отец Павлинов, – гений живописного искусства. Смотрите, впитывайте. Какой покойный полумрак и атмосфера умиротворения. Голландия, семнадцатый век. Салфетки крахмальные, скатерть вышитая. Вот как жить надобно. Запоминайте, дети мои, запоминайте детали, умоляю. Культура – она ведь из мелочей состоит. Вилочка серебряная. А? И узор на ней выбит, и монограмма. Ведь неспроста он вилочку нарисовал, а чтобы пример обстановки дать, учить другие поколения прекрасному. Вот поучитесь, как устрицы разложены, одна к одной – и в лед. Обязательно – в лед. И открыты они аккуратно, края раковин целенькие. А то ведь иногда как бывает: и раковину сломают, и устрице бок оторвут – как же можно? И вино белое, видите – в кувшин перелили, и правильно сделали: оно подышать должно, воздухом морским набраться. И лимончик, лимончик тут необходим, сами понимаете. Вот он нарисован, и кожура серпантином пущена. Думаете, так, пустячок? Нет, в культуре живописи пустячков не бывает. Лимончик до половины очищен, чтобы его можно было взять удобно да на устрицу и выжать. И сразу – винца глоточек. И вот мы видим здесь еще перец кайенский – ну, это, скажем так, деталь на любителя. Некоторые любят сверху перчиком присыпать. Я считаю – зря. Живой вкус заглушает. Здесь я не совсем с Хедой согласен, на мой взгляд, Питер Клаас этот вопрос тоньше трактует.
Под изумленными взглядами поварихи, уборщицы и шофера отец Павлинов перелистал несколько страниц.
– Вот, исключительной красоты полотно. Сыры на серебряном подносе. И обратите внимание, оттенки, оттенки как играют! Вот, что называется, колорист! Тяжелый глухой желтый, почти охристый – это, несомненно, твердый сыр, по качеству близкий к пармезану. И попрошу рассмотреть внимательно, какая мелкая крошка! Вот сыр надрезали, и он посыпался в крошку – любопытнейшая деталь! Художник ведь ничего не делает зря! Думаете, он написал просто так! Отнюдь нет, написал, чтобы рассказать нам о свойствах сыра, и вот мы смотрим и уже буквально на вкус этот сыр ощущаем. Палитра вкусов – вот что показывает нам мастер, многообразие бытия. Следующий сыр – это, конечно, козий. Бледный, почти белый, и нарезан тонко. Я, правда, предпочитаю козий сыр резать кубиками – но не будем придирчивыми. Так художник видит. А вот это, скорее всего, – красный чеддер. Сами можете убедиться, сыр легко разламывается пластами. Как структура передана тонко! Есть чему поучиться. А это что такое? – и отец Николай изумленно откинулся на спинку резного кресла, – что это? Парадокс, дети мои, художественный парадокс. Поглядите: тарелка сыров – ну просто как в ресторане «Палаццо Дукале» – и бокал вина. Казалось бы, все грамотно, все правильно. Но, странность какая! Вино-то белое! Белое! Отчего же, спрашиваю я вас, вино здесь белое, если ему по всем законам требуется быть красным? Ведь даже ты, – метнул Павлинов взгляд на своего шофера, – полагаю, знаешь, что к сыру подаются красные вина. Быть иначе не может. Запомните – никогда и нигде! Портвейн, например, или бургундское, или риоха – но непременно красное. Это закон. – Павлинов безмолвно взирал на загадочную картину. – Нелепость какая. Абсурд. – Домочадцы сочувственно молчали.
– Неужели подделка? Да, дорогие мои, вот так и делаются открытия в истории искусств. Надо немедленно показать Розе Кранц. Неужели уже тогда писались фальшивки? Сенсационно! Вот они, загадки культуры! Попробуй докопаться до сути! Что хотел сказать художник? Это вам не какая-нибудь чепуха политическая, про это в газетах не напишут!
И домочадцы, слушая тираду отца Николая, согласно кивали: нет, не напишут про такое в газетах. И открывать газеты даже не стоит, если хочешь приобщиться культуре, не найдешь в газетах ничего стоящего внимания. Прогноз погоды если напечатают, и то спасибо, а подлинно интересные вещи не найдешь.
XI
Так или иначе, а свободолюбивые газеты и судьбоносные журналы – спустя каких-нибудь пятнадцать лет после возникшего гражданственного ажиотажа – публика читать перестала. И то сказать – сколько же можно бубнить про одно и то же? Ну что, в самом деле, можно в газетах вычитать: опять про аварии и катастрофы, про демонстрации протеста? Летают неуемные журналисты взад-вперед, пишут про взрывы и беженцев. Так ведь читали уже, надоело, хватит. Опять колонки обличителей и правдокопателей? Ох, ведь столько уже прочли, из ушей скоро полезет. И поскольку желание клиента определяет продукцию, журналисты, в свою очередь, тоже поняли зов времени – и переориентировались. Спешить по вызову в горячие точки желающих поубавилось – в самом деле, скорая помощь они, что ли? – а желающих изрекать правдолюбивые сентенции и вовсе не стало – скучно, читать не будут.
И постепенно свободолюбивые листовки и судьбоносные газеты были отодвинуты в сознании читателей качественно новой продукцией – яркими толстыми изданиями, описывающими роскошный образ жизни богатых людей. Вместо названий «Актуальная мысль», «Дверь в Европу», «Европейский вестник» теперь на прилавки легли «Журнал для богатых блондинов», «Мир в кармане», «Штучки-дрючки». Некогда Карамзин предположил, что интеллигенты хотят ниспровергнуть троны, чтобы положить на место тронов кипы журналов – но русский историк даже не догадывался, какие журналы займут место тронов. В этих журналах гражданину просвещенного общества показывали все то, о чем только и смеет мечтать свободный человек, о чем грезилось прогрессивным людям в сумрачные советские годы. Граждане новой свободной страны – о, они заслужили эту роскошную жизнь! Дайте же, дайте им ее скорее! Вы, бессердечные большевистские палачи, прятали от русских людей поля для гольфа, коньяк «Хенесси», шелковое нижнее белье, отели для собак, бунгало на Атлантике. Вы, коммунисты и сатрапы, хотели оплевать и оболгать прекрасную капиталистическую жизнь! Так верните нам ее, дайте нам ее! Пусть не буквально эту жизнь прожить, но хоть глазами пощупать на картинке, хоть к пестрому журналу принюхаться. Те самые глаза, что десять лет назад выискивали первые публикации про сталинские репрессии, теперь всматривались в мерцающие интерьеры ресторанов, песчаные пляжи Гваделупы, новые модели гоночных яхт. Те же самые люди, что выстаивали очереди, чтобы прочесть в газете правду о лагерях, сегодня листали глянцевые журналы с раздетыми девушками снаружи и описанием морского круиза внутри. И спроси их кто: а не вы ли в прежние годы Солженицыным увлекались? Что же это нынче вас потянуло на гламурные издания? Нет ли здесь противоречия? – читатели бы удивились. Жизнь-то меняется, как-никак. Первые прилавки свободы, т. е. те дощатые ларьки, в которых искрились упаковками презервативы, жевательная резинка и карманное издание «Архипелага ГУЛАГ», были стократно превзойдены по яркости и броскости новыми мраморными прилавками, на кои вывалили сотни подарочных журналов. Про лимузины желаете? Вот вам ежемесячные триста страниц с картинками. Глядите, как молодой политик Дима Кротов пришпоривает своего железного коня на Рублевском шоссе – вот он, полет демократии! Интересуетесь интерьером? Так вот прямо перед вами пятьдесят изданий трактуют вопрос с придирчивостью. Вы посмотрите, как художник Педерман расписал бассейн корпорации «Бритиш Петролеум», вы полюбуйтесь красками. Как, недурно? То-то и оно, что совсем недурно. Если вы будете хорошо работать, наладите свой бизнес, обзаведетесь знакомствами – так и вам Юлик Педерман бассейн распишет. А супруги Кайло предложили изящный вариант летней веранды в ресторане «Палаццо Дукале» – совершенно в адриатическом вкусе. В каком-каком вкусе? – спросит иной простак. А в адриатическом вкусе, вот в каком. Не знаете разве о таком эстетическом направлении? Про адриатическую цивилизацию не слыхали? Это оттого, голубчик, что за прессой не следите. Вот прочтите интервью, взятое у прогрессивных авторов, и многое поймете. Культура розового лобстера, холодного лимонного фраскате, пурпурной мантии венецианского дожа, солнечных террас Лидо – все это вместе и есть великая адриатическая культура, цветовую гамму которой воспроизвели супруги Кайло в летней веранде. Художники-авангардисты специально летали в Венецию и жили на знаменитой вилле Клавдии Тулузской, и сам мэтр отечественного авангарда, знаменитый Гузкин, водил их по каналам тропами Бродского и Рескина.
– Вы, – спрашивал интервьюер у супруга Кайло, – как рассказывают ваши поклонники, предпочитаете морепродукты?
– Да, – отвечал художник, – с годами я пришел к пониманию рыбного меню.
– Однако, – говорил интервьюер художнику, – можно ли из этого сделать вывод, что вы, признанный знаток красных вин, перешли на вина белые?
– Отчего же, – отвечал художник, – одна из новейших тенденций высокой кухни состоит именно в том, чтобы сочетать красное вино с рыбой. Теперь никого не удивишь, заказав красное вино от Антинори вместе с лангустами.
– Эпоха либеральных ценностей выразила себя и здесь! Благодарю вас, – говорил интервьюер, – за то, что приоткрыли дверь в адриатические глубины своего творчества.
Раньше людям нужно было некое обобщенное окно в Европу, куда россияне норовили пролезть всем табором и, разумеется, толкались и застревали в узком отверстии; а теперь желания возникли дифференцированные: одному требуется балкон на Адриатику, другому – терраса на Эгейское море, а третьему – лоджия на Женевское озеро. Но разве не именно этого результата ждали: появления свободного сознания?
Раньше кумирами публики были граждане, повествующие о новинках мысли в просвещенном мире, приносящие в Россию идеи и замыслы общего характера: русские люди торопились познакомиться с искрометными обзорами Розы Кранц, пронзительными сообщениями Якова Шайзенштейна. То была задача тех лет – выйти на уровень идей современности. Постарались – и вышли. Доказательством того, что искомый уровень достигнут, стала смена кумиров читательской массы. Как и во всем просвещенном мире, читатели перестали интересоваться идеями о жизни (тем более что оригинальных нигде и не наблюдалось) и отдали внимание самому процессу жизни, жизни как таковой. И впрямь лучше один раз прожевать, чем семь раз посмотреть. Это, в сущности, и отличает узника от человека свободного: узник может сотни раз услышать о культурологе Умберто Эко или философе Глюксмане, может даже познакомиться с их воззрениями, а свободный человек сидит с ними в кафе, или играет в гольф, или ездит отдыхать. И, как оказалось, совершенно не обязательно обсуждать с этими персонажами заумные теории, тем более что и идей у них особых нет. Куда естественнее говорить с Эко о достоинствах лобстеров, а с Глюксманом обсуждать качества вина. Придя к этому (в сущности, простому) умозаключению, столичная публика пересмотрела свои приоритеты. Теперь мнениями Кранц и Шайзенштейна интересовались крайне мало, зато интересовались новыми героями, воплощающими стиль жизни. Правдолюбцев времен перестройки и журналистов времен приватизации отодвинули в сторону; новая генерация публичных персонажей оказалась ярче. Статьи о приключениях Лаванды Балабос и Беллы Левкоевой появлялись в прессе с той же периодичностью, что и отчеты о голодовках диссидентов в хронике текущих событий в годы советской власти. Редактор издания «Мир в кармане» прелестная Тахта Аминьхасанова стала куда как более известна, нежели некогда гремевшие Чириков или Баринов.
Также и иностранцы, привеченные столичной публикой, были отсортированы иначе. Если раньше кумиром москвичей были Чарльз Пайпс-Чимни, прогрессивный мыслитель, и Питер Клауке, страстный эссеист, то нынче их образ померк в свете личности куда более обворожительной. Француз Пьер Бриош не писал разоблачительных статей о коммунизме и не затевал дискуссий о правде в искусстве, к чему хлопоты? Маленький француз наладил издание маленьких туристических буклетов и путеводителей по ресторанам и массажным салонам. Пестрые брошюрки продавались повсеместно, Бриош сделался желанным гостем в любом ресторанчике, турагентстве или веселом доме. Неутомимый персонаж застолий, душа вернисажей, Бриош стал любимцем столицы. К природным достоинствам Бриоша естественным образом присовокупились свершения его предшественников – тех иностранных интеллектуалов, что радели за просвещение Руси. Всякий, говорящий с Бриошем, видел перед собой не просто пронырливого торговца брошюрками (каковым Бриош, собственно, и являлся), но представителя просвещенного Запада, человека, ответственного за либеральные ценности, радетеля цивилизации. К мнению Бриоша прислушивались, у него брали интервью. В Европе Бриош завоевал репутацию знатока России, русские же интеллектуалы всецело зависели от того, как отрекомендует их Бриош просвещенному человечеству. Сам же Бриош по-новому расставил приоритеты в свершениях русских интеллигентов: довольно дидактики – даешь свободную легкую мысль! Французский просветитель дал понять, что отдает предпочтение обществу Дмитрия Кротова (либералу нового типа), Лаванды Балабос (первой столичной красавицы) и Осипа Стремовского (мастеру, понявшему время). Только они, да еще художник Снустиков-Гарбо и знаток светской хроники Тахта Аминьхасанова, и были теперь безоговорочно признаны французским обществом – как личности, адекватные мировым процессам. А как же Шайзенштейн, спросят иные. Как же Роза Кранц и Олег Дутов? Борис Кузин, как же он? Понятно как: если указанные выше персонажи суть бесспорные величины, то прочие должны еще доказать право на существование, завоевать внимание Бриоша. И – старались. Борис Кузин долго пытался залучить Пьера Бриоша в гости, Роза Кранц не отходила от француза ни на шаг. Культурный процесс подобен процессу политическому: меняется посол в стране – изволь с новым послом заводить дружбу. Хочешь либерализма – пей коктейли, мечтаешь о культурном диалоге – ешь тарталетки.
– В сущности, – говорил Борис Кузин, жуя тарталетку, – Пьер продолжает дело Дидро и Вольтера. Подобно тому как при Екатерине французские мыслители развивали варварское сознание, так и сегодня Бриош рассказывает российским гражданам о далеких городах, о неизвестных гастрономических деталях. Значение публикаций Бриоша трудно переоценить. Знали мы – с нашим татарским наследием, – что такое буйабес? Степные жители, что понимали мы в рыбном меню? Или, например, каковы были представления наши о французской Каледонии? Если называть вещи своими именами, Пьер Бриош – энциклопедист.
Бриош хоть и отмахивался от славы, но был доволен и ревниво следил, кто и сколько слов ему сказал. Что ж, Кузин выступил совсем неплохо. Он, Пьер Бриош, поговорит о Кузине в парижских кругах, замолвит словечко. И о Розе Кранц поговорит, так и быть. Теперь так важно производить в России селекцию людей, действительно достойных того, чтобы быть принятыми Западом. Раньше мы готовы были признать их только за то, что они не любят советскую власть. Теперь отбор строже! Хочешь быть принятым в культурном мире – постарайся быть на уровне: развлекай! Будь внутренне свободным! Медленно, что и говорить, развивается Россия, ой, медленно. «Я, – говорил Бриош в частных беседах, – уже надеялся, что завтра… ах, напрасно надеялся!» И не один Бриош, многие мыслящие люди просвещенного мира морщились: что они так копаются? Оттого у них так мерзко, что они попытались копировать нас, и неправильно копировали. Как же так, не сумели даже подражать хорошим образцам.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!