Текст книги "Сердце"
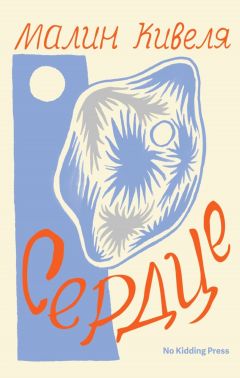
Автор книги: Малин Кивеля
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Когда младенец засыпал, я листала глянцевые заграничные журналы, которые в один из холодных ветреных вечеров доставил муж Лары, ветеринар в костюме и при галстуке: он направлялся в телестудию, чтобы дать интервью о какой-то новой заразе, которая передается от животных к людям. Друзья слали эсэмэски и спрашивали, чем помочь. Проси о чем угодно, писали они. Хочешь, я приеду? Могу во вторник с четырех до пяти. В среду и четверг, к сожалению, не выйдет. Нет, спасибо, отвечала я. Но в конце концов спросила у Лары, не принесет ли она что-нибудь почитать. Я взяла с собой в больницу только одну книгу, с журналами и газетами в здешнем киоске было туго. Лара всё не могла найти время и, наконец, прислала супруга. На меня с младенцем он смотрел примерно с таким же интересом, как на собаку или стадо коров. Мы были для него так же важны – или неважны. Он глядел на нас прямо, не отводя взгляда.
Я заметила, что журналы Лара выбрала со всей тщательностью. Esquire и Newsweek с заголовками вроде «Девушка, которая поцеловала Элвиса» и «Кишечник – это новый мозг». Фразы въелись в память знаками, речевками, хоть смысл и стерся – если вообще был. Я положила журналы в платяной шкаф наутро после операции и больше к ним не притрагивалась. Потом, дома, они легли на самую верхнюю полку гардероба, под стопку свитеров, которые я почти никогда не надеваю. Вместе с книгой и бумагами.
И другими вещами.
Младенец был крупный и светлый, хотя в семье все темноволосые. Ресницы, которые только начали отрастать, торчали щетинками. Как свежая хвоя или трава.
Входная дверь за зиму разбухла, и всякий раз приходится хорошенько ее прихлопнуть, не раз и не два. Похоже на бу́хающий кашель. Вот опять. Я слышу, как они шумят в подъезде: ясные голоса, шаги резиновых подошв. Голос Клауса глуше остальных. Чей-то смех? Вот он кричит: Идите сюда! Скрип лифта, потом впихивают санки с железными полозьями, потом еще чей-то смех, эхо. Надо постараться отдохнуть, все говорят, что мне надо больше отдыхать. Простыни давно не меняли. Такие мягкие, что кажется – вот-вот расползутся подо мной. Все в засохших пятнах. Немного крошек, волосок с лобка. Как только звуки в лифте утихают, я всё стряхиваю на пол и встаю – от усталости нет и следа. Подхожу к письменному столу, потом к окну. Всё время до самого вечера – моё. Во дворе тают сугробы, образуя комья и колеи. Ночью всё леденеет, срастаясь новыми глыбами, колеса машин примерзают к земле, мусорные баки липнут друг к другу, велосипеды – к земле, кучи сухих листьев застывают ледяными горками. Вот мой велосипед, он стоит там с октября. Уже тогда подмораживало, лужи покрывались коркой льда. Живот сжимался всякий раз, как нога надавливала на педаль. Зимней резиной я так и не обзавелась. Люблю свой велосипедный замок – такой крепкий, маслянистый. Отпираешь, запираешь сноровистыми движениями. Хвалю себя за то, что не забываю смазывать его ружейным маслом, когда начинает заедать. Пшикнешь пару раз – и всё работает. Седло рваное, обнажились слои: кожа, поролон, металлические пружины.
Здесь летает какое-то насекомое – плодовая мушка? Или это одна из точек, беспрерывно снующих вверх-вниз в поле зрения? Так обновляется стекловидное тело – объяснил мне однажды невролог. Пока точки движутся, причин для беспокойства нет. Хуже, когда они застывают на месте. Мальчик с инвалидностью из дома напротив идет по тротуару вместе с мамой. Он уже намного выше нее. Держится позади, чуть согнулся, положил руки маме на плечи. Ноги двигаются в такт, взгляды у обоих направлены вперед. Так они продвигаются сантиметр за сантиметром каждый день, по пути в один и тот же продуктовый магазин.
На диване перед телевизором – следы старших братьев. Липкие миски из-под сластей. Комья свалявшихся волос. Завитки у них над ушами, звериные кудри – там, где еще можно уловить аромат. Волосы: надо их постричь. И ногти: наверное, отросли, ломаются, под ними черный ободок грязи? Им так мало лет, и всё же рядом с новорожденным братья кажутся совсем большими. Почти гротескными. Уже пахнут. Уже видны поры. Уже тянутся в большой мир, как высокие башни. Телевизор не выключили, мультики закончились, начался телемагазин. Паровая швабра, которая изменила мир. Забудьте о пылесосах. Мне нужен черный чай, сахар. На кухонном столе уже выстроились праздничные чашки и блюдца. Сегодня ему сорок шесть дней. Тридцать дней после операции. Возвращаюсь к письменному столу. Записная книжка. Кремово-бежевые пустые листы.
Но сначала – календарь. Всё верно, всё по-прежнему верно, я беру фломастер и перечеркиваю клетку крест-накрест – тридцатую, последнюю. Большой и черный крест. Расплывается поверх других, мелких, крестиков, заполняет собой всю страницу и следующую тоже. Проступает на обратной стороне: жирные линии с запахом ядовитых химикатов. Перевернув страницу, я вижу, что крест отпечатался до самого ноября. Черный, как следы огня или пальцев, запачканных сажей.
Мое сердце никогда не билось ровно. Оно всегда трепетало, гудело, замирало. Иногда стучит так медленно, что я не могу найти пульс – ни на запястье, ни на шее. Когда пью кофе, сердце уходит в пятки и меня бросает в холодный пот. Стоит закурить, как пульс тут же подскакивает до двухсот ударов в минуту.
При прослушивании врачи иногда подозревают порок сердца. Правда, потом мы вместе приходим к выводу, что я просто испугалась врачебного инструмента. Что мое сердце, наверное, необычайно живо реагирует на сигналы, а это само по себе ни хорошо, ни плохо.
Иногда оно колотится так, что под кожей заметно движение. Между грудями, на пару сантиметров ниже, чуть левее – видны быстрые, как удары хлыстика, сокращения сердечной мышцы. Если замереть, то, кажется, вижу, как кровь пульсирует в крупных венах локтевого сгиба. Импульс движения передается коже и там отзывается крошечным, но вполне различимым эхом.
У младенца был слабый пульс в паху – там, где ему полагалось быть сильным и отчетливым.
Последние дни в больнице его голос делался всё более сиплым, пока звук не пропал совсем. Его плач было видно, но не слышно. Мама младенца, которого подселили к нам предпоследней ночью, обратила на это внимание. Печальное зрелище, сказала она. Когда функция отсутствует, а сопровождающая мимика есть. Ее младенец – девочка, рожденная на двадцать второй неделе – кричала всё время, так громко и звучно, что не оставалось ни малейшего сомнения: ей что-то нужно, и легкие у нее полностью сформированы. Она кричала слишком громко, раздражающе громогласно. Ни на секунду не замолкает, смеялась ее мама.
Я тоже несколько дней подряд замечала, как слабеет голос младенца, но потом перестала об этом думать. А после ее слов, хватая ртом воздух, бросилась в канцелярию, чтобы спросить, откуда взялась сипота. В кабинете сидела медсестра, но не Хельми. Хельми уже ушла домой – значит, у нее был дом, какая-то жизнь за пределами больницы. Медсестра, платиновая блондинка с отросшей чернотой у корней, посмотрела на меня и сказала: таково протекание болезни. Пора принять факт, что ваш ребенок болен. Нет, подумала я, никогда не приму. Могу согласиться, но не смириться. В тот момент я не отличалась героизмом. Меня будто и не существовало. Я думала, что, родись он в звериной стае, его бросили бы на съедение хищникам.
Мама недоношенной девочки спала на матрасе у самого окна. Другого места в палате не было. Теперь она лежала, погрузившись в свой телефон. Сосредоточенно нажимала на кнопки, тихо посмеиваясь. Мы давно перестали разговаривать. Возможно, она собиралась спать. У меня не было сил пробираться к окну, наступая на ее матрас, извиняться и так далее, так что жалюзи той ночью так никто и не опустил. Белый свет уличных фонарей озарял нас, пробирался сквозь решетки кроваток. В палате царила напряженная атмосфера: мы были одинаково недовольны присутствием друг друга. И обеим больше всего хотелось оказаться где-нибудь подальше от этой палаты. Но мы знали, что в данных обстоятельствах податься некуда и что вообще-то надо сказать спасибо. Мы и говорили. И желали друг другу добра. Только вот наши тела и их потребности мешали. Они никуда не девались, даже в эти переломные дни. Тела по-прежнему хотели есть, потели, тревожились и капризничали. Крошечная девочка закашлялась. Сколько ей вообще? Выглядела новорожденной, но, судя по рассказу мамы, ей было не меньше полугода. Я решила не спрашивать. Мой младенец лежал тихо. И как будто всё меньше ел. Я кормила его снова и снова. Понемногу. Он засыпал у груди. Мы спали и спали. Наутро девочки и ее мамы рядом уже не оказалось.
Порой, когда он спит, щелка между веками напоминает шов на стыке двух кусков ткани. Как будто прямо за этим занавесом телесного цвета и почти совсем белыми ресницами протекает сложный инженерный процесс.
В тот раз, когда я шла по берегу, в первые дни нового года, ели и сосны казались вырезанными из темно-синей ткани. Печати хвойных полукружий на фоне полоски неба вдоль линии ближайших островов залива, тогда еще незнакомых. Темно было всё время, это я уже рассказывала, но даже во мраке контуры проступали отчетливо. Весь год перед этим меня посещали мысли, что я всё уже знаю, что мне больше никогда не доведется пережить ничего нового. Словно всё, что я думала и проживала, – лишь вариации на тему старых вопросов и жизненных событий. Теперь же мир предстал передо мной в доселе невиданном свете. Небо за кромкой леса было на оттенок светлее, будто идеально установленный прожектор подсвечивал его снизу нежным овалом. Как свет звезд. Вид почти театральный, как задник в старомодной пьесе, и, двигаясь, я становилась частью этой волшебной сценографии. В помещении же, на фоне больничных коридоров, размытых в дымку лампами дневного света и чужими голосами, я останавливалась, большая и резко очерченная. Важную информацию трудно было отличить от воркования, которым успокаивали таких, как я. Этот вечер – последний? Мне только что сказали, что сужение аорты очень резкое. Слова обронили на бегу – во время утреннего обхода, который, как обычно, затянулся до вечера. Через пару секунд врач и две медсестры уже говорили о чем-то другом и шутили, стоя возле больничной кроватки. Кто-то из них осторожно поправил в очередной раз съехавшие с крохотных пяток шерстяные носочки. Уловив мгновение, когда они переводили дыхание, я попросила повторить только что сказанное. Что? Ах, да. Коарктация аорты три миллиметра – точнее три целых и четыре десятых, и артериальный проток вот-вот закроется (тогда, кстати, и может случиться коллапс). То есть мы рекомендуем провести операцию в ближайшие дни.
Но ведь это и собирались сделать, в любом случае?
У него были такие холодные ступни. Может быть, это бывает у всех новорожденных, не помню. Но тогда я думала: это сердце не в силах качать кровь до самых конечностей. Наверное, так оно и было.
Каждое утро я принимала душ. Было тяжко вставать, брать полотенце, кремы и чистые трусы. Сначала рыться на полке, потом брести к комнате отдыха для родителей, мимо канцелярии, и не забыть кивнуть сестрам, если они сами не забудут взглянуть на проходящую по коридору меня, миновать других родителей, уже, может быть, сидящих за столиком с чашкой кофе, и, наконец, зайти в душевую. Я стояла под струями воды, пока дыхание не перехватывало от горячего пара и коврик под ногами не начинал коробиться. Голову я тоже мыла каждый день, даже если волосы были совсем чистыми. Не опуская взгляд на тело – пусть будет само по себе. Больничное мыло без цвета и запаха идеально подходило моей коже. Под конец я не обливалась холодной водой – не на этот раз, но растирала тело больничными махровыми полотенцами: каждый палец, каждый волосок, чтобы разогнать кровь, – и, наконец, мазалась вишневым кремом с блестками. Но кожа оставалась жесткой и сухой. Я мыла и дезинфицировала руки, едва прикоснувшись к любому предмету или только собираясь к нему притронуться. Люди были для меня ходячими источниками всевозможных инфекций. Если ребенка чем-нибудь заразят, будет ли возможна операция? Медсестры уверяли меня, что у новорожденных есть иммунитет, приобретенный еще в утробе матери, а кормление грудью дополнительно защищает. И ребенок справлялся: день шел за днем, и он был жив. Но сколько еще таких дней надо продержаться? По дому и по школе старших братьев гулял кишечный грипп. Я говорила себе, что если и быть параноиком – то когда, если не сейчас? Я себе это разрешила. Надев чистую просторную одежду, я сушила волосы, выходила из душевой и несколько секунд чувствовала себя нормальным человеком. За столиком в кафетерии сидели женщины из родительских объединений, мамы детей с пороком сердца. Они угощали меня печеньем. Но мне не нужны были их брошюры о детях, которые стали ангелами на небесах, мой ребенок должен был выжить. Наша сердечная болезнь была временной.
Поначалу Хельми предлагала присмотреть за младенцем, пока я принимаю душ. Самый сладкий ребенок в отделении, шептала она мне на ухо. И с ним может случиться коллапс – это происходит редко, так говорили все медсестры, но все-таки происходит. Поэтому лучше, чтобы в палате всегда кто-то находился. Когда это невозможно, младенца надо подключать к аппарату, который будет следить за его состоянием и подаст сигнал тревоги, если что-то пойдет не так, но этот аппарат мы стараемся использовать пореже. Мы тут спорим, кому приглядывать за вашим младенцем, – все к нему хотят, сказала как-то Хельми.
Что значит коллапс, спрашивала я.
Ничего хорошего, уклончиво отвечали медсестры. Хорошо, что вы тут, в больнице. Бедные те, у кого коллапс случается дома. Вам повезло!
Но так и быть, про коллапс.
Вот как это происходит:
Сужение аорты приводит к ухудшению кровоснабжения органов нижней части тела.
Кроме прочего, перестают работать печень и почки.
И тогда дорога каждая минута.
Врач пальпировал живот младенца и написал:
Пальпация брюшной полости показала, что размер печени в данный момент в пределах нормы.
Возможен бикуспидальный аортальный клапан, но для точного диагноза имеющихся данных недостаточно.
II / Сердечный выброс
Still alive
who you love.
(Bon Iver – Perth)
Я хотела рассказать о женщинах на берегу озера в Америке. Женщин много. Двадцать, а может и тридцать. Они разбросаны по иссушенным землям в центральных частях материка. Женщины немолодые, достигшие того жизненного рубежа, когда уже можно не стараться всё исправить, а взять и бросить. Они где-то услышали об этих землях и возможностях, которые здесь открываются. Что стоит лишь решиться и сесть за руль большой старой машины, а потом просто ехать и ехать, и ты найдешь дорогу туда. Такие слухи разлетаются мгновенно. И всегда вызывают интерес. Но не у многих. Однако всегда найдутся люди, которые хотят того, чего не понимает большинство. Об этих женщинах я думала давно. Представляла себе, как они выглядят (особенно одна из них: с самыми длинными волосами, танцующая) и где они живут: в домах, больше похожих на сараи, или в фургонах, просторных, стоящих далеко друг от друга. Между ними – ущелья, труднопроходимый чапараль или потоки, низвергающиеся с обледенелых вершин гор. Не хочется никого видеть – пожалуйста, хоть неделю рядом не будет никаких людей. Быт очень простой, хозяйства почти нет: небольшая грядка и desert wild grapes у крыльца. Может быть, они обменивались бы растениями? Собирались бы раз в две недели у кого-нибудь в палисаднике, чтобы вместе пообедать, о чем-то посоветоваться, чем-то поделиться? Мыли бы посуду в жестяных тазах на дощатых столешницах. Кастрюля, вилка, стакан обсыхали бы на жаре. Пять секунд – и ни капли влаги. Всё опалено солнцем. Больные находили бы там исцеление. Почва с высоким содержанием редких минералов. И кое-каких ядов. Следов. Одна из женщин получила бы наследство после смерти мужа-тирана и выкупила землю, сорвав запланированное строительство шоссе. Там находилось бы время на сон. На чтение. На купание в озере. В котором всё еще можно было купаться. Несмотря на добычу полезных ископаемых, засуху, приближающийся конец света, озеро было бы удивительно чистым. Я думала об этих женщинах больничными вечерами. Не так часто. Может быть, вообще всего один раз. Попробовала записывать, но строчки побежали вверх – рука отвыкла. Первые наброски хранились дома на компьютере. Я только что родила. Но мне казалось, что надо спешно работать. Как будто время без работы потрачено напрасно. Примерно так: если я не пишу, то кто я? Я должна дописать вещь. Я. Я тоже есть.
Когда нас принимали в кардиологии, надо было заполнить бланк и, кроме прочего, указать профессию матери. Я вывела «поэт», указав на полях, что работаю над текстом про смерть. И это было правдой – по крайней мере, отчасти. В графе «имя ребенка» я написала «Сигфрид», хотя имя мы почти не обсуждали. Но мне нравилось его звучание. В скобках я указала «Сиигфриид», чтобы все знали, как произносить. Чтобы ни в коем случае не коверкали. Я решила, что ребенку нужно имя. Хотя бы имя. После него поставила восклицательный знак. В направлении указали, что он второй ребенок, хотя на самом деле был третьим. Я исправила ошибку. Зачеркнула эту цифру и написала верную. Медсестра взяла в руки бланк и пробежала по нему глазами, слегка наморщив лоб. Добавила личный номер ребенка, вдруг материализовавшийся словно из ниоткуда, подозрительно быстро. Не задавая вопросов, она отправила бланк в архив, одной ногой уже стоя в коридоре, собираясь направиться к больным. Клаус поехал домой к сыновьям, о которых я совсем забыла. Но кто-то за ними присматривал – наверное, моя мама.
Раньше письмо было способом отвлечься от действительности – или, скорее, отфильтровать наделенные смыслом детали, сделав реальность постижимой. Такие, за которые можно было ухватиться. Отделяя страшное, признавая и называя его – наверное, как в классической терапии или при ведении дневника? Придвигаясь всё ближе и ближе к происходящему, пока не окажешься вне или над ним.
На этот раз письмо не помогало. Эту проблему нельзя было перенести на бумагу. Наоборот: чтобы справиться, надо было забывать, каждую секунду, а письмо лишало доступа к забвению. Скольжение карандаша по листу уже не отвлекало внимание. Запястье болело, казалось чужим. Его жесткость, краснота, грубость кожи. Я будто иссыхала. В то же время кисть казалась неожиданно маленькой. Это я помню. Я вытянула правую руку прямо перед собой, в полумраке. Потом левую. Мне всегда казалось, что у меня крупные, почти обезьяньи конечности. Сильные и некрасивые. Я смирилась с этим. К тому же у таких рук есть свои преимущества. Но теперь кисти вдруг стали маленькими. Несмотря на широкие, выступающие вены и широкий большой палец. И следы оторванных полосок сухой кожи, тянущиеся порой от кутикулы до самого сустава. Такие маленькие, маленькие руки. Тогда я подумала, что, наверное, всю жизнь что-то недопонимала о себе, но что именно – осталось неизвестным.
Однако время, проведенное за письмом, всё же оставляло чувство проделанной работы. Минуты хватало, даже взять карандаш и бумагу было достаточно. Или прикоснуться к ним. Переложить с места на место. Хотя бы подумать о них.
Я делала заметки, но не помню о чем. И не каждый вечер. Недлинные. Сначала на чеках, найденных в кошельке. Потом попросила у сестер бумаги для принтера. В сумке с вещами из дома, среди оберток от жвачки и березовых сережек, нашелся огрызок карандаша. Возможно, мне казалось, что написанное в этих обстоятельствах будет особо искренним и уникальным. Что таким образом я смогу использовать ситуацию, открыв что-то новое. В то же время эта мысль была омерзительной, и я старалась от нее избавиться. И тут младенец подавал звуки, ставя точку в моих размышлениях. Я складывала лист и совала его в книгу о Вирджинии и Ванессе, поствикторианских бунтарках – на самом деле, с большим облегчением. Я проверяла, не виднеется ли писчая бумага меж страниц книги, и ставила ее обратно на полку, где она казалась самой обычной. Младенец утихал, так и не проснувшись. Я вытягивалась на еще не застеленном серебристо-сером матрасе, глядела на снег за окном, пока не затуманивался взгляд. Снег всё падал и падал. Я смотрела на светящиеся трубки ламп, светлые стены, тени. Звякала крышка мусорной корзины, кто-то выбрасывал кофейную гущу, шелестели швабры в коридоре, и мы вплывали в новую ночь.
Сейчас я на минуту задумалась о воде – опять, но уже иначе. Не об озерах в пустыне и горных ручьях. А о простой радости жизни. О примитивной силе. О путешествиях. О высоченных волнах. Когда нет четких границ. О ранних утрах. Когда еще длится ночь. Когда добровольно мерзнешь. Переодеваешься на парковке. Когда тела – словно доски для серфинга, отлитые из золота. Неподвластные холодной влаге, водорослям, тревогам. Машины. Друзья. Быть внутри водопада, чтобы вода лилась по телу, по шее. Скользить в теплом, бирюзовом лесном озере. Пахнуть загаром.
Ехать на велосипеде в кромешной тьме без фонаря.
Крутить педали под ливнем без дождевика.
Родила я этого ребенка удачно, даже ловчее, чем его старших братьев. Впервые в жизни готовилась, читала книги о естественных родах. Смиренно ходила на йогу для беременных к йогине родом из семидесятых, где мы сидели кружком и беседовали среди драпировок из батика, хотя обычно я такого избегаю. Там мы должны были много думать о сердце. Мы лежали, слушая, как оно бьется прямо над зреющим младенцем. Всего лишь в нескольких миллиметрах. Визуализировали сердечную чакру и ее цвет – зеленый. Мы работали над раскрытием сердца при зажженных свечах. Младенцы слушали наши сердца, чтобы узнавать их удары после рождения. Этот ритм должен был означать безопасность, любовь, чувство дома. Но на самом деле сердце – это всего лишь физический орган. Мышца, которая сокращается под влиянием электрических импульсов и поддерживает в теле жизнь, качая насыщенную кислородом кровь, – пока однажды не перестанет. Теперь я не выношу конфет в форме сердечек и открыток с нарисованными сердцами. Больше никаких игр с этим образом.
Услышав, что у ребенка врожденный порок сердца, большинство думает, что в нем дырочка. Многие строят догадки, едва я начну объяснять – а лекции я читаю всем подряд. Женщины главным образом спрашивают, как я заметила, что он болен; в их глазах мельтешит страх беды. Мужчины слушают с серьезным видом, но вопросов не задают, и я быстро меняю тему. Я всё меньше и меньше сглаживаю детали. Излагаю всё до мельчайших подробностей, жестоко. Я восхищаюсь теми, кто умеет рассказывать без прикрас. Но и без лишних ужасов. Как хирург, который за несколько дней до операции широким шагом подошел ко мне в коридоре и сказал: операция сложная. Мы разрежем аорту малыша, удалим деформированный участок (и куда денете?) и сошьем здоровые концы (иголкой с ниткой?). Дуга аорты, то есть верхняя часть главной восходящей артерии тела, у новорожденного – шириной пять миллиметров. Во время операции концы фиксируют пластмассовыми зажимами. Будем надеяться, что они не соскользнут! Однако шутки в сторону. Мы войдем в грудную клетку сбоку, так что большого шрама впереди не будет (да какая разница, лишь бы он жил!). Его подключат к респиратору, но сердце будет биться всё время. (Его собственное сердце.) Прогноз хороший. А что если там есть еще какие-то проблемы, сказала я, которых вы не заметили? Милая моя, УЗИ делали пять раз. А если будет передозировка наркоза, и он не проснется? У нас очень опытный персонал. А если вырубится электричество? Разумеется, у нас есть запасной генератор. Но всякое бывает! Операция должна занять около двух часов. Когда закончим, мы вам позвоним.
Я восхищаюсь: ими. Я хочу быть как: они. Но рассказывать об этом у меня нет сил.
Я не пропускала ни одного занятия йогой для беременных. Смазывала промежность маслом календулы, чтобы ткани стали эластичнее. Минимум раз в день делала глубокие приседания, раскрывая тазобедренные суставы. На йоге я была лучше всех. Усердней и выносливей всех. Беременность протекала хорошо. Перед первым УЗИ я нервничала и, узнав, что всё в порядке, испытала большое облегчение. Пульс младенца был немного чаще, чем некогда у старших братьев. Я объясняла это тем, что младенец – девочка. Воды стали отходить на сороковой неделе. Я тогда была в городе. Прозрачные, не коричневые и не желтые. Они всё текли и текли, как будто внутри работал насос. Я положила в трусы толстую прокладку и поехала домой на автобусе, зажатая пассажирами и их сумками. Никто ни о чем не догадывался: день как день, люди направлялись домой, а я посмеивалась про себя, ведь я-то кое-что знала, а вечером, когда пришла моя пунктуальная как часы мама, мы с Клаусом медленно пошли в больницу. Роды протекали как положено: я старалась продышать схватки, наклонившись вперед, мычала и гудела. Я выбросила из головы слова знакомого врача о том, что роды всегда сопряжены с риском для жизни, и думала обо всем, чему научилась на йоге. Что роды лежа придумали в восемнадцатом веке, чтобы разрешающиеся от бремени особы королевской крови не напоминали животных, что каждая схватка длится не более девяноста секунд, хоть под конец они и учащаются. Я двигалась навстречу боли, а не замирала, как в прошлые разы, будто прячась от схватки. Я ходила по комнате, стояла опершись на изголовье кровати, на спинку стула, шумно выдыхала. Клаус массировал мне поясницу индийским деревянным валиком. Я не просила обезболивания, только немного веселящего газа, а спустя пять часов вытужила через родовой стульчик блестящего и плотного ребенка с идеально симметричным лицом и мочками ушей, похожими на листья очитка.
За ночь похолодало. Родильная палата была стального цвета, в душевой меня безудержно трясло от пережитого напряжения и недосыпа, а промежность болела так, что я сгибалась пополам. После прежних родов я чувствовала себя иначе. Этот ребенок оказался крупнее. Мои внутренности расширялись и изгибались, стремясь занять прежнее положение. Так сказала акушерка, когда я описала свои ощущения. Но я не беспокоилась – по крайней мере, за себя. Однако была во всем этом какая-то беспощадность – в родах среди ночи, среди зимы, и в этом кругленьком ребенке, который как будто всхлипывал, лежа на столике. Рядом с ним – чаша с пленками и плацентой. Так я это запомнила. И мы, словно осевшие от усталости, в резком свете неоновых ламп. В зеркале душевой – лицо обессилевшей старухи.
Но наутро сияло антициклонное солнце. Большие окна отделения были полны ярко-голубым небом с бирюзовым отливом. Слякоть сменилась морозными кристаллами, сухим паром дыхания. Промокшие кроссовки – красивыми, толстыми валенками. Пока я ходила по коридорам, сидела и лежала, подавали кисель и тушеное мясо. Я принимала навещавших и кормила ноющей грудью, но смазывать кровоточащие соски особой медовой мазью мне было не впервой. Я смотрела в потолок, холодный и белый, чуть потрескавшийся. Разглядывала новенького младенца в прозрачной люльке на колесиках. Он спал, он кричал, у него краснело лицо. У младенца были синюшные холодные пальцы на руках и ногах. Я меняла подгузники. Первородный кал. Тоненькие ножки, пузо сковородой. Мальчишечье тело. Он не был по умолчанию самым сладким ребенком в родильном отделении, как некогда его братья. Крупный, с большой головой, чуть отекшим лицом в красных пятнах. Припухшие веки, совсем немного светло-каштанового пушка на голове. Он спал, он ел. Остаток пуповины отсох уже на следующий день: такой зрелый был младенец, совсем готовый к выходу в мир – так я тогда думала. Тот отсохший кусочек я приберегла на память, решив, что сама пойму, когда придет пора его выбросить. Стужа проникала внутрь толстых стен, подкарауливала. Младенец казался прохладным, как будто температура тела подстроилась под зимнюю погоду, как у эктотермных животных. Я прижимала его к себе под рубашкой, стараясь согреть. Он лежал неподвижно, будто в забытьи. Иногда приоткрывал один глаз: сумрачный взгляд, неглубокая темнота. Я стояла у окна, на самом верхнем этаже, и смотрела на город, и была счастлива, а это слово я произношу нечасто, и снова – или всё еще – была простужена, и кашляла я так, что в теле дребезжали раздраженные перепонки. Потом пришли родные. Есть фотография: вся семья в сборе, в роддоме. Кто сделал этот снимок? Родился младший брат. Оказалось, был день моего рождения, а я забыла. Мне исполнилось тридцать девять лет. Я чувствовала себя юной. Мы были так счастливы. Ту фотографию я никогда не беру в руки. Даже не знаю, где она лежит. После нее снимков нет.
Во время планового контроля перед выпиской врач обнаружил шумы в сердце младенца. Нас записали на повторный осмотр, через два дня. Врач уверял, что за это время всё должно пройти: Боталлов проток, связывающий легочный ствол плода со спинной аортой, зарастет и превратится в нормальную для родившегося человека артериальную связку – просто с небольшим опозданием. Обычно это происходит в первые дни после появления на свет, но в некоторых случаях занимает чуть больше времени. Странно, подумала я, ведь он даже немного переношен и во всех остальных отношениях такой зрелый, но откуда мне знать – очевидно, эти две вещи не связаны между собой.
Короткую дорогу до дома мы проделали на такси, было двадцать три градуса мороза, на младенца надели новую огромную пушистую шапку с медвежьими ушками, и я видела, что передо мной самый здоровый ребенок, мы все самые здоровые, я родила третьего здорового ребенка. Я ходила по дому, время от времени поглядывая через окно вниз, во двор. Кружили снежинки. Птицы по-зимнему хохлились. Прохожие в красивых шарфах казались только что разбуженными морозом, светом. Вот женщина и подросток, опирающийся обеими руками ей на плечи. Она казалась молодой, довольной. Я думала о том, как непредсказуемо несправедлив мир. Ведь меня опять не задело. Думала: вот я – человек, которого судьба уберегла от беды. Младенец регулярно засыпал и просыпался с четким криком. Успевал проголодаться и жадно ел. Молоко прибывало, превращая груди в скользкие, туго накачанные мешки с проступающими венами. Захватить их беззубым ртом было трудно. Но младенец снова прицеливался, не оставляя попыток. Когда излишки молока брызгали ему в лицо, он ошеломленно кивал, на мгновение застыв, а потом продолжал как ни в чем не бывало. Он дарил мне покой. Я ни о чем не волновалась. Я была воплощенная противоположность тревоги.
Но спустя два дня вместо голубых протоков экран показал белые. Доктор слушала и слушала. Молча. Потом слушала еще, водя стетоскопом по крошечной груди. Спереди, сзади, опять спереди. И еще раз. Остановилась где-то между лопаток. Что там? – спросила я, но ответа не последовало, и в ту секунду я поняла, что беда все-таки меня настигла. Страшное наступило, а я не готова. Тело не знало, как реагировать. Доигралась. Позже я думала: та минута, когда жизнь впервые пошла крахом. Но это было еще не всё. Мне предстояло сидеть за столом, глядя, как в тарелку капают слезы – не раз и не два. Те, кто говорит: плачь, просто плачь – неправы. Лучше всего, когда для слез нет причин. Но, может быть, рубцы прочнее нетронутой кожи – по крайней мере, если рана не смертельна. Человек в шрамах бросается на жизнь, как оголодавший. Знает, что терять времени нельзя, наслаждается всем, чем только можно, не требуя лучшего. Как те прогулки, в тот раз, когда я впитывала красоту. Врач набрала какой-то номер. Не знаю чей. Я чувствовала себя лишней. Присутствия Клауса не помню. Но он был там. Куда вы звоните, спросила я. Направляем к вам пациента, сказала она в трубку. Сию минуту.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































