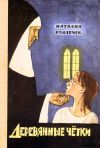Текст книги "Четки фортуны"

Автор книги: Маргарита Сосницкая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
На приеме все общаются со всеми, каждый преувеличенно рад каждому. Иван ушел бы, скрылся от греха подальше, да служба не велит – без консула нельзя. Но вроде обошлось. Народ, если этих расфуфыренных дамочек можно назвать народом, стал потихоньку растекаться. Но чему быть, того не миновать. Уже в фойе он лицом к лицу столкнулся с – ах, да! Ее звали Марией. Она засмеялась:
– Здравствуйте, товарищ Меджибож.
– Разве мы с вами знакомы? – Кто бы усомнился в его искренности.
– Как же, как же, – лукаво улыбаясь, продолжала товарищ Мария. – Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. А под фонарем…
– Ну, разумеется, – кивнул Меджибож, – Александр Блок.
Товарищ Мария перестала улыбаться:
– Скажи спасибо, Иван, что я твою измену партии приняла за высшее признание моей красоты.
– Кто-то ради любви не выполнил долга? – решил стоять на своем до конца Меджибож.
– Хочешь, напомню, как ты…
– Это явное недоразумение. Я вас вижу впервые.
– Ой ли?
– Но должен признаться, – сориентировался Иван, – что ради вас можно, да и не жаль, потерять голову.
Товарищ Мария довольно улыбнулась.
– Наташа, – позвал ее по-свойски посол. – Тебя здесь спрашивают.
Она укоризненно покачала головой, как учительница провинившемуся ученику, вздохнула и протиснулась между полуобнаженными спинами в соболях и чернобурках.
– Наташа? – Иван не заметил, как почесал в затылке. Жест, не рекомендуемый дипломатам.
Эпилог
Артэми уже в аэропорту получила запечатанный конверт и положила его в черный лаковый ридикюль, устроив на нем прощальный парад своим алебастровым пальцам в кружевных митенках.
Только через месяц в издательство «Черная лебедь» пришел ответ. Все три варианта, на взгляд Артэми, в равной степени были жизненными; она их переведет все и отдаст в журнал «Литератюр ожурдюи», посмотрим, каков будет эффект. Но все три варианта объединяет один общий минус: всюду забыта черная сотня. А ведь Ева – белая черносотенка. Посему ни одна версия не угадывает истинной истории. А она значительно проще и поразительней.
Авг. – окт. 2002 г .
Роковая сделка
Чудом избежавшие истребления переулки старой Москвы, что за домом Герцена, спешно меняли свой вид. Иностранные компании соперничали между собой из-за стареньких особнячков, взвинчивали на аукционах цены и, уж если дорывались, не жалели средств на их восстановление. Особняки и целые барские подворья оживали, воскресали, открывали глаза, как спящая красавица после долгого сна, и удивленно не узнавали у своих ворот флаги невиданных государств, таблички с названиями неслыханных фирм и корпораций. Окна особняков были занавешены тяжелыми атласными шторами, а если они отодвигались невидимой рукой, за ними сияли каскады хрустальных люстр и светильников. Почти никто никогда в эти особняки не входил и из них не выходил. Зато из ветхого, пока не откупленного из-под коммунальных квартир двухэтажного дома с поблекшей мемориальной доской на углу Трехпрудного переулка, вышел молодой человек с тонким выстраданным лицом, в черной рубахе, с этюдником в руке и направился в сторону Тверской. Проходя мимо щегольского особняка, он зловеще ухмыльнулся: покупайте, мол, покупайте, вкладывайте, придет время, мы вас отседа в шею…
Из ворот особняка бесшумно выехал серебристый «мерседес» и исчез за углом. Молодой человек мрачно проводил его взглядом. Он вспомнил о своем младшем брате Коле. Последнее время, с чего бы ни начинались его мысли и разговоры, заканчивались они братом Колей. У того после армии неправильно срослись на ноге кости, надо ломать и сращивать по новой.
«Обыкновенная костоломная работа, а стоит… – молодой человек поморщился, – откуда у них, у Лукоморских, такие деньги?»
Он вышел на Тверскую.
Пятачок перед бывшим кафе «Лира», а еще раньше бывшим Страстным монастырем, походил на помойку. Толпы полунищих старух торговали чем попало: от колбасы до калош; молодчики побойчее выставляли валютный товар, фотографы по договорной цене снимали желающих с изображением президента либо, на выбор, бывшего президента, и над всем этим нависала вывеска-вамп Макдоналдса. На вывеску Лукоморский глаз не поднимал, его внимание было поглощено зданием Всероссийского театрального общества, грандиозно погоревшего несколько лет назад. За окнами фасада виднелось небо, синее или черное в зависимости от времени суток, а на вершине руин росла трава.
Художнику хотелось нарисовать, как эту траву колышет ветер. А здание – таким, какое оно ночью, с черными глазницами окон, зловещим в огнях фонарей, похожим на заброшенное или потерпевшее крушение судно. Он весь погрузился в работу. Толпа, роящаяся вокруг, не отвлекала его – наоборот, ее однотонный рокот давал ощущение привычности, а значит, уюта. Время от времени какой-нибудь зевака останавливался у художника за спиной, глазел, сколько душе угодно, и шел дальше.
Но вот рядом остановился необычайно изысканный господин вне возраста. На нем был костюм цвета ящерицы, пребелая рубаха и узкий шелковый галстук. Черные волосы его были напомажены, гладко зачесаны назад и блестели так же, как и его черные, будто только что снятые с витрины, туфли. Лицо этого господина было нежным и бледным, черты же – не запоминающиеся из-за их точной, без сучка без задоринки, правильности. Он смотрел на картину, встающую из пустоты полотна, и не моргал.
Но вот художник вытер кисти, сложил этюдник и собрался уходить.
– Простите, – приблизился к нему господин, – я давно наблюдаю за вашей работой, и она меня захватила.
Художник, еще не пришедший в себя от работы, тяжело, издалёка посмотрел на этого слишком правильно говорящего по-русски типа.
Незнакомец в ответ на его взгляд слегка поклонился, приложив руку к сердцу и сверкнув бриллиантовой запонкой.
– Гальярдов – консультант, советник и проводник определяющего направления. Мне показалось, что здание у вас на полотне накренилось, как потерпевший крушение корабль, который еще не сдался, еще бунтует, сопротивляется волнам.
– Лукоморский, – представился и художник, не выдавая своего удивления наблюдательностью Гальярдова.
Тот засмеялся:
– Однако. Ценю вашу выучку. Вы прекрасно не подали виду.
Лукоморский удивился еще больше, но промолчал.
– Разрешите пойти с вами, – продолжал Гальярдов. – Мне было бы чрезвычайно интересно посмотреть другие ваши работы. Думаю, что я не пожалею…
Дом художника открыт для всех.
Тем более у Лукоморского домом была мастерская. Располагалась она как раз в том самом двух-этажном доме на углу Трехпрудного, откуда Лукоморский направлялся на Тверскую. Дом этот с обсыпающейся штукатуркой был полувыселен; в нем оставили доживать двух-трех старушек, похожих на тени, с кошками, да одну многодетную семью, на которую не существовало достаточно габаритной квартиры; детишки рассыпались по всем комнатам и вели свои игры и перестрелки. Остальная часть дома была занята художниками. Они пришли сюда однажды и сказали: «Занято». Затем приволокли подрамники, станки и тюфяки, и комнаты стали мастерскими.
Дом стоял никому не нужный, никто на него не зарился, и жизнь текла бы там совсем спокойно, если бы не домоклов меч: а вдруг позарятся?
Незнакомец шел рядом с Лукоморским и не нарушал молчания. Но присутствие его, блеск как бы лучших манер, как бы с подчеркнутейшим сознанием собственного достоинства, необъяснимо тяготило и отвлекало Лукоморского. Уж слишком необычным был его вид, прилизанные волосы, блестящие туфли, бриллианты на манжетах, запах духов, приторных до изжоги, да и фамилия, что за фамилия такая – Гальярдов?
Лукоморский провел его на половину художников, постучал в дверь в конце коридора, заставленного повернутыми к стене картинами, и, не дожидаясь ответа, толкнул ее. Гальярдов последовал за ним и оказался в большом, просторном зале. Он ахнул: из окна напротив с откинутой газовой занавеской и мраморными богинями в нишах по обеим сторонам, открывался вид в сад. Дорожки в нем были выложены плиткой, вдоль тянулись подстриженные кусты, в фонтане-ракушке била серебристая струя. И над всем этим взмывало ослепительное южное небо. Гальярдов закрыл глаза ладонью. Открыл – небо по-прежнему сияло яркой матовой голубизной.
– Не может быть! – воскликнул он и вопросительно посмотрел на Лукоморского.
Тот невозмутимо поставил на пол этюдник.
– Не может быть, – повторил Гальярдов, – здесь в округе таких садов нет. – Он шагнул к окну. – Постой! Да ведь… ведь начинало темнеть. Это же…
Он подошел ближе:
– Конечно! Обманка! Как же я сразу не…
Лукоморский, пряча довольную улыбку, крикнул в коридор:
– Зверюк! Поди сюда, Зверюк! Тут с господином шок.
Гальярдов с опаской посмотрел на дверь.
– Какой породы? – спросил он с кривенькой улыбочкой.
– Сейчас увидите. А я-то чуть не принял вас за ясновидца.
Вошел невысокий человек в рабочем халате с длинными ручищами до колен. Причесан и выбрит он был аккуратно, но это ничуть не лишало его дикого вида из-за лохматых бровей, обвислых щек и волосатых ушей.
– Это вот с этим шок? – кивнул вошедший на Гальярдова.
– Познакомьтесь, – сказал Лукоморский. – Господин Гальярдов, ценитель искусств… А это Зверюк, непревзойденный обманник.
– Так это вы-ы, – вывел на «ы» руладу изумления Гальярдов, – вы, – запнулся, – вы – создатель этого… усладительнейшего вида?
– Не верится? Хе-ге, то-то, – отвечал Зверюк. – Так-то.
– Покупаю! – вскричал Гальярдов.
– Хе-ге, не в продаже. То-то.– Зверюк чмокнул языком.
– За любые деньги! Ваша цена?! – настаивал незнакомец.
– Не в продаже, сказал же. Соображать надо, она ж сделана под это пространство, оно на нее работает. Вынеси ее вон, и полы ею можно помыть.
– Конечно, конечно, – взял себя в руки Гальярдов. – Искусство так тонко, что искусства не заметно, – рафинированно перешел он на общие места, и это больше соответствовало его костюму, чем удивление и порыв. – Я действительно не заметил, что зал – это как бы часть полотна. Но у вас есть и другие шедевры? Разрешите взглянуть? Разумеется, после того, как посмотрим картины господина Лукоморского.
Лукоморский повел бровями:
– Можно без церемоний. Я не барышня, не умру от ревности. Иголин! – рявкнул он. – Пойдем, я покажу вам Иголина, и наш костяк будет в полном составе.
Лукоморский пошел по коридору, стуча кулаком в каждую дверь.
– Тут лаборатория Зверюка. Тут – мои хоромы, а там – Иголин. Эй, Иголин! Али спишь?
Дверь скрипнула и открылась, являя на пороге Иголина. По лицу, бледному, затворническому, не жалующему прогулки, было понятно, что это молчальник. Он был в черном рабочем халате, усугубляющем бледность лица и черноту волос, бровей, глаз.
– Познакомься – господин Гальярдов. Интересуется живописью. Твоей в том числе, – неохотно пояснил Лукоморский.
Иголин исчез с порога, из чего надо было понимать: милости просим.
Иголин писал по дереву героев древности и Нового Завета. Только эти герои поселялись в современности или во временах, не столь отдаленных. Богородица Лада шла по людному городу, никто ее не замечал, только какой-то радостный малыш в прогулочной коляске протягивал к ней ручки; равноапостольная Ольга в солдатской гимнастерке грела руки у костра, отсвет от него озарял ей лицо и воспламенял нимб неопалимой купиной. Темный лес, окружающий святую, был воинством, в каждом дереве угадывался воин в длиннополой шинели.
Гальярдов различил это и отметил.
Но дольше всего он задержался у неоконченной картины, на которой Лада-Богоматерь воспаряла над землей в столпе света, поднимая за собой из-под земли русских воинов в форме всех ее армий: царской, добровольческой, советской. Все они поднимались и вставали в один строй.
Гальярдов опустил глаза и промолчал.
Словоохотливее он стал перед обманками, обманищами, обманчиками Зверюка.
– Теперь я понимаю, почему Лукоморский назвал эту мастерскую лабораторией. Как алхимик не спит над созданием философского камня, над превращением железа в золото, так, – Гальярдов поклонился Зверюку, – художник трудится над превращением простой холстины в мрамор, малахит, в ажурную чугунную решетку или серебро.
– То-то знай, – довольно крякал Зверюк, – значит мастер… ремесло… а ты г-ришь! Так-то.
У Лукоморского картины были «раззудись плечо». Великие реки с ястребом под облаками, великие нивы, уходящие вдаль, бесконечные, теряющиеся за горизонтом дороги. У этих картин был звук и запах: то слышалось в них эхо, то скрип колес, то лай чаек, то веяло водорослями от соленой воды.
– Да-с, осязательно. Внушает, – оценил Гальярдов.
Он высказал свое «приятное» удивление по поводу того, что рядом живут и трудятся три выдающихся таланта, у которых вершины мастерства уже такие, что страшно угадывать, каковыми они станут пусть даже в недалеком будущем. Да только тогда времена станут еще круче, а художнику надо на что-то жить, приобретать кисти, подрамники, рамы (картины – они ведь есть просят), и, короче, он, Гальярдов, готов с удовольствием купить у каждого из присутствующих по картине. Любой, на усмотрение автора.
О, как прав был Гальярдов! Времена действительно усложнялись не по дням, а по часам, писать картину при учете стоимости материала становилось роскошью, и художник всегда был рад что-нибудь продать.
Иголин уступил «Крещение на Чистых прудах». Зверюк – уже знакомую чугунную решетку, Лукоморский – небольшой пейзаж с котом.
Гальярдов попросил назвать цену.
– Я свою, чтоб знал, она по каслинским мотивам, чугунку меньше чем за пять кусков не отдам, – размахнулся Зверюк. – Так-то.
Гальярдов был озадачен, сколько же это «кусок» и в какой монете, но уточнять посчитал делом щекотливым и понимающе улыбнулся.
– И не деревянных, – сам отвечал на его мысли Зверюк, – а этих, конверт, какие культурно протягиваются, в конвертике – конвертируемых. Не нравится – не бери. Во.
Он схватил было свою решетку под мышку, но Гальярдов остановил его жестом.
– Ну а ваши? – обратился он к Иголину и Лукоморскому.
Они переглянулись.
– А что наши? – сказал Лукоморский. – Наши тоже не меньше.
Гальярдов вынул из внутреннего кармана бумажник из тонкой змеиной кожи и покрутил в руках.
– Даю каждому по… кстати, – повернулся к Зверюку, открывая бумажник, – сколько это – кусок?
– Штука, – ответил Зверюк.
Но Гальярдов продолжал на него смотреть вопросительно, и Зверюк добавил:
– Ну-у, тыща, поди ты.
– Каждому по десять тысяч. Наличными.
Лукоморский вздрогнул: ровно столько стоила Колина операция.
– Хо-хо! – моргнул Зверюк. – Ну-ты, Лукоморский! Вот это клиента привел!
– Наличными. Но при одном условии, – продолжил Гальярдов. – Картин сегодня я брать не буду. Но как-нибудь приду и возьму у каждого из вас одну, лучшую на мое усмотрение.
– «Как-нибудь» нас здесь может не быть, – возразил Лукоморский.
– Не волнуйтесь, – повернулся к Лукоморскому Гальярдов. – Вы не останетесь в тени. Вы все будете на виду и на языке у всех. Это уже мое дело, как вас найти. И я найду.
Иголин хмуро посмотрел на Гальярдова.
– Знаете, сударь, мы все учились в школе.
– При чем тут школа?
Иголин покачал головой:
– Мы все читали разную литературу и знаем, чем заканчиваются подобные сделки.
– Другими словами, – тонко-ехидно произнес Гальярдов, – вы отказываетесь. Вы априори уверены, что в моем предложении есть подвох, искус и боитесь не устоять перед ним? А не будь искуса, не было бы и Фауста. Вы заранее отказываетесь, быть может, от испытания, пробного камня, быть может, ниспосланного?
– Нет, я просто не хочу ловить рыбу в мутной воде.
Зверюк засопел:
– Ты что? Какая же мутная? Когда чистоган?!
– Вот ты и бери свой чистоган. А я умываю руки.
– Что ж, – захлопнул бумажник Гальярдов. – Нет так нет. Мое предложение в силе, если его принимают все.
– Коля…
Иголин посмотрел исподлобья, убрал его руку:
– Ладно, пусть по-вашему…
Гальярдов растянул губы в довольной улыбке, кивнув своим мыслям, отсчитал каждому по десять крупнокалиберных зеленых купюр, изящно поклонился и сказал:
– До встречи в будущем.
– Как? – удивился Лукоморский. – Ни расписки не берете, ни договора не составляете?
– А зачем? Наш договор уже составлен и подписан там. – Он показал пальцем вверх и галантно раскланялся.
Луна склонила голову набок и смотрела на землю как бы вздыхая.
Гальярдов подошел к щегольскому особняку неподалеку от Трехпрудного с новенькими поблескивающими на двери инзнаками.
Невидимая тучка внезапно заволокла луну, и стало до того темно, что нельзя было увидеть, как бесшумно исчез за этой дверью Гальярдов.
На следующее утро Лукоморский встал, когда весь дом еще спал. Оделся по-дорожному, положил ближе к телу вчерашние деньги, сунул в карман потрепанную книжонку и поехал на вокзал.
Скоро пассажирский поезд уносил его в один из городков средне-русской полосы, где жили его родители и Коля.
Дома, не говоря ни слова, он положил на стол перед отцом деньги. Мать подошла, увидела и ахнула, заголосила тонко «сы-ыночек!». Отец тут же начал хлопоты по устройству и перевозке Коли на операцию в Москву. Они отняли две недели. Уже когда Коля был определен в больницу, отец сказал у входа в метро:
– Я не спросил, а деньги-то откуда?
– Картину продал, – ответил Лукоморский.
– Слава богу, – с облегчением вздохнул отец. – А я боялся, что левые. Но за Кольку-то больней… и пусть их, хоть и левые. А теперь… это хорошо, что картину продал. Не зря все-таки худ-училище… все не зря…
Лукоморский сидел в своих «хоромах» с камином (то есть камином он был при царе Горохе, а сейчас только памятником камину) и мазал какой-то простенький, ни к чему не обязывающий, так, чтобы руку размять, пейзажик. Радио передавало сводку ужасов, творившихся по стране, но к ним привыкли и не обращали внимания, пока они не касались непосредственно вас, то есть пока не стукнули лично вас кирпичом по голове. Лукоморский помурлыкивал песенку в тон закипавшему электрочайнику. Сейчас он насыплет заварки прямо в стаканы, зальет кипятком, позовет кого-нибудь для компании, и они будут чай пить. Кольку оперируют, сахар – три куска – есть, – чего еще надо?
Дверь за его спиной распахнулась, ударив об стену и обрушивая штукатурную труху на пол. В «хоромы» ввалился отец. Серое, набрякшее лицо.
– Нет Кольки, – сказал он отчетливо, громко, металлическим голосом.
– Как нет?! – встал Лукоморский, сваливая мольберт, картинку, стул.
– Во время операции кончилось действие наркоза, и он умер от болевого шока.
– То есть… почему кончилось?!
– Дали правильную дозу, как всем. Но у него такой случай, что надо было больше. А больше нельзя. Сердце бы встало. Хоть так, хоть так встало бы.
Отец рухнул на пол.
Густо засвистел чайник – кипяток был готов.
Уже несколько месяцев Зверюк запирался в своей лаборатории и никого к себе не пускал. Приходили старые приятели с девушками, с вином покутить, как раньше, но он либо сидел молча, не подавая виду, что дома, либо высовывался из-за двери, непотребно ругался и прогонял побеспокоивших. На внутренних чаепитиях между художниками или бабульками он тоже не показывался. Он сильно одичал, оброс, опустился. Целыми днями пересматривал и перекладывал свои обманки. Он хотел понять, какая же из них самая лучшая. А если бы Гальярдов явился сегодня, сейчас, и потребовал с художника «американку»? Это же все равно, что заспорить «на американку», на желание выигравшего спор. Желание может быть любым, и счет предъявлен в любой момент. Особенно не рекомендуются «американки» девицам с парнями, да и между особ одного пола могут возникнуть весьма щекотливые ситуации. А если ваш приятель тайно влюблен в вашу жену и запросит «на американку» жену? Что же вам потом, его сына всю жизнь кормить? И Зверюку, как это ему лучшую картину отдать? Вот на этой букет васильков изображен, забытый на деревянной скамье. Таких васильков больше нигде нет! Значит, эти васильки самые лучшие, самые свежие, точь-в-точь живые! Значит, эта картина – самая лучшая. А на этой вот полотенце на гвозде висит. Так какое полотенце! Да такого полотенца днем с огнем не сыщешь! Самое лучшее в мире полотенце.
Зверюк и работать стал меньше. Какой смысл рисковать? Любая из этих картин уже продана. Эта, эта или, может, эта. Все понятно, когда делаешь вещь на заказ к установленному сроку на определенную тему. А это что же? Леонардо да Винчи продал свою Мону Лизу, с которой он не расставался ни при каких переездах, да еще заранее, до того, как она возникла в его голове? И на что ей теперь возникать, коли она уже продана?!
И Зверюк высовывался из лаборатории, крыл по-черному бедняг, которые по старой памяти забредали к нему посидеть и отвести душу. Но скоро пошла слава, что Зверюк озверел бесповоротно, и никто больше к нему не стучал.
Иголин, когда получил деньги от Гальярдова, сунул их в какую-то старую коробку, которых полно в реквизите всякого художника, и забыл о них. Работал он по-прежнему много, но ничего не продавал. Он понимал: чтобы выбрать лучшую из картин, надо увидеть все. А если хоть одна ушла на сторону, где гарантия, что она-то и не была лучшей? А если она была лучшей, то, значит, Иголин обманул человека. Пусть ему этот человек не понравился. Но дело уже не в нем, а в Иголине. Он договорился, пообещал и не может не соблюсти условий договора. Потому что зло тогда падет на того, кто обманул, а не на того, кого обманули. Тот тогда – невинно пострадавший, чист, как голубь, а он, Иголин, – обманщик и в слове преступник. И он исправно складывал, скапливал свои картины. Ему предлагали участие в выставках. Но всякая выставка подразумевает продажу, а как он может что-либо продать? Не может. Иголин отказывался от интересных предложений, и предложения перестали поступать. Об Иголине стали медленно забывать.
После того, как у семьи Лукоморских не набралось денег на похороны Коли (те-то, гальярдовские, были заранее заплачены за операцию) и его отпели в гробу, взятом напрокат, а затем свалили в общую, братскую яму (это и здесь русская соборность? Или это хирамово равенство и братство?), все пошло вверх дном. Отец слег, мать поседела и за день превратилась в старуху. Лукоморский понял, что виноваты деньги. Нечистые эти деньги. Так бы сидел Коля у окошка, пусть ходить не мог, зато мог ложки делать, учился их расписывать, и мать его вышивке обучала. Мог бы скатерти вышивать, сорочки. Конечно, не мужское это дело. А в могиле разве лучше? Проклятые деньги! Сам Гальярдов – франт-белоручка, а деньги у него нечистые и нечестные. И почему Лукоморский должен отдавать ему лучшую картину? Он уже расквитался с господином на букву «г» своим единственным братом. Лучшая картина – тоже единственная. Хотя этих «единственных» может быть целая коллекция. А как знать, появись тот тип – обернет дело так, что единственной картиной и окажется целая коллекция, он и потребует ее всю. Эти господа – ловкачи переворачивать все с ног на голову в свою пользу. Явился чистенький, образцовенький, а деньги – пахнут. Оборотень в костюме! Как же Лукоморский сразу не раскусил его? Ведь с самого первого момента тяготился присутствием Гальярдова. Будто ткнулось ему в душу круглое рыло, и сопело, и нюхало. Неприятно было. Но это по ощущению. А по уму выходило все правильно, прилично – благовоспитанный господин в хорошем галстуке, с хорошим предложением. Неужели для того, чтобы верить собственному ощущению, предчувствию, своему иррациональному разуму – интуиции, дающей сигнал вопреки тому, что глаза твои видят, а уши слышат, неужели для этого нужно отправить любимого брата в братскую могилу? Отцу лишиться дорогого сына? А про мать даже подумать страшно. И во всем виноват он, Лукоморский, – никто же его не заставлял вести к себе Гальярдова, идти на его условия. Сам пошел. Ясно, хотелось помочь брату. Но, видно, нечистыми деньгами да сомнительными средствами никому не поможешь, хуже сделаешь.
Почему же этому оборотню Лукоморский должен отдавать еще и лучшую картину? Все – не все, а лучшие, они кровью сердца и духом пишутся. Не отдаст он ему вообще ничего. Даже самая поганая – слишком много чести. Не захотел пейзаж с котом, как человек – кукиш с маком получит!
Лукоморский нашел на окраине города заброшенный барак, принадлежавший одной из бесчисленно закрывающихся фабрик, привел его в порядок, вычистил, законопатил окна, повкручивал лампочки, повесил на дверь новый добротный замок и стал потихоньку перевозить туда картины. Теперь это будет его тайник. Здесь он будет хранить свое основное наследие. А в мастерской оставит так, трех калек для отвода глаз. Прошу вас, дескать, господин Гальярдов, выбирайте, что вам больше по вкусу. На клык даже можете попробовать. Правда, барак ограбить могут. Ну и пусть грабят. Фараоновские гробницы и те грабили, да не только ночные грабители, но и музейные. Пусть лучше ограбят – туда им дорога! – чем оборотню в ручки его, рыхло-лилейные, отдавать!
Потом Лукоморского охватывали сомнения: может, зря он так взъелся на Гальярдова? Может, тот из лучших побуждений (хотя какие же лучшие, когда за этим кроется корысть приобрести при учете инфляции по дешевке в будущем «икс» лучший шедевр зрелого мастера) предложил свои условия? Да и не слишком ли много чести из какого-то ничтожества в удавке в виде галстука делать самого Князя мира его? Но вся соль и боль как раз в том, что дьявол поселяется в людей и делает свое дело. Маленьких дел у дьявола нет. У него есть одно дело. Оно разбито на бесчисленное количество долей, клеток, составных частей. Лукоморский понял это до боли, до ослепления неким светом, в коем безмятежно-бесстрастно предстала ему непорочная Мать с Младенцем; слащавый змий с физиономией Гальярдова в очках полз к ней и швырял комьями зловонной, болотистой грязи; грязь, как только касалась ее непорочного одеяния, обращалась белым, искрящимся снегом и летела, летела, пока не покрывала собой все вокруг, в том числе отвратительного ящеричного гада.
Лукоморский закрылся в своих хоромах, не ел день и начал писать новую картину именно с физиономии Гальярдова.
К Иголину нельзя было втиснуться без труда и без риска обрушить на себя картины. Никто на это и не решался, за исключением его самого. Он маневрировал между ними, как тень, или ложился спать на тюфяк на полу. С него он уже не вставал третий день. Он был истощен от голода. Вспоминал стишки приятеля о зеленом горошке и куриной ножке. Когда едал в последний раз куриную ножку, он не помнил. А ведь мог бы каждый день есть, если бы продавал картины. Но как же он себе может позволить? Картин полно, а продать не смей. Проданы. А деньги же где?
И тут Иголин вспомнил, что ему была дана за них очень даже внушительная сумма. Он начал двигать картины, выволакивать в коридор, чтобы найти, куда он ее запрятал. Переворотил все, перетряс все тряпки, книжки, ящики, обшарил все углы. А вдруг это ему приснилось и не было никаких денег? Тогда не было и никакого договора! И он может участвовать в выставках!
Иголин воспрянул, поднял голову и вдруг заметил в углу маленькую черную коробочку. Открыл, а там лежат зелененькие.
Иголин пал духом. Значит, никаких выставок, никаких продаж, долой процесс, которым живет художник. Конечно, можно сейчас налопаться на эти деньги, а что потом? Опять консервировать картины? Или избавиться от этих денег? Из-за них он дошел до ручки, да и Кольке Лукоморскому они не помогли, и со Зверюком творится неладное. Надо избавиться от них и зажить нормальной жизнью.
Иголин накинул куртку и пошел по легкому, таящему под ногами снегу в храм Николая Чудотворца, что за бывшей Ленинской библиотекой. Храм недавно открылся после стольких лет поругания, когда даже верхний земляной слой, пропитанный благолепием, был срыт и вывезен большевиками. А ныне храм нуждался во всяком уходе и пособии. У ворот, во дворе и у крыльца сидели-стояли вечные нищие, оборванные, костлявые, убогие. Иголин втянул голову в плечи и быстро, не глядя, пошел мимо них – подавать было нечем. Какая-то девица с ребенком у ног уцепилась ему за руку и что-то невнятно забормотала – подай, мол, мил человек. Иголин вырвал руку и вошел в храм. Дохнуло теплом от человеческого дыхания, и резко ощутилось, как холодно было на улице. Иголин перекрестился и встал в стороне послушать, как пел церковный хор, – пусть малыми силами, человек в пять, а с какой мощью!
Две женщины с медными блюдами двинулись меж прихожан собирать пожертвования. Иголин положил на блюдо свернутые в трубочку банкноты – все до единой, как Гальярдов давал, перекрестился и отвесил на выдохе поясной поклон ближайшей иконе. Повернулся и пошел из церкви. Вдруг раздался истошный женский крик – девица, которую он прежде заметил с ребенком, схватила с блюда эту злосчастную трубочку и побежала к выходу. Но ей подставили ножку коллеги-попрошайки, она полетела со всего роста, и попрошайки тут же на нее насели, отнимая деньги. Каким-то чудом она вырвалась и выбежала во двор. Но далеко ей уйти не удалось – попрошайки, причем по ходу их рой умножался, – настигли ее и повалили на снег. Она отчаянно отбивалась, но силы были не равны. Схватка длилась одну или две минуты; попрошаек как ветром сдуло, а девица осталась лежать на снегу в темной лужице крови (вероятно, из носа) и с вывороченными наизнанку, покрасневшими кистями рук. Только сейчас Иголин услышал дикий, перепуганный детский плач.
«Жива ли?» – подумал он.
Вокруг нее собирался народ.
Кто-то из мужиков стащил с головы шапку, за ним другой, третий, женщины начали креститься.
Иголин почувствовал, как вместе с детским плачем ему под куртку пробирается мороз, как у него костенеют и скрючиваются пальцы. Он подошел к пацаненку.
– Ты чей? Где живешь? Кто твой папа?
– Нет… нет… нет… – бормотал сквозь крик мальчишка.
– А это твоя мамка?
– Мамка-а! – орал он.
Иголин взял его на руки, прижал к себе, отчего к нему пошло тепло мальчонки, а к мальчонке, судя по тому, что он затих и только шумно всхлипывал, – тепло Иголина. Он припал к головке мальчика одним ухом, погрелся, затем другим, погрелся, и так не заметил, как добежал до Трехпрудного переулка.
Здесь он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь в комнату многодетной семьи.
– Пускай у вас побудет, – сказал он матери семейства, смотревшей на него без удивления, без единого слова. – Это мой пацанчик. Вы его чаем, сладким, или ну, хоть кипятком с сахаром. А я – мигом, мигом!
Ребятишки обступили мальчугана со всех сторон.
– Тебя как зовут?
– Богдан, – сказал он и заплакал.
– Ишь, пошли отсюда, – шумнула на свою ребятню мать. – Чего пристали все на одного?
Она достала из стола сухарь и дала мальчику.
Иголин забежал в свою мастерскую, натянул поверх куртки старую фуфайку, взял под мышку пару картин и выбежал на улицу.
Лукоморский работал всю ночь и весь день. Он не испытывал ни усталости, ни голода. Наоборот, подтянулся, к нему пришли легкость и сила, дававшие спокойствие и ясность, которые доходили до грани с буйной, неудержимой радостью и на ней останавливались. Как он мог иногда сомневаться в себе? Вот сейчас все идет так просто и полно! Разве это может быть отнято?