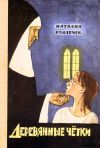Текст книги "Четки фортуны"

Автор книги: Маргарита Сосницкая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
И когда последний удар кисти лег на одеяние Непорочной Матери, Лукоморский возбужденно ходил из угла в угол – ему не терпелось работать еще, еще в пальцах кипела сила и страсть, но ничего более не казалось ему на высоте написанной картины, а там ничего нельзя было прибавить или отнять – она была совершенна.
Вдруг в спокойствие Лукоморского вкрапилась черная точка и начала расти, как «шагреневая кожа» наоборот. Он не мог понять, в чем дело, что это такое, тер виски, а «кожа» росла, росла, затягивала собой ясность и уверенность в себе. И пока не увидел на картине змия с чертами Гальярдова, он не вспомнил о своем залоге. Он испугался: а что если Гальярдов сейчас, сей момент постучит ему в дверь и скажет: «Должок»? Он же знаток, он сразу эту запросит. И Лукоморский должен будет отдать.
Он поспешно оделся, завернул картину в коричневую почтовую бумагу и вышел на улицу.
Иголин прикидывал в уме, куда ему разумней поехать, чтобы поскорей сбыть картины, – в Измайловский, на Крымскую или на Арбат. Но там везде плотный рынок, десятки таких же художников, как и он, стоят, тоскливо высматривая покупателя. Там можно потерять день и найти тень. Не лучше ли встать в любой точке города – он весь превратился в базар, – может, так получится быстрее? Иголин попытался пристроиться около «Интуриста», но его оттуда через пять минут, мягко говоря, попросили – хорошо, что еще не отвезли куда надо и картин не отобрали. Он вернулся на Пушкинскую, где в основном торговали колбасой, и встал в ряд с бабульками, держа одну картину на руках, другую – прислонив к своим же коленям. Многие останавливались, молча рассматривали картины, или живо их обсуждали, или бросали какую-нибудь умную, на их взгляд, реплику, или спрашивали даже о цене, но покупать никто не покупал – людям надо было подумать о колбасе. Иголину это начало надоедать, да и небо стало заволакиваться – того и жди пойдет с него какая-нибудь мокрота: то ли дождь, то ли снег, то ли дождь со снегом. Он взял картины под мышки, отошел на пару-тройку шагов и встал в нерешительности, что же дальше делать, – как вдруг увидел полную женщину, высунувшуюся из окошка ларька и махавшую ему рукой. Иголин огляделся – точно ли ему? Никого не увидев рядом, он посмотрел на женщину и ткнул себя пальцем в грудь: меня?
– Тебя, тебя! – закивала та головой. Иголин подошел к ней. – Скок просишь за вещь, сахарный? – спросила она, улыбаясь.
– А скок даете?
– Э-э, народ, народ! Кто ж так торгуется? Ты мне цену заломи раза в три, я половину собью, на том и сговоримся – и ты доволен, и я довольна, потому как оба друг друга объегорили и каждый себя умником считает. Эх!
– Вы что, предлагаете мне вас объегоривать?
– Меня, мой сахарный, не объегоришь. Но в твоих вещах я толку не знаю, что ни назови, хоть тыщу, хоть миллион, мне – темный лес. Но я тебе так скажу: наторговала я сегодня не больно, могу дать натурой, да ты не шарахайся. Сахару дам – два кила, чаю – «три слона» – две пачки, колбасы – каталку, рыбы копченой – два кила, соков импортных – два литра… Э-э, чем еще я тут богата, зефира – пачку, но он залежалый, чтоб без обиды потом, какой есть, ну и всякой этой дряни в консервных банках – не по-русски написано – бери скок хошь, хоть десять банок. А мне твой товар давай, я ток квартиру обновила, мне в самый раз в спальню станет замест иконы-то.
Иголину понравилось, что его картину на одну ступеньку с иконой поставили.
– Считайте, что дело сделано. Только картину вам отдам одну.
– Ишь, какой прыткий. Тут же сообразил, как торговаться. Тогда и консервных банок тебе не десять, а пять.
Иголин засмеялся:
– Ну, ради того, чтоб вам умней меня быть, я готов. Но «трех слонов» дайте три, чифирик люблю.
– А-а, все вы – алкоголики, – ворчала женщина, накладывая ему полиэтиленовую сумку добра, которую он притащил в многодетную семью.
Хозяйка сразу оживилась, засуетилась с чайником, стала расчищать место на столе.
– Славный у вас парнишка. Вон играет с моими, такой же сопляк, а сначала подрались. Но не без того, сами знаете.
– Вот я и говорю, – начал подъезжать Иголин, – может, он бы пожил пока у вас? Мамаша его, молодая совсем, приказала долго жить, Царствие Небесное. Я бы вам каждый день по сумке харчей носил, а сам тем временем определился бы. Комнатуху где-то снял бы, а то ведь в мастерской с ребенком никак: краски, растворители – это все вредная химия. А потом бы, через месячишко, я бы его и забрал.
– Пускай, пускай поживет, сиротка. Пускай с моими шалопаями повозится. Я сама разницы не замечу – хоть их семеро, хоть восьмеро.
Иголин расчувствовался и подарил матери семейства картину, которую не отдал торговке.
Резко потеплело, снег на асфальте превратился в черную воду, стал накрапывать дождь. Лукоморский поднял воротник пиджака, втянул голову в плечи и шел мелкой рысью по пустынной улице. Темнело. Вдруг неизвестно откуда раздался короткий, почти игрушечный выстрел, Лукоморский замер, удивленно посмотрел вокруг и упал лицом вниз; картина с Непорочною Матерью в белейшем одеянии с Младенцем на руках легла ему под живот.
Дождь усилился, быстро надвинулась ночь.
Под утро Лукоморского нашел дворник. Картина его промокла от дождя и крови. Вскрытие показало, что смерть наступила от геморрагии.
Кто и откуда стрелял, установить не удалось.
Иголин отдавал свои картины за бесценок. Он прекрасно понимал, что, если бы ему выставиться в престижных галереях, куда ходит публика, озабоченная судьбой капиталов, он бы получал баснословные суммы. Но после случая с Гальярдовым, после смерти братьев Лукоморских, он не просто презирал деньги, но даже их опасался. Да и времени у него не было – это ж пока раскрутишься с галереями, у них у всех на год вперед все расписано. А ему, Иголину, сейчас надо снять жилье, принести детворе сумку еды и побыстрей забрать мальчика, дать ему приют, отправить в детсад, потом в школу. Нужно, чтобы у ребенка было нормальное детство.
Иголин ходил в храм, где побиралась мать мальчика, спрашивал у людей, у нищих, с самим батюшкой говорил, не известен ли отец ребенка, осталась ли какая родня, и узнал, что мать его была детдомовской, да и не москвичкой, а отец не только не известен, но и никогда не был известен. Это, конечно, печально, но Иголин обрадовался – теперь он будет ребенку отцом. Вырастит его, может, своему делу обучит, в люди выведет. А ему за это сделка с Гальярдовым расторгнется. Он-то и пошел на нее ради Кольки Лукоморского, но есть такие случаи и такие люди, с которыми даже из самых благих намерений нельзя связываться. Благие намерения в этих случаях – близоруки, а при дальнозоркости – одни беды от них да ловушки.
Иголин вспомнил о всяких бюрократических рогатках при усыновлении ребенка, но, главное, стать ему на деле отцом. А сейчас времена такие, что никто и носа совать не будет: растет себе парень и растет. А с метрикой он что-нибудь придумает.
Иголин скоро нашел две комнаты с кухней и садом, туалет во дворе. Не в самой Москве, конечно (в Москве за эти деньги тюфяк с клопами сдадут), а за городом. Но зачем ребенку Москва? Ему нужен свежий воздух, чтобы расти сильным и здоровым, а уж Иголин как-нибудь поразрывается на две части – будет мотаться при нужде по делам в этот многолюдный, многогрешный город, и ребенка прокормит и кров ему со временем стабильный создаст. Он вдруг понял, что не он ребенка спасает, а ребенок – его, потому что помогает увидеть радость в простых вещах, оценить святость очага и толкает к созданию оного. А то что же он на высших материях совсем зашился! Ведь Бог пустил человека не в облака, а на землю, значит, землю со всем земным и надо любить!
Дверь «лаборатории» Зверюка открылась от удара ногой, и на пороге появился Зверюк. Если бы кто-то из старых приятелей посмотрел в эту минуту на его обросшее, неумытое лицо, он сейчас же бы прочитал на нем, что Зверюку необходимо напиться, а значит – он обязательно напьется.
Путь Зверюка лежал в кабак.
Но в какой кабак пустят человека в таком виде? Его отовсюду будут гнать в шею, и, какие бы золотые горы он ни сулил, веры ему не будет. Дело кончилось тем, что, когда уже совсем стемнело, Зверюк подвалил к ларьку спиртных напитков, торгующему днем и ночью, и купил бутылку «Роялю». Он расплатился крупной купюрой из гальярдовских денег. Доставая ее, он вынимал из кармана и всю сумму, что было не упущено из виду владельцами ларька – лицами кавказской национальности. Они тяжело переглянулись между собой, и один из них, нахлобучив на глаза кепку, выскользнул из ларька. Он пошел за Зверюком, прекрасно помещаясь в пределах его громадной бесформенной тени.
Зверюк свинтил пробку со спирта и запрокинул в рот на ходу. У него появилась мысль завалить к кому-нибудь из приятелей и угостить, но приятели жили не рядом, до них надо было ехать, а таких ларьков, как тот, в котором он только что отоварился, было по Москве как грибов после дождя, и он решил следующий «Рояль» взять около их дома. Но планам этим не суждено было осуществиться.
Как только Зверюк вышел из полосы тротуаров, освещаемых фонарями, и все вокруг него стало сплошной тенью, к нему приблизился субъект в кепке и вдвинул ему под ребро раскладной нож. Зверюк схватился за рану, а субъект, знавший, в каком кармане лежит сдача с «Рояля» и вся зверюковская касса, вытащил ее и исчез в темноте.
Зверюк не умер. Он дотащился до телефонной будки и смог вызвать «скорую помощь». Его отвезли в медпункт, перевязали, дали наставления, как лечиться дальше, и отпустили на все четыре стороны. Рана в боку вызывала крайне неприятное ощущение: вроде там лежал посторонний твердый предмет, который шевелился при каждом движении.
«Подохнуть, – решил Зверюк, – так и подохнуть можно, – и тут же испугался. – А что будет с картинами?! Кому они достанутся? Растащат, разворуют, пропадет коллекция! А это – капитал! Я бы уже всю жизнь мог жить, торгуя копиями с тех работ, которые написаны и делая с них каталоги, календари, открытки! А это – слава! Это – деньги!»
Он вдруг вспомнил о сделке с Гальярдовым, и в боку заболело еще сильней. Вот что он получил с его денег – дырку в бок. И за дырку надо отдать свое сокровище! Так-то вот, белиберда – а выходит не белиберда, все правильно.
Зверюк согнулся и еле волочился, боль в боку разгоралась, он держался за рану обеими руками и не слышал, как стонал. Он злобно ругался, что его выставили из больницы подыхать на все четыре стороны – вот как ценится жизнь русского художника! Он увидел на руках своих кровь и подумал, что такой краской он еще никогда не работал. А было бы любопытно, это, может, и стало бы его лучшей картиной, а ее бы забрал, отобрал, унес Гальярдов, чтобы запереть в стальной сейф на каком-нибудь банковском острове, замуровать заживо, и ни один человек не увидел бы ее.
Зверюк добрался до дома на Трехпрудном едва не на четвереньках; перед глазами бесконечно падал тяжелый камень, от которого, как по воде, расходились черно-фиолетовые круги.
«А если умру? – с любопытством подумал он и тут же опять испугался. – А картина, картина-то пойдет кому? И какая? Известно! Любая, они все у меня самые лучшие! Не бывать, однако, тому!»
Он задыхаясь поднялся в свое помещение, достал бутылку с керосином, которым мыл кисточки, и разбрызгал повсюду. Зажег спичку, смотрел на нее, пока она не догорела до пальцев, и кинул ее, когда обжегся. Холсты горят, как солома. Зверюк оставался среди них до последнего, пока не начало гореть со всех сторон и кто-то уже не вызвал пожарную машину. Закрываясь от огня локтями, он выбрался на улицу, сел на тротуар и следил за пожарищем. На тротуар уже высыпали бабульки-одиночки, их кошки, многодетная семья; мамаша семейства тащила какой-то тюк – как знать, что теперь сгодится погорельцам?
Иголин, возвращавшийся домой, еще издалека почуял запах дыма и прибавил шагу. Из окна второго этажа послышался детский крик, мамаша уронила тюк и схватилась руками за голову: «Дитё забыли!» – завопила она. Иголин прежде, чем успел что-то понять или подумать, бросился в подъезд, из которого валил дым. Он прорывался по лестнице сквозь языки пламени, наскакивающие как бешеные собаки, не замечая того, что они отрезают ему дорогу обратно. Сквозь треск и грохот огня он услышал пожарную сирену и подумал: как хорошо, что успел продать часть картин, а часть переправить в новое жилище. Он вбежал в угловую комнату, где захлебывался от крика и дыма ребенок, схватил его на руки, хотел кинуться назад, но это было невозможно. Он бросился к окну и увидел, как к нему прислонялась пожарная лестница. Прижав ребенка левой рукой, правой Иголин перекрестился, переправил ребенка на спину и ступил на первую ступеньку.
Он слез вниз, вздохнул, поставил на землю ребенка, провел рукой по лицу и тут только увидел, что это был Богдан. Он схватил мальчика и рывком прижал к груди.
Зверюк сидел на тротуаре, подобрав под себя ноги таким образом, что казался безногим инвалидом на доске. Он держался за раненый бок и безумно хохотал:
– Ха-ха-ха! Не первый раз Москва горит! Не первый! И не последний!
К нему подошла бабулька-одиночка и плюнула на голову:
– Из-за тебя, нехристя, бомжи теперь, и бомжами помирать.
А мать семейства покачала головой и пошла в телефонную будку вызывать ему «скорую» – благо звонок бесплатный.
Иголин поднял вздрагивающего от всхлипываний Богдана, накрыл полами куртки, застегнул пуговицы – места хватило обоим – и пошел к метро. Богдан – это было единственное добро, с которым он сегодня заселялся в новое жилище из двух комнат с кухней и садом в деревне.
РОМАН «БИТВА РОЗЫ»
(ОТРЫВОК)
Плывущий мир
Чтобы найти места, где скитался Улисс, надо сначала разыскать скорняка, скроившего мешок, в который Эол из любезности к Улиссу зашил ветры, надувавшие его паруса.
Эратосфен, III век до н.э.
1
Когда-то же надо в жизни сесть на манящий корабль и отплыть в далекие страны – не в Константинополь, как из Крыма поручики и корнеты, которым на пятки наступала Красная армия, а просто отплыть, чтобы своими глазами увидеть места, где не однажды побывала душа на легких парусах фантазии и знаний.
Так думал Георгий Дмитриевич Палёв, когда отказывался от денег за участие в предстоящей конференции, а в качестве компенсации за труды выбирал проезд к ее месту на теплоходе, совершающем круизы по Адриатике и Средиземноморью. К месту, фатально лежавшему в сфере влияния Константинополя.
Отец Александр Езерский, делая тот же выбор, рассуждал несколько иначе. Он вполне обоснованно думал, что ни к чему человеку блага земные, портящиеся, бьющиеся, – время стяжать блага духовные, вечные, что в огне не горят и в сбербанках не обесцениваются.
Там, где Венеция, опоясанная кружевными дворцами и легко взлетающими над каналами мостиками, обрывается в море, за мостом Свободы, замер на водах бело-синий теплоход «Эль Сол», ступенчатой пирамидой своих палуб поднимающийся на тридцать метров в небо цвета морской волны. Время от времени теплоход истошно трубил, призывая свое стадо – пассажиров поскорее совершать посадку, ибо ему уже было невтерпеж сняться с якоря и ринуться в открытое море.
Пассажиров по большому счету можно было поделить на две категории: на пенсионеров и семейные пары с детьми от нуля до шестнадцати. Отец Александр, не спешивший подняться на борт, а наблюдающий за посадкой с причала, пожалуй, мог бы сойти за начинающего пенсионера, если бы не размашистая проседь в черной бороде, придающая ему вид бунтаря. В глаза ему бросился высокий русобородый человек в длинном пальто с улыбкой в синих глазах; то, что они синие, очень было заметно из-за теплохода, бело-синего, воды вокруг, тоже густо-синей.
«Ух-ты! – поразился отец Александр. – Прям Андрей Первозванный». И сразу сделалось явным, что вся толпа вокруг – тусклая вещественная масса… а от него свет.
И вот лайнер на крыльях кипящей по флангам пены вышел в открытое море.
Редко где еще можно до такой степени оказаться рядом со стихией, как здесь, на палубе, у ее белых бортовых перил! Водная пустыня простирается до горизонта на все стороны розы ветров. Она светится то зеленью, то лазурью, то бирюзой; по всему горизонту ее венчает небо, обменивается с ней оттенками и всполохами, превращается в единое пространство, в эфирно-водяной космос.
Волны, наталкиваясь на борт, шарахаются обратно, закручивая на поверхности воды белые разводы и прожилки, какие обычно можно видеть на серо-зеленом мраморе, иногда со вставками прозрачно-голубого минерала, тоже с прожилками и туманностями в своих недрах. И вся эта огромная коническая плита пенистого мрамора, в кильватере сопровождающая судно широкой полосой, расходится за кормой, а затем разглаживается далеко в море.
2
Георгий Дмитриевич устраивался в каюте, эдаком большом чемодане из светлого дермантина, переправляя вещи из сумки в шкаф-рундук, бритву, зубную щетку на зеркало в туалете; на столе под иллюминатором, делавшим его соседом рыб и русалок, он устроил алтарь, во край угла которого поставил открытку рублевской Троицы, конвоируемую крестом и свечой в подсвечнике, мимоходом перекрестился: «Путешествующим спутешествуй», и бережно положил перед алтарем увесистую кожаную папку и письменные принадлежности. Взгляд его упал на картину на стене, плакатную репродукцию красного квадрата, перечеркнутого синими и серыми полосами, он поморщился, как от царапанья по стеклу, снял его и засунул в шкаф.
Пусть чемоданом каюта была вместительным, но все-таки это был чемодан, а человек – не сменное белье: ему в чемодане тесно. Палёва стали давить потолки, и он вышел пройтись по палубам, не запирая за собой дверь. А зачем запирать? Неужели в этой сытой толпе кто-то польститься на его скромный скарб? В коридоре навстречу попался темнокожий человек в мундире каютного персонала с бабочкой, улыбнулся улыбкой счастья, будто он ждал всю жизнь этого часа: увидеть здесь Георгия Дмитриевича и с умилением проворковал: «Гуд ивнинг». Георгий Дмитриевич смутился до крайности от такого внимания к своей персоне, улыбнулся такой же улыбкой и ответил тем же блаженным «гуд ивнингом».
По всем четырем палубам, а также по носу и на корме, было разбросано бесформенное, подержанное мясо туриста, не знающего, как скоротать оставшиеся дни. Самыми острыми ощущениями его оставались гастрономические, и в ожидании ужина он массово потягивал пиво, соки, еще какие-то неведомые напитки цвета кровоподтека с апельсиновой долькой, эквилибрирующей на венчике бокала. Бескостные, каучуковые официанты экзотических национальностей в желтых форменных пиджаках и неизменной бабочкой на шее скользили между столиков с подносами, подавая эти напитки. У каждого с лица не сходила улыбка, которою поразил Георгия Дмитриевича человек в коридоре.
Отец Александр открыл свой чемодан, где поверх всякой одежды лежали образки Троицы, Богоматери Тихвинской и Николы Угодника. Он бережно расставил их в правом углу стола под иллюминатором, возжег ладану, обкурил всю каюту, шкаф, ящики стола, туалет, быстро проговорил молитву на вхождение в новый дом, и только тогда разобрал чемодан. Картину, эпизод «Герники», снял со стены, вспомнив, что как раз испанские фашисты пытали людей, запирая их в «шкатулки», расписанные изнутри шедеврами абстракционизма, и затолкал ее ниц под кровать.
На ужин в ресторане «Коралловое кружево» – все палубы и салоны имели причудливые названия: «Кюрасао», «Тихоокеанский», «Азур» – подавали столько всякой невиданной всячины: медальоны, застеклившие в желатине креветки, гавайский салат из латука и ананасов, утятину в апельсиновом соусе, рыбу «на карете» из авокадо, суп из морских насекомых, а потом еще сладкое в виде всевозможных пирожных, мороженое в шоколадном соусе и кофе. Отец Александр, одиноко сидевший за столом, хотя стол был сервирован на двоих, не устоял и не столько съел, сколько всего попробовал – да не от голода, а из любопытства. Правда, пирожные, в некотором смысле никакие не пирожные, а лишь четверть пирожного в нашем смысле, благословясь, он съел все, тайный сластена отец Александр, вазочку мороженого тоже тщательно выгреб ложечкой и от кофе не отказался. Как отказываться, если его преподносят в нарядной чашке, да еще и кланяются: выпей, дружок. Отказываться – гордыня. Да вот странно, его безвестный сосед вовсе неучтиво уклонился от всей этой манны небесной – не изволил засвидетельствовать почтения. Ну, да ничего, голод не тетка – изволит.
Отец Александр встал из-за стола, и тут его шатнуло так, что не будь рядом какого-то малайца, ловко поймавшего его за локоть, он точно упал бы на пол. Море занервничало. Волна ударяла белою дикой лапой в окна третьей палубы, а именно здесь располагалось «Коралловое кружево». Проходящих по коридору швыряло от стенки к стенке. Навстречу отцу Александру попались подростки с розовыми волосами, «Не галлюцинации ли начались после гавайского-то салату с кофием?» – испугался он, но розовогривых тоже кидало нещадно, и он успокоился: не галлюцинации. Болтанка, кажется, забралась вовнутрь, стала толкать что-то от стенки к стенке желудка, и он поспешил в свою каюту.
3
В салоне «Азур» на второй палубе начинался вечерний сеанс варьете. Публика уже сидела в креслах и вышколенные перуанцы, впрочем, не исключено, что филиппинцы подносили напитки на заказ.
Георгий Дмитриевич вошел в салон, придерживаясь за стенку, но этой предосторожности не хватило, следующий удар волны о борт усадил его в кресло, полумрак в салоне померк, вспыхнула сцена, распахнулись синие, в золотых созвездиях кулисы.
После оглушительного рокота оркестра и приветственного предисловия ведущего, прозвучавшего на пяти языках без точек и запятых, на сцену выпорхнули кордебалетные девочки. Их пестрота ошеломила, у самых глаз замелькали яркие юбки, оборки, перья, голые ноги. «Как же их не заносит при такой качке?!» – дивился Георгий Дмитриевич, а с ним и половина зала. В этом аврале кордебалетные бабочки все были на одно лицо. Они упорхнули, свет умерился, и на сцене появилась певица. Довольно сильным, выразительным голосом она запела по-английски. Ничего, что английская музыка в наши дни не знает мелодии, как не знает рифмы итальянская поэзия. Певице не больше двадцати пяти, ее почти стройная, если бы не легкая сутулость, фигура была задрапирована в кусок черной блестящей ткани, волосы неподвижно лежали на плечах, а глаза либо смотрели в пол, либо закатывались к небу. На публике не задерживались. Это поразило Георгия Дмитриевича.
Певица под аплодисменты бежала за кулисы, а оттуда снова высыпал кордебалет, уже в коротких фраках, цилиндрах, чулках сеточкой и полусапожках; глаза привыкли к мельканию, и танцующих можно было разглядеть лучше. Из всех четверых Георгий Дмитриевич оставил бы одну. Она двигалась легко, со вкусом и чувством. Остальные делали физзарядку в ритме оглушительной музыки. У одной к лицу прилипла улыбка неестественного счастья, будто над ним поработал скальпель компрачикосов (смотрите Виктора Гюго), другая не запоминалась ровно ничем, а третья была так побита жизнью, что не составляло труда представить, чего ей стоил этот ангажемент, наверняка последний.
Потом играл оркестр, выходил иллюзионист, взявший себе ассистента из зрителей, опять мелькал кордебалет, пела певица. Об окончании этой клубно-ресторанной самодеятельности снова на пяти языках, с невероятным апломбом объявил ведущий, представив публике оркестр:
– Мища! Игор! Натаща!
Танцовщиц:
– Катья! (Ту, что Г.Д. оставил бы), Звэта! (Компрачикосная), Татиана, Звэтлана! (Ветеранка).
Каждая из них покружилась и сделала поклон. И последней вызвали певицу:
– Елена!
Она под барабанную дробь поспешила на край сцены и присела на одно колено.
Георгий Дмитриевич чуть не упал со стула, и не только потому, что шалила волна: «Ба! Да они русские! Как же я сразу не сообразил? Значит, я на этой скорлупе не один…» И он, не медля, отправился бы к музыкантам знакомиться, да ведущий объявил, что ночной сеанс шоу повторится через час. «Куда ж соваться? Людям надо работать».
Во время ночного сеанса Георгий Дмитриевич уже спал, укачанный колыбельной Нептуна.
4
Завтрак и обед подавали шведским столом в носовом отсеке салона «Азур» под названием «буфет», выходящего как на открытую палубу, так и в сам салон. Набрав на поднос булок и кофе, Георгий Дмитриевич вышел на палубу. Море светилось нежно-невинной синевой, будто не имело ничего общего с тем ночным буяном, швырявшим корабль как щепку; Георгий Дмитриевич улыбнулся морю и узнал за столиком девушку из кордебалета в простом спортивном костюме, – как раз ту, которую он оставил бы, – кажется, Катерину, и подошел к ней:
– Разрешите… рядом с вами?
Катя подняла лицо, совсем не такое бесшабашное, каким оно смотрелось со сцены, с легкой сыпью на щеке:
– Русский турист? На борту?
– А что – редкая птица? – Георгий Дмитриевич поставил поднос на стол и придвинул стул.
– Турист – да. За все время была одна пара.
– А так, не туристов, русских много? – он сел.
– Нет, руководитель оркестра из Москвы, еще скрипач и пианистка русские, но они из Эстонии.
– А вы? – но тут Георгий Дмитриевич догнал, что Катя говорит распевно, мягко, и опередил ответ. – Вы с Украины.
Катя засмеялась:
– Это понимаете вы. Для здешней публики, – она кивнула на азиатского мальчика, забравшего пустые тарелки, – мы все – русские.
– А разве не так?
– По этой части вам лучше с нашей певицей пообщаться. У нее на этот счет целая система…
Я у нее – польская украинка: я ж из-под Львова. Две наши Светы – это молдавские украинки, они из Новосильцева, это другой рубеж, с Молдавией, а сама она – русская украинка… она ж то ли из Донецка, то ли из Луганска, – Катя встала. – Еще есть русские в дути шопе , но они латышки. Ну, мне пора. Увидимся еще, – и торопливо ушла.
Георгий Дмитриевич привстал, раскланялся и сел на место совсем озадаченный: вот тебе и на… постимперские разборки… А если подумать, оно так и есть… Украина – это сумма окраин всех граничащих с ней государств. Плюс русины. Оттого там и разброд такой, и никакой самостоятельности… Все они там – порубежники, только и глядят, с какого боку лучше. Лебедь, рак и щука… каждый тянет территорию в свою сторону. Интересно, а украинские украинцы – это ж кто?
В тот вечер отца Александра не выманили бы на ужин никакими калачами. Георгий Дмитриевич трапезничал в одиночестве, задаваясь вопросом, кто же тот таинственный незнакомец, кого безнадежно поджидают пустые тарелки, прибор, салфетка?
5
На следующее утро его разбудила радиорубка:
– Проплываем Итаку. Слева по курсу Итака, остров легендарного Одиссея…
Георгий Дмитриевич, поспешно облачившись в пальто поверх пижамы, в тапочках выбежал из каюты и – пулей по лестнице, через две ступеньки, устремился на открытую палубу. Не дай бог, опоздает, пропустит этот воспетый клочок земли, обетованной, потому как родной, куда Одиссей, сверхчеловек античности, плыл через сто морей, сто преград.
– Этот самый крохотный из Ионических островов, – вещала металлическая радиорубка, – площадью сто три квадратных километра, является и самым знаменитым благодаря бессмертной поэме Гомера. Последние археологические раскопки подтвердили достоверность его описаний.
Выходя на палубу, Георгий Дмитриевич чуть не столкнулся с отцом Александром, спешившим не меньше него. Они обменялись вежливо-извинительными улыбками и кинулись к перилам. Опасения опоздать были напрасны: остров оказался не таким уж маленьким. Это был изрядный холмо-горб, напоминающий Аюдаг, за которым тянулся другой такой же Аюдаг, третий, четвертый. Минут сорок судно плыло вдоль его берегов. У морских народов есть специальное слово для такой навигации – costeggiare, coast.
Нельзя сказать, что со времен Одиссея остров сильно перенаселили: на одном склоне гнездилась пара дюжин домов, белой полосой холмо-горб очерчивала дорога, и где-то у самого подножия, у воды, белела не то вилла, не то церковь – не разглядеть. Вот и все признаки жизни в довольно обширных владениях царя Итаки. Не всякий Онассис позволит себе такое.
«Что же, вполне реальные возвышенности… среди морской равнины, – немного разочаровался Георгий Дмитриевич. – В глазах фантазии они представлялись иными… А вот увидел и-и-и… приземлил миф, лишил его ореола. Зачем? Ни мифу, ни мне это не нужно…»
Георгий Дмитриевич и отец Александр тайком друг от друга обменялись взглядами: «Тоже… как я… романтик». «Наверное, грек». «Точно, испанец».
Вопрос: «А кто же он по национальности?» – для новичков на борту становился ключевым. Но к этой загадке легко подбирался ключ. Толпу туристов в полторы тысячи в основном составляло население Европейского союза, изредка кто-то прилетал из американских Штатов. Занятнее была пирамида экипажа и обслуживающего персонала. Она порождала вопрос: почему один народ угнетает другой? Ни один другого, а именно один народ другой? Ведь не может быть целый народ официантов, а другой состоять из одних инженеров-директоров. Такого никогда не было… разве что в дикие древние времена, когда победители обращали в рабство народ побежденных, господ и слуг без различия.
Внизу пирамида расслаивалась на касты, но не по социальному, а по национальному происхождению. Малайцы, филиппинцы, тайванцы, таиландцы, бангкокцы и прочие непостижимые желтые люди с их гуттаперчивыми улыбками услуживали в ресторане помощниками официантов (гарсонов) – петит гарсонами , т.е. убирали со столов грязную посуду, они же обслуживали в буфете. Гарсонами работали темнокожие люди из Гондураса, Перу и прочих прародин ацтеков и золота конкистадоров.
Помощниками в машинном отделении доверено было трудиться молдаванам – поразительно, как народ столь маленькой советской республики расползся по щелям и закоулкам всего мира.
Стюардами, а попросту уборщиками кают, работали индусы из шудр, но и там была своя субординация: низшему из них отводилась уборка и ремонт сантехники.
Далее кастовость переходила в иерархию в «цивилизованном» смысле. Метрдотелем могли служить поляк, хорват или турок. Можно было встретить парикмахершу болгарку, а приемщицу в фотосалоне из другой части бывшего социалистического лагеря.
На этой маленькой плавучей модели мира четко просматривалась иерархия народов нового порядка. Капитализм снял маску. Он не рядился здесь в фальшивые тряпки прав человека, он алчно, с пеной у рта, заплывшего жиром, наживался. Открыто, изощренно, ненасытно выжимал соки из народов, не сумевших пристроиться на теплом месте в единой мировой монополии на благополучие, народов, впавших в нужду, в задолженность, а следовательно, в зависимость. И никакой даже самой блистательной, в духе набоковской, гениальности не хватало, чтобы вырваться за жесткие рамки, в которые впаян человек положением, отведенным его стране на мировом рынке человеческих душ.