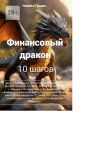Читать книгу "Дракон из Перкалаба"
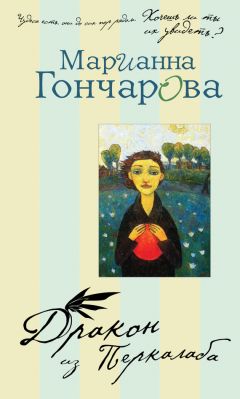
Автор книги: Марианна Гончарова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Марианна Гончарова
Дракон из Перкалаба
Глава первая
Веретка
Дорогой читатель, драгоценный мой читатель.
Скажу вам все сразу и честно, чтобы не интриговать и не запутывать… Эта книга – не детектив и не фантастика. Тем более – не фэнтези и не мистический триллер… Это, видите ли, правда. Все здесь написанное, дорогой мой читатель, абсолютная правда. Да, да. Горы – правда. Дракон – правда. Мольфары – правда. Владка и ее короткая, стремительная жизнь – чистая правда. Мое личное прямое участие почти во всем нижеописанном – тоже правда. А вымысел в том, что волей своего воображения я все это решила сплести в пеструю веретку. Знаете ли, что такое веретка? Красивое звучное слово, да. Это домотканая дорожка. Рачительные гуцульские хозяйки стелили ее на пол, на лавки, сейчас уже и диваны накрывают, и кресла. Да куда угодно сейчас ее стелят. Она никогда не выходила из моды, потому что всегда была вне моды. И вот сплела я такую длинную плотную дорожку из разноцветной яркой пряжи – одна полоска радужная и веселая, вторая – густо-черная, печальная, следом – полоски другие, постепенно переходящие от одного цвета к другому, дальше опять резкие цвета – красный бешеный, белый нежный, опасливый и опять мрачный черный… Словом, все как в жизни, как дни и годы нашего пребывания в этом мире.
Когда-то из упрямого любопытства и стремления уметь все я стала учиться ткать на кустарном ткацком станочке. Трудней всего получались всякие узоры, надо было кропотливо вплетать одну нитку за другой, строго придерживаясь рисунка. И вот сидишь, ковыряешь пальцами полотно. Усаживаешь нитку. Протискиваешь ее равномерно между сильно натянутыми на станок крепкими шелковыми нитями основы. А потом прижимаешь специальным гребешком эту новую яркую ниточку, маленькую часть будущего узора, плотно придавливаешь к уже вплетенным раньше. Плетешь медленно, старательно, терпеливо, иначе нитка не ляжет в общее полотно, вылезет или, наоборот, затеряется, плетешь и думаешь про все и про всех вокруг. И потом эта вот веретка прямо становится горячей от моих рук и этих мыслей. И снимаешь готовую со станка, обработаешь края и с ходу даришь ее маленькому человеку – мальчику или девочке, это не важно. Даришь для того, чтобы ребенок, просыпаясь утром, ставил на эту веретку свои крепкие теплые босые ножки и чтобы не замерз.
* * *
Так. Теперь о языке. Проще было написать эту книгу на украинском языке. Хотя кто знает. Гуцульские наречия и для украинцев не очень понятны. Что уж говорить о русскоязычных читателях. Давайте так, чтобы вы не бегали глазами по ссылкам, чтобы не отвлекались, перебирая страницы, для удобства чтения и понимания я буду давать объяснения для вас сразу, рядом с непонятным для русскоязычного читателя словом.
И вот еще что. Есть здесь имена и географические названия, которые я умышленно изменила. Так что, если вы хорошо знаете меня, если вы хорошо знали мою подругу, о которой пойдет речь, если вы хорошо знаете места, где мы живем, а также географию Карпат и Прикарпатья – не ищите, пожалуйста, совпадений. Они – случайны.
Ну, – спросите вы и будете правы, – если все это правда, если нет в ней, в этой книжке, никакого вымысла, если описываешь ты обычную жизнь, которая – вот же она, открывай окно и смотри, не утомляя себя чтением, – зачем же ты вообще ее написала, эту книжку? Для чего? Что ты хотела сказать?
* * *
Ну вот. Для чего? Что? Почему?
Кого ни спросишь, на кого ни глянешь, на челе каждого нормального взрослого, а иногда и не очень человека есть печать невосполнимых потерь. Не о деньгах я сейчас, не об имуществе.
Я о людях. Об ушедших людях. Нет, не от вас ушедших, не из вашего дома в другой, а вообще – из мира. Из дней и ночей. Из осени и весны. Из времени вашего общего ушедших. Навсегда.
Такие потери есть и у меня.
Одна странная знакомая говорит, что боится прощаться и провожать уходящих в иной мир людей. Она в своей довольно уже длительной жизни не провожала и не прощалась вообще и ни с кем, а было довольно много тех, кого следовало бы ей оплакать. Лида – ее зовут. Лида или по-другому, ну, да ладно – она, эта всегда очень нарядная Лида, говорит, вот приду прощаться с человеком и понимаю, что это я в очередь становлюсь, что постепенно подвигаюсь все ближе и ближе. Не хочу этого всего чувствовать. И не буду. Я боюсь. Я боюсь! И не говорите при мне об этом. Мне неприятно. Мне страшно. Так кричит и топает ногой Лида.
А мне не страшно.
* * *
Вру.
* * *
Да. Вру. Тут другое. Я не боюсь преодолевать этот страх, вот так верней. Владка, моя подруга, часто внушала мне, что про смерть можно и нужно говорить и даже шутить, смеяться нужно, потому что это ведь часть нашей жизни. Ну, финальная. Но к чему это умалчивание и скорбная почтительность? Еще никто не был от этого застрахован. Так шутила Владка, да.
Резо Габриадзе, как он говорит сам, старик среднего возраста, в интервью Радио «Свобода» сказал:
«Уход – это серьезное дело. Вы молоды, в вас кипит жизнь, и мои ответы будут вам непонятны. Лет через пятьдесят поймете. Если бы я умел разъяснять такие сложные вопросы… Прочтите Ветхий Завет и четыре Евангелия».
Какой толковый и простой совет: «Прочтите Ветхий завет и четыре Евангелия», иными словами, живите и думайте. Потому что для того, чтобы прочесть и, главное, понять Ветхий Завет и четыре Евангелия, нужны усилия ума и души всей нашей жизни. А уж когда будем уходить, тогда все и поймем. Я уверена.
Так вот. Прекрасные, благородные люди уходили. Покидали меня вселенные – незаменимые, значительные, родные, – уходили из земной жизни. Не со всеми ушедшими я успела попрощаться. Не потому, что боялась, как нарядная Лида, а в силу того, что не успевала я приехать вовремя, чтобы проводить к последнему пристанищу дорогого мне человека.
Ушли мои Зиновий и Полина, дедушка мой и бабушка из Одессы. Их надлежало отпустить в тот же день, ну так положено было, так они попросили оба. Ушла Наташа Хаткина, моя милая драгоценная подруга, писательница и поэт из Донецка. Умерла мамина учительница словесности, лучшая подруга, любимая Берточка. Ангел нашей семьи Берта Иосифовна Гинзбург. Благородная, интеллигентная, тоненькая и красивая, внимательно прислушивалась она, слегка наклонившись корпусом к собеседнику, с неизменной сигаретиной в углу рта – так она мне и запомнилась навсегда, наша Берточка.
Прямо на моих руках умер Чак. Товарищ мой верный, безмерной души и благородства рыцарь и защитник. Да, здесь, на Земле, он был собакой. Там сейчас он несет привычную службу – ангелом. Не простым ангелом – ангелом-вестником, ангелом-проводником. И это доказано. Совсем недавно ночью он приходил к нам, тихонько царапнул дверь и вежливо поскулил. Это был точно он, наш Чак. Он всегда был интеллигентен и тактичен, наш Чак. Его услышал только мой папа, тогда уже совсем растерянный и больной. Папа с трудом поднялся и пошел открывать. Мама проснулась и спросила:
– Боря, ты куда?
И папа ответил:
– Пришел Чак. Надо открыть.
Папа вскоре ушел вслед за Чаком.
Одна знахарка, добрая, светлая женщина Леся, как-то сказала мне, что не стоит волноваться и болеть душой о том, что умирающим одиноко и страшно там, в том самом тоннеле. «Нет, – сказала Леся – а она знала, о чем говорит, – нет, каждого, слышите, каж-до-го, и праведного и грешного, встречают там и не дают пасть духом родные и знакомые. Никто не уходит в одиночестве – никого не слушайте», – успокаивала Леся. Я представляю себе, как мой папа шел робко и неуверенно, но ориентиром ему служил приветливый, пушистый рыжий хвост моей собаки. Чак и тут, на Земле, никогда и никого из нас не оставлял в беде. Что уж говорить о другом мире. И он привел моего папу к недавно ушедшему в безвременье брату. Они были хоть и погодки, но похожи как близнецы – не различить. И друзья были не разлей вода. В детстве их звали Бузя и Вузя. Бузя – это мой папа, Вузя – это мой Вова, папин брат. Два брата, да. Теперь они вместе.
Ушли Сливинские, Татьяна и Юрий, красивые люди, люди великих дел и тяжких страданий. Мы с ними только познакомились и просто не успели стать верными друзьями. А должны были, потому что очень совпадали. Не хватило у них времени, у Тани и Юрия.
Не всем я успела сказать, как дороги они мне были, эти великодушные, праведные, пламенные, возвышенные люди. Да вообще, кто же говорит другому человеку так неестественно глупо, по-киношному, например, за чаем или на прогулке – слушай, а ведь ты мне так дорог, знаешь ли. Да? Папа бы меня просто засмеял. И Наташа. И все другие… И даже Чак бы хмыкнул недоуменно и отошел бы в сторонку…
Конечно, они бы все смеялись, мол, чего это ты ударилась в несвойственную в нашей веселой компании патетику: дедушка, Полина, папа, Вова, Сливинские, Берта Иосифовна, Наташка, Чак… И Владка.
* * *
Первой в моей жизни огромной невозвратимой потерей была она, моя подруга. Я искала сейчас слова, эпитеты, чтобы объяснить, какая она была, моя подруга: надежная, добрая, умная, страстная… Справедливая, великодушная. Слова-слова, пустые… Да ладно. Слова – шелуха. Нет, она была просто настоящая. Настоящая подруга. Вот так будет правильно и справедливо.
* * *
В этой книжке я буду часто упоминать Вижницу, уникальный живописный городок у подножия Карпат, где кончаются рельсы, цивилизация и начинаются горы. Здесь, в Вижнице, в училище искусств она и училась, моя Владка. Сейчас там живет и преподает в том же училище наша общая подруга Светка, и именно там происходили самые важные события в нашей жизни. По крайней мере, там они начинались. Именно оттуда, из города Вижницы, брала свое начало самая трудная и самая последняя дорога в ее, Владкиной, жизни.
Ну все.
А то, как однажды сказал Габриадзе, боюсь пафоса – сболтнешь что-нибудь, а потом всю жизнь будет стыдно.
Будем считать эту главу посвящением всем, кто уже находится по ту сторону жизни. Всем. И – Владке.
Потому что эта книга именно о ней. И о том, как она уходила.
О Владке, которая научила меня смотреть и видеть.
Глава вторая
Куда плыла белая чурочка
Всю жизнь навстречу Владке шли, бежали, выскакивали, шествовали, неслись и являлись абсолютно неслучайные и всегда очень симпатичные люди. Встретившись с ней взглядом, они немедленно разворачивались, хватали Владку за руку и уже шли бок о бок, рассказывая ей что-то свое, для Владки всегда интересное. Мне кажется, если собрать всех ее друзей, всех, кто ее любил, всех, кто по ней скучал, то получился бы такой яркий карнавал, такой праздник, где всех этих совершенно разных людей – художников и почтальонов, учителей и музыкантов, пожарных и безработных, строителей и актеров, авантюристов и тайных агентов, доярок и буфетчиц, милиционеров и цирковых, колдунов и волшебников, молодых и старых, – всех их объединяло бы одно – Владкин к ним всем живой детский интерес, душевная к ним открытая симпатия и непритворное ими восхищение.
В детстве Павлинская была генератором всяких идей. Не то чтобы она была там какой-то заводилой, командиршей улицы – нет. Но, во-первых, все с нетерпением ждали, когда она выйдет из дома, все с готовностью радостно смеялись, как только она говорила «привет», и все сразу собирались вокруг нее толпой, потому что она играла в свои детские игры так талантливо и самозабвенно, что когда, например, пускала в весенний ручеек обычную чурочку и объявляла всем, что это белый теплоход и что плывет он в сказочную страну, где всегда весело, то все в это безоговорочно верили.
– А там есть апельсины, газвода с сиропом и петушки на палочках? – спрашивали мы.
– Нет, – отвечала Владка, сидящая на корточках и занятая своим теплоходом. – Зато там есть все, что, например, задумал. И если оно хорошее, – продолжала Владка спокойно, подталкивая чурочку в воде, – то оно исполняется. И еще там есть большие розовые, кислые и одновременно сладкие яблоки с тонкой-тонкой шкуркой.
Владка с детства очень любила грызть именно такие яблоки. Она любила их нюхать, любила ими дышать, любила ими любоваться, держать их в руках, и рисовать их тоже любила. До сих пор не знаю, что это за сорт и где они растут на самом деле. Может быть, действительно в той самой стране, куда она отправляла по ручейку свою чурочку-лайнер.
И глядя, как увлеченно она играет, все вокруг включались в ее игру и начинали клянчить у нее, выпрашивать, предлагать обменять на что-нибудь именно эту чурочку, чтобы самим поиграть вдоволь, чтобы похвастаться перед друзьями, но не понимали, что как только она, эта деревяшка, перекочует из Владкиных в чужие руки, она превратится из белого теплохода в обычную дощечку.
В детстве Павлинская была чистый Том Сойер – изобретательный, веселый, дружелюбный искатель приключений.
– Павлииинская!!! Выхадиии!!! – кричали ей скучающие на улице дети. Кричали у калитки, дальше заходить боялись, у Павлинских была грозная собака, полное имя Аурел Федорович. А короткое – Усатый. Владка его так назвала именно потому, что Аурел Федорович, школьный учитель биологии, в честь которого была названа овчарка, был усатый. Овчарка – нет, овчарка усов не носила, нет. Павлинская не хотела объяснять, почему один усатый, другой нет, почему при абсолютной непохожести, к тому же один – собака, другой – учитель, имена у них были одинаковые. Назвала и назвала. Все. Владка нашла Усатого маленьким, слепым, умирающим щенком в какой-то канаве, Павлинские, добрые люди, щенка выходили, и теперь, как всякая подобранная животина, Аурел Федорович Усатый с лихвой отрабатывал своим милосердным хозяевам за такой благословенный поворот судьбы. И повсюду следовал за младшей своей хозяйкой Владкой. Судя по стае собак, которая обычно сопровождала Владку и Усатого повсюду, Аурел Федорович всем рассказал о своем чудесном спасении и о том, что девочка вообще тратит все карманные свои копеечки на гуманитарную поддержку любых встречных и поперечных собак и котов.
– Сейчас выйдет Павлинская, – говорили друг другу дети, – и сразу всем будет интересно и весело.
И Павлинская выходила.
Владка, еще когда была совсем маленькая, любила рисовать. Причем рисовать не только кистью или карандашом. Дух захватывало, когда она пересказывала прочитанное или увиденное.
Когда она произносила, например, слово «олененок», мы сразу видели его тонкую гибкую шею, стройные высокие ножки, бархатные уши и пугливые мокрые глаза. Когда она, побывав с мамой в Москве, описывала нам увиденную в Третьяковке картину, то через много лет, когда многие из нас увидели ее – она оказалась очень близкой к той, которую описывала тогда девятилетняя Владка. А может быть, это уже мы рассматривали картину Владкиными глазами. Когда она обрисовывала словами Хотинскую крепость, куда ездила на экскурсию с классом старшей сестры, мы видели воочию древние разрушенные стены, ржавые неровные шарики картечи, шаткие прогнившие лестницы, заросший ров и деревянный древний дубовый мост, и то, как маленький робкий ручеек по капле просачивается сквозь камни, чтобы хоть немного утолять жажду осажденных воинов, раненных стрелами захватчиков.
И мало кто тогда знал, что дремлет в ней, в этой маленькой, хрупкой, угловатой девочке, которая открыто хохочет от радости при встрече с друзьями, смотрит недоверчиво, исподлобья на чужих, что спит в ней до времени большой талант рисовальщицы и особый дар – видеть незначительные для других, но самые восхитительные детали жизни, чувствовать самые тонкие ее нюансы.
Однажды Владка изобрела катамаран. Зимний катамаран, уточнила бы Владка. А как было? Они с сестрой Ирой ходили в музыкальную школу. Так хотела мама Тамарапална. Учительница в младших классах. Из своего скромного бюджета (в семье было трое дочерей) Тамарапална платила немалую сумму за уроки музыки. Владка училась играть на аккордеоне, Ира Павлинская, Владкина сестра, – на скрипке, а Лариса Павлинская – старшая и самая послушная дочь – играла на фортепиано. Мама девочек, Тамарапална, мечтала, чтобы в доме звучала музыка, чтобы девочки по вечерам играли ансамблем, прямо представляла себе эту картину, как повзрослевшие дочери, стройные, нарядные, гладко причесанные, в белых воротничках и лаковых туфельках, играют втроем в гостиной, а соседи Саркисяны подслушивают, прячась в саду за деревьями, и завидуют:
– Сестры Павлинские музыку играют. А ты, дармоед, ни черта не умеешь! – и давали бы подзатыльник своему толстому сыну.
А в это время, даже и не предполагая, что за ними подсматривают (или как раз наоборот – будучи уверенными, что это так), родители девочек и гости, приглашенные на семейное торжество, сидели бы в креслах и слушали, как девочки играют и поют из репертуара, например, Георгия Виноградова, любимого маминого певца:
За-ачем смеяца, если сээээрцу больно, за-ачем встречаца, если ты грустишь саа мной, зааачэм играть в любовь и уууувлекаца, когда ты день и ночь мечтаешь а другом!
Или нет, лучше вот это, любимое уже отцом из репертуара Леонида Утесова:
Товаришч, я вахты не в силах стоять, – сказал качегар качегару. – Огни в моих топках совсем не горят, В котлах не сдержать мне уж пару……………………………. А волны бегут ат вин-ы-та за кормой…
Нет, лучше все-таки вот это:
Шчаааастье мое, посмотри – наша юность цветет, Сколько любви и веселья вокруг… Радость моя, это молодость песни поет, Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг!
И чтобы переглядываться под музыку понимающе и нежно, мол, мы-то знаем, что она нам напоминает, эта песня.
И все в комнате кивают в такт, подпевают – и про раскинулось море, и про зачем смеяться, а Саркисяны кусают локти и плачут под окнами.
Так вот про «зимний катамаран». Однажды, хотя и не в первый раз, пришла зима, выпал снег, залили в соседней школе рядом с домом каток и соорудили снежную горку с трамплином. Кстати, все организовал и сделал мой папа – он тогда преподавал в этой школе физкультуру. А в музыкальную школу девочки должны были проходить как раз мимо катка и горки. Нет, Лариса, старшая послушная дочь, действительно проходила мимо, борясь с искушением, стараясь не косить глазом в сторону безудержного зимнего детского веселья. А Томсойер Владка немного задерживалась. Она, нахмурив лоб и поджав губы, грустно наблюдала за беспечной детворой и думала, как бы хоть разок прокатиться с горки, а уж стать на коньки и побегать – это было бы счастьем. Но руку оттягивал тяжеленный футляр с аккордеоном.
– Саркисянчик, – однажды позвала Владка соседа своего, Павлика Саркисяна, который, радостно подшмыгивая носом, раскрасневшийся, в съехавшей на затылок шапке, весь в снегу, съезжал с горки на новеньких, буквально неделю назад купленных ему санках и спешил с санками опять на вершину, – Саркисянчик, будь другом, дай катнуться разок, а?
– Ни-ма-гуууу, – не глядя на Владку, хмуро отвечал Саркисян, деловито смахивая мокрой варежкой снег с санок, – мне папа не разрешает другим детям санки давать.
– Не вриии, – возмутилась Владка, – твой папа на работе вообще!
– А он вчера не разрешал, – склочно выставил челюсть Саркисян.
– Так то ж вчера… – не теряла надежды Владка, – ну дааай…
– Не дам! – Саркисян уселся на санки и смотрел в сторону и вверх, нарочно, чтобы не видеть Владкиных умоляющих глаз.
А когда обернулся на восхищенный крик многочисленной детворы, облепившей горку, раскрыл рот от зависти и удивления: Владка с сестрой Ирой отчаянно и стремительно съезжали с горки на удивительном, широком – на два места – сооружении, которое впоследствии оказалось футляром из-под аккордеона, до поры печально мерзнувшего на ближайшей к горке лавочке.
Только к концу февраля Тамарапална, разглядев подранную дерматиновую обивку аккордеонного футляра, проследила однажды за своими горе-музыкантшами и ужаснулась. Обе были серьезно наказаны, но, к радости Владки и Ирины и к зависти старшей сестры, избавлены от музыкальной повинности. Мечта о лаковых туфлях, гладких прическах, маленьком семейном оркестре и хоровом пении осталась нереализованной.
Мало того – однажды отец Владки поймал всю компанию дворовых Владкиных друзей за курением… кукурузных рыльцев. А как было. Настало однажды утро, когда все было как всегда: гудели назойливые мухи, солнце просвечивало сквозь листву, Усатый громко позевывал и валялся кверху животом рядом со своей будкой. И вдруг стало не очень интересно. А Владка начинала беспокоиться, когда становилось неинтересно. И она сказала сестре Ире: а пойдем к соседям, на поле – там у кукурузок есть такие нитки, как будто хвосты – их можно вплетать куклам в косы. И еще много чего можно из них делать. Например, делать себе прически и даже парики. Так что не сразу, нет, не сразу случилось грехопадение. Сначала девочки обдирали кукурузу и делали из тех самых шелковистых кукурузных рыльцев шиньоны для кукол и для себя. Потом ломали кукурузу и пекли ее на костре. И вот тут, когда они стали подворовывать кукурузу – да ее-то было целое поле, безразмерное поле над Прутом, наполненное шорохом и звоном, – Владка уже не могла наслаждаться сама – она позвала на импровизированный пикник всех друзей с их маленькой улицы. Пекли кукурузу, кусочки яблок, нанизанные на ветки. И само пришло, идея лежала вообще на поверхности. Спрашивается, что с этими кукурузными рыльцами еще делать, если они сначала нежные и маслянистые, а через пару минут уже сухие, хрупкие, ломкие, и чуть потрешь – уже пыль. Правильно, это надо курить. Сестра Ирка бегом сгоняла за журналом «Под знаменем ленинизма», который зачем-то выписывали родители. Он, этот небольшой журнал на газетной бумаге, был неинтересный и без картинок. И в отличие от «Мурзилки» и «Костра» приходил часто-часто, чуть ли не каждую неделю. Все оторвали себе по листку, свернули самокрутки. Саркисян показал, как он дедушке самокрутки с табаком скручивал, ловко управлялся. И все дети важно расселись кружком и стали курить и кашлять. За этим занятием и застал всю развеселую компанию экспериментаторов Владкин отец.
Все получили по тем местам, куда угодила крепкая мужская рука, кто по затылку, кто по пятой точке. Отдельно старшая Владкина сестра Ирка огребла по шее за надругательство над свежим номером журнала «Под знаменем ленинизма», по которому отец-коммунист ответственно и серьезно готовился к политзанятиям в своей организации. А Владка вышмыгнула из-под отцовского локтя и удрала в лесок неподалеку, сразу за кукурузным полем – ножки были длинные, резвые, отец в гневе было ринулся вслед, но только кулаком погрозил.
Потом, спустя какое-то время, он вдруг заметил, что Владка давно дома и с сосредоточенным видом возится по хозяйству: то волочет, перегнувшись тонким тельцем и пыхтя от усердия, огромное ведро воды из колонки на улице, то поливает огурцы в теплице или цветы во дворе, то чистит кроличьи клетки. Собственно, выполняет те задания, которые и были бы даны ей в виде наказания. Владка была младшая, и отец, посмеиваясь, обреченно отмахнулся тогда: ну лааадно, вырастет – поймет.
Только однажды не выдержал отец, и получила младшая его любимая дочка по первое число – наябедничали на нее соседи. И ведь видел, что стала она о чем-то задумываться. И мама Владкина тоже заметила и приговаривала, мол, Влада, займись чем-нибудь. Не вздумай делать то, что ты задумала. Иногда они вообще кричали ей, если наступала вдруг тишина и не слышно было ее звонкого голоска:
– Владка! Хоть я и не вижу тебя, – строго кричала в окно или через забор Тамарапална, – но не делай того, что ты сейчас делаешь!
И в ответ мама слышала смех и удаляющийся топоток резвых Владкиных сандаликов.
Так вот, как-то осенью, когда уже заслезились окна, и вечерами дышало морозцем, и стали от холода скулить и подвывать собаки во дворах, отвыкшие за долгое жаркое лето от холода, наступившего буквально за несколько дней, случилось вот что: каждое утро вдруг оказывалось, что привязанные, посаженные на цепь накрепко собаки во всех дворах их улицы оказывались на свободе. И кто-то из соседей решил просидеть ночь в засаде, но все же выяснить, кто же это отпускает томящихся на цепи собак. И это стало понятно в полночь, когда из окна дома Павлинских выскользнула маленькая, всем на их улице знакомая фигурка и бесстрашно полезла к волкодаву в соседнем дворе. Владка! И вот тут папаша уже, конечно, не сдержался…
К слову, когда Владка была уже неизлечимо больна и лежала в родительском доме без сна, она опять вернулась к своему детскому – как она говорила – освободительному движению. Каждую полночь она выскальзывала из дома – остановить ее уже было некому, отца не было в живых, – выскальзывала, перебиралась через ограду и снимала цепь с воющей от тоски и несвободы соседской собаки.
И еще раз, к слову – когда Владка ушла насовсем, случилось странное и, по мнению обывателей, необъяснимое. Со двора Тамарыпалны, откуда Владка уходила, за одну ночь исчезли пригретые ею собаки и коты. Безвозвратно.
* * *
Последним школьным летом, выполнив все Тамарыпалны задания и повинности в доме и на огороде, Владка шла на Прут, там загорала на пляже с подругами и задумчиво рассматривала журнал мод «Силуэт». А по вечерам что-то порола, стирала, гладила и перекраивала. Первого сентября десятиклассница Павлинская заявилась на праздничную линейку в элегантном костюмчике, отдаленно намекавшем на школьную форму и, как потом призналась Владка, пошитом из нескольких старых постылых коричневых платьев, и с коротюсенькой стрижкой под мальчика. У Владки, высокой и очень худой, была длинная шея и тонкие черты лица – стрижка ей фантастически шла. И, конечно, через день все старшеклассницы школы стали молить родителей приобрести вместо форменного страшного коричневого платья с фартуком костюмчик, как у Павлинской. Мамаши с ног сбились, искали, просили, сулили, но так и не нашли – ни по знакомству, ни на торговых базах – нигде. А уж те десятиклассницы, кто смог отбить атаку родителей, все пришли стриженые – кто удачно, кто – ужасно, кто с оттопыренными ушами, у кого-то оказалась вместо нормальной головы очень-очень маленькая тыковка на короткой шее и вдруг вылезли огромные щеки, у кого-то проявился длинный, как огурец, затылок. Но все считали делом чести отчекрыжить свои косы. Стриженые ходили по школе ужасно гордые, надменные и счастливые. Нестриженым было стыдно, что они такие старомодные ископаемые и все еще носят архаичные косички. Это был массовый психоз, и он очень быстро перекинулся на младшие классы – я помню, как мы с сестрой умоляли маму отвести нас в мужскую парикмахерскую, чтобы нас тоже подстригли под мальчиков. Верней, мы просили подстричь нас, как подстрижена Владка. Молодые учительницы поддались модному искушению и тоже постриглись. И потом даже был педсовет, где их заслушали, как будто они продали Родину, и где было сказано, что не место им в школе, что с такими иностранными стрижками не сеют разумное, доброе и вечное. И Владкину любимую учительницу, Нину Николаевну, Ниночку, как называли ее старшеклассники, подругу Ниночку, с которой Владка вместе учила польский, ужасно модный в то время язык, тоже заслушивали – она тоже легкомысленно продала Родину за модную стрижку и за пластинки заграничных патлатых певцов и империалистических вокально-инструментальных ансамблей. А Ниночка, размахивая журналом «Экран», где были фотографии стриженых актрис из социалистической ГДР в компании с прогрессивным Джоном Ридом, защищала всю касту стриженых и демонстрировала с помощью фотографий тот факт, что короткая стрижка – интернациональна и прогрессивна. А завуч орала, что Ниночка – растреклятая космополитка и ей совсем не жалко Родину и ее будущее в лице ее учеников. Владка болталась около Ленинской комнаты, где проходил тот исторический педсовет, переживая за Ниночку, заглядывала в щелку и видела и слышала завуча Вуку Марию Тимофеевну, преподавателя русского языка, которая часто говорила: «Хотишь не хотишь, а надо». Вука кричала, что какие все молодые учительницы ненадежные, стриженые или нестриженые, все равно, потому что танцуют твист, хали-гали и кричат «йе-йе!». Нет, пусть, ладно, пусть уже танцуют, бесстыжие, но зачем кричать заграничное, чуждое комсомолкам «йе-йе!». Ведь на них вся школа смотрит и с «их» берет пример. После окончания совещания Вука Мария Тимофеевна гордо, как гигантский ледокол «Ленин», выдвинулась из двери – на ее четко обтянутом кримпленом бюсте можно было носить две стопки тетрадок для контрольных работ, – рявкнула попутно на Владку и понесла домой сумку, из которой, кое-как завернутые в газету «Правда», торчали желтые куриные когтистые ноги. И Владка, чтобы насмешить и утешить учительницу Ниночку, сказала, что курица сначала была живая, но сидела-сидела, послушала весь этот бред и померла от стыда во время педсовета.
К директору школы зачастили родители девочек из другого района, раздувался – как это бывает обычно – скандал. Потому что ученицы других школ жили не за Китайской стеной и тоже хотели выглядеть красиво и стильно. Непопулярные у прекрасной половины человечества мужские мастера-парикмахеры обалдевали, когда к ним после уроков вваливалась толпа девушек, девочек-подростков, а то и маленьких совсем с требованиями немедленно избавить их от пышных шевелюр, длинных кос и густых конских хвостов. Девчонки с удовольствием, как солдаты на Красной площади бросали штандарты и знамена вражеской побежденной страны, швыряли в угол парикмахерской атласные ленты, капроновые бантики, гребни, шпильки и невидимки. (Заколок в то время еще не было.) И всю эту революционную кашу заварила, конечно, одна Владка.
Когда ее выставили в центр зала за нарушение дисциплины, как опять же в то время было принято на школьной линейке позора, она стояла такая хорошенькая и милая, что на следующий день подстриглись уже все учительницы начальных классов, две лаборантки и даже тетя Дарина, пожилая буфетчица. А потом за Владку вступились и поддержали ее мальчишки. И уже не постепенно, не в течение одного месяца, как было с девичьими стрижками, а в одно утро все мальчики, Владкины одноклассники, их друзья и знакомые из других классов пришли с обритыми под ноль головами. Тогда завуч Вука забила тревогу, и было собрано экстренное общешкольное родительское собрание с участием каких-то чужих дядек при галстуках и строгих тетенек с неопрятными облезлыми дульками на макушках, в честных, не запятнанных чуждой идеологией, видавших виды несгибаемых плечистых пиджаках. Школьное начальство признавалось и каялось, что да, недосмотрели – ЧП. С идеологическим подтекстом, – ехидно добавляли гости. Все стриженые и бритые получили дома по оболваненной башке, а особо злостным намылили их беззащитные, открывшиеся после стрижки всем ветрам, голые шеи. И еще пару месяцев родители зорко следили за своими отпрысками, чтобы тем не пришло в голову что-нибудь себе остричь без разрешения. Владку же – надо отдать должное, – ее мать, учительница той же школы Тамарапална, защищала как могла. И главный аргумент был – зато живенько, аккуратно, не космато и очень красиво. Ей ведь красиво? – Тамарапална вполне искренне спрашивала: – Ну что, не красиво разве?