Текст книги "Кольцо странника"
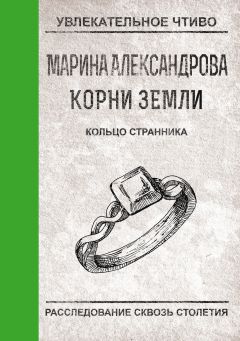
Автор книги: Марина Александрова
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Марина АЛЕКСАНДРОВА
КОЛЬЦО СТРАННИКА
ГЛАВА 1
На заре затрубили трубы в святом Новгороде – но на сей раз не дрогнули спящие жители, Пресвятая Дева, заступница, не проронила слезы с чудотворного образа. Знал Новгород – ныне князь предан мирным делам, едет он со своей ратью на охоту. Потому и ржут весело кони, и трубят рога, скликая славных воинов на молодецкую забаву.
Всеслав, семилетний сын княжьего тысяцкого Романа, проснулся до света. Еще надеялся – смилуется отец, возьмет с собой на охоту. Вчера совсем было удалось его упросить, да мать помешала – завопила, заголосила:
– Куда мальчонку тащите? И не дам, и не позволю! В могилу вы меня вогнать хотите, что ли? Ему и восьми годочков еще не сполнилось, а уж на такую забаву? И не помышляйте!
Всеслав стоял, насупившись. Очень хотелось удариться в рев, но держался – отец не любил, когда при нем роняли слезы. Надеялся вырастить из сына храброго воина и хвалил за удаль – потому уж почти согласился. Кабы не матушка…
Теперь Всеслав встал спозаранок, думая захватить отца и увязаться за ним. Поглядывая искоса на спящую няньку, быстро оделся и кинулся вон из опочивальни.
Отца он поймал уже на дворе.
– А, пострел, уже вскочил? – засмеялся отец, увидев его, заспанного, растрепанного. – Что-то раненько нынче. Ну, молодец, молодец. Ишь, взъерошился, как воробей!
– Возьми меня с собой! – наконец вымолвил Всеслав, припав щекой к большой отцовской руке.
– Нет, сын, в другой раз. Слышал, как мать вчера заливалась? И вечером мне говорила: смотри, не вздумай мальчонку с собой тащить. Я и обещался просьбу ее сполнить.
Всеслав вздохнул. Он знал – отец своего слова не нарушит.
– Верно, в другой раз возьмешь?
– А как же, конечно! Беги теперь в терем, досыпай. Вон у тебя и глаза слипаются.
Делать нечего – пришлось идти обратно в терем. Нянька уж встала, теперь кудахтала где-то, искала потерянного питомца.
День на сей раз тянулся очень долго – не пришла охота к обычным мальчишеским забавам и Всеслав шатался по двору без дела. Сестрица, четырехлетняя Нюта, пыталась увязаться за братом, но сегодня ему не до нее было. Так скучно было что-то, так скучно на душе… Бывало, приходили на двор к тысяцкому скоморохи, плясали и пели, смешили добрых людей. Ради детей их не гнали, смотрели только, чтоб чего не стянули. Но сегодня и скоморохов не было, и небо затянуло серыми тучками… Вдали где-то мелькали молнии, погромыхивал гром отдаленными раскатами.
За вечерней трапезой мать вздыхала, маялась.
– Душно что-то, перед грозой, что ли, – сказала, прижимая ладонь к высокой груди. – Как бы отец под ливень не попал. Пойду, прилягу, что ли… Томит.
Стала подниматься из-за стола и вдруг замерла.
– Мотри, едет! – сказала и бойко пошла к дверям – встречать. Проходя коридорами, улыбалась, качала головой. Надо же – уж восемь лет, как обвенчались они, а любовь все по-молодому горит. Вроде бы и не пристало в такие-то годы, а все пылает сердце, не хочет уняться…
Всеслав приклеился носом к оконцу – встречать отца. Ничего толком и рассмотреть-то не успел, только понял, что дело неладно, когда со двора раздался звериный вопль матери, и не верилось как-то, что эта маленькая женщина может так ужасно кричать. Всеслав рванулся со скамьи, бросился к дверям, но его удержали чьи-то сильные руки, а рыдания матери становились все ближе и все страшней.
Тысяцкого Романа на охоте заломал медведь. Никто не ждал этого – на княжеских охотах Роман частенько хаживал в одиночку на могучего зверя и неизменно выходил победителем. Но на сей раз медведь попался сильный, злой, матерый, и не сдюжил тысяцкий, и не поспели ему на подмогу верные друзья… Поломанного, с разорванной грудью, выручили его из лап зверя и привезли домой.
Под темными грозными ликами образов, уйдя до подбородка в жаркие перины, умирал отец Всеслава – самый сильный, самый добрый и веселый человек на всем белом свете. Дышал он часто, с присвистом, губы запеклись от жара. Только глаза неутолимо горели, и такое невыносимое страдание светилось в них, что даже видавший виды священник, отец Василий, вздрагивал и отводил взор. Жена неотрывно смотрела на умирающего; ее круглое, темнобровое лицо опухло от слез, время от времени она начинала причитать, но пугалась потревожить умирающего и затихала, молча заламывала руки.
Всеслав с сестрицей сидели на скамейке в уголку, прижавшись друг к другу. Нюта не понимала еще, что происходит, но почувствовала беду и сидела тихо, только иногда тяжко, не по-детски вздыхала. В сумраке под сводом шушукалась, всхлипывала дворня – слуги любили Романа, подчинялись не из-под палки, с радостью.
Умирающий пошевелился.
– Что, что, кормилец? – кинулась к нему жена.
– Детей… – выговорили спекшиеся губы тысяцкого.
– Детей, детей к нему подведи, благословить хочет, – зашептал отец Василий. Всеслав слез со скамейки и, держа за руку сестру, сам подошел к ложу. С помощью жены и священника отец возложил холодеющие уже руки на головы детей – на льняные кудри Всеслава и на черные, жесткие, как у матери, волосы Анны.
– По правде живите… – сказал из последних сил, и тут же ясные глаза его стали меркнуть.
– Отходит, батюшки, отходит! – вскрикнула жена, за ней заголосила дворня. Но нет – диким усилием воли отогнал тысяцкий курносую, снова очи его прояснились.
– Сын… остаешься за хозяина. Мать, помоги-ка мне. Сними вон перстень с руки…
На правой руке, на среднем пальце, Роман всегда носил серебряный перстенек с темным камушком. Не раз и не два говорил он сыну, указывая на перстень: «Вот, сынок, родовой наш оберег. И деду твоему и прадеду помогал он, давал удачу и в любви и на войне. Только чтоб служил он тебе – по правде жить надо». И Всеслав, заглядывая в таинственную глубину камня, думал, что всегда будет жить «по правде», как отец. Но о том, что отец когда-нибудь умрет, он и помыслить не мог.
Мать с трудом сняла кольцо.
– Сыну, – тихо, но твердо сказал Роман.
Всеслав еле держался на ногах, голова у него кружилась, слезы, казалось, вот-вот польются из глаз. Но он, как всегда, не решился заплакать при отце. Твердо шагнул вперед и, взяв перстень, надел его на средний палец, как отец. Подняв глаза на отца, увидел улыбку на его лице – кривую, бледную, слабую, но самую настоящую улыбку, и сам улыбнулся в ответ.
Терем содрогнулся от удара грома, яркая молния расколола ночные тучи и по крыше забарабанили капли дождя – сначала редкие, а потом все чаще, громче, сильнее… Отец застонал, над ним склонилась мать и отец Василий, а Всеслав не мог оторвать глаз от отцовского подарка. В глубине темного камня вздрагивали, переливались алые огоньки. Всеслав никогда не видел такого, и теперь все его детское внимание было устремлено на перстень. Вздрогнул, когда крикнула мать:
– Глазоньки открыл, голубчик!
Тысяцкий Роман рывком поднялся и сел на постели. Глаза его были широко открыты и – Всеслав никогда этого не забудет! – из них лился необыкновенный свет, весел и чист был взгляд умирающего. Он смотрел куда-то вверх, в темный угол комнаты… И вдруг плечи его задрожали, судорога прошла по всему телу и он бездыханным упал на высокие подушки.
Душераздирающе кричала вдова, священник шептал слова молитвы, и причитала многочисленная дворня – Всеслав уже не слышал ничего. Слез не было, жалобы застряли в горле. Повернулся к дверям – там обступили слуги, плакали, жалели, звали непривычно – сироткой. Еле вырвался из их цепких рук и не пошел, а побежал, сам не зная куда. Только бы укрыться, уйти от этого страха, от жалости, от боли.
В пустой и темной трапезной рыдания матери почти не слышались – только доносился смутный, тревожный шум, от которого тесно было в груди и жужжало в ушах. Всеслав присел на корточки у очага, где тлели багряные угли, уткнулся носом в колени. Нужно было как-то жить, что-то делать. Всеслав остался в семье за старшего, за хозяина, и эта забота бременем легла на его детские плечи…
Радость ушла из дома. Мать с тех пор, как схоронили отца, была словно бы не в себе – все время молчала, иногда принималась плакать, а хуже – чудить. Порой говорила что-то невпопад, ночами громко молилась и рыдала под иконами. Про детей она словно позабыла – скорбь по безвременно ушедшему, безмерно любимому супругу вытеснила из ее сердца любовь к детям. Всеслав чуял это, чуяла и Нюта, все время жалась к брату. Дворня, не видя над собой хозяйского надзора, распустилась – воровали немеренно, потеряв страх, к работе старания поубавилось. Хозяйство, так ладно поставленное, впадало в запустение.
Всеслав с Нютой коротали бесконечные вечера на скамеечке в дальней горенке, которую в доме называли «темной». Круглые оконца пропускали мало света. Дети сидели, поджавшись, против тлеющего очага, жались друг к другу. Чтобы развеселить сестрицу, Всеслав крутил ей из тряпиц куколок, метил угольком глаза и давал ей баюкать. Порой говорил сказки, которые сам еще слышал от няньки. Да только сказки все получались страшные – про лихих разбойников-душегубов, про нечистую силу лесную, про того, кто по ночам воет в печах… Нюта прижималась к брату, брала его за руку и затихала – вглядывалась в алую звездочку в кольце.
Всеславу перстень был велик, но он все равно носил его, как мать ни уговаривала припрятать до времени. Носил на большом пальце и берег пуще глаза, а в грустные вечера утешал им сестрицу, а более – себя…
– Вот вырасту я, – шептал громко, – стану хозяином, и опять дела на лад пойдут… Пойду к князю в дружину, добуду себе славу, матушку утешу… А в том мне батюшкин оберег подмога, с ним мне счастье придет.
Нюта широко открывала и без того огромные черные глаза и переводила взгляд с брата на кольцо. Пусть не много она понимала в словах Всеслава, но держалась за него крепко. И Всеслав понимал, хоть и не вышел он еще из отроческого возраста – он у сестры одна надежда, некому о ней позаботиться. Матушка-то вон никак в разум не войдет…
Неизвестно, как бы дальше шла жизнь осиротевшей семьи, кабы как-то зимним утром не подкатили к крыльцу крепкие сани. Рванулись два цепных кобеля, задохнулись от злобы, и смолкли – такой властный голос шикнул на них. Нянька сунулась в окно и, как мешок, повалилась обратно на скамью.
– Боярин приехал, в шубе богатой! – шепнула она и побежала, засеменила по переходам – сказать хозяйке.
… Татьяна, узрев, кто приехал, побелела как плат. Вот уж нежданный гость! Как же встречать его, что говорить?
Неизвестно. Не в ладу были братья: поссорились давно, в юности еще, и с тех пор не видались. Слышали друг о друге от чужих людей, но о себе вестей не подавали.
И вот – стоит на пороге старший брат, Тихон. Постарел, огрубел, устало смотрит из-под нависших бровей… Молчать дальше становилось невозможно, и гость первым нарушил тишину.
– Мир дому сему! – сказал он.
Татьяна сдержанно поклонилась.
– Спасибо на добром слове. Не ждали мы гостей, прощения просим.
У пришедшего дернулись брови.
– Ты что, – тихо сказал он, – не признала меня, Татьяна?
– Как не признать – признала. Не ведаю только, с чем ты к нам наведался? Давненько…
Тихон жестом остановил ее речь.
– Прослышал я о безвременной кончине брата… – молвил он горько. – Душой скорблю о глупости и спеси своей, о том, что не успел с ним примириться, прощения испросить, и от него прощение получить. Давно уж обиды не держу… – и засопел, утирая скупые слезы.
Татьяна тоже заплакала.
– И тогда-то мне обижаться не следовало… Да молодой был, горячий. А после гордость проклятая не велела с миром идти. Вот и дождался, что брата в живых не застал. Решил теперь – должен я все, что в силах моих, для племянников сделать. Двор у меня богатый в Киеве – грех на жизнь жаловаться. Князь наш воеводой меня пожаловал.
– А детки-то есть у тебя? – по-бабьи жалостливо спросила Татьяна.
– Сынок… Матушка его родами умерла, сыночка мне оставила. Так и не оженился я в другой раз – не хотел мальчонке мачехи брать… Так что ж – покажешь ли мне племянников?
Татьяна кивнула и кликнула няньку, приказав ей немедля вывести Всеслава и Анну.
Войдя в горницу, Всеслав увидел большого, богато одетого человека с холеной рыжеватой бородой – совсем как у отца.
Да и всем обликом, повадкой так был гость похож на покойного батюшку, что у Всеслава защипало глаза и комок подкатился к горлу.
– Это дяденька ваш, батюшкин брат, – молвила мать, улыбаясь. Всеслав уж и забыл, как она улыбается, а тут, гляди-ка – выглянуло ясно солнышко! Значит, бояться нечего.
Но все же дети заробели – слишком внимательно смотрел на них этот незнакомый пока человек, и глаза у него блестели как-то странно.
– Славный отрок, – молвил он, обращаясь к матери. – Девчонка тоже хороша, да другой разговор. Который годок мальчонке-то?
– Осьмой пошел, – сказала мать, делая шаг к Всеславу, словно испугавшись за него.
– Вот как… – раздумчиво произнес гость. – Что ж, Татьяна, будет у меня к тебе серьезный разговор. Сперва только дай поесть-попить, в баньке попариться, отдохнуть с дороги – а там за дела примусь!
Дядька Тихон и впрямь рьяно принялся за дела. Разбранил всю дворню – зачем ходят нечисто, отвечают дерзко? Зачем в трапезной пыль и паутина, а в бане мокрицы жируют? Отчего постели не перестилают, не трясут? Такого шороху навел – почуяла челядь, что мужик в доме появился, – забегала, захлопотала. А гость долго парился в бане – даже в доме слышны были его уханья и гоготанье, с аппетитом откушал. И от хмельной чарки не отказался, но выпил в меру. Почивать его уложили в лучшем покое, где стены обиты были заморским дорогим полотном, на полу лежали пестрые ковры, вдоль стен стояли скамьи, покрытые пунцовым шелком и бархатом.
В тот вечер, когда гость лег отдыхать с дороги, мать долго сидела с Всеславом и Анной – словно вспомнила о них, очнувшись от долгого, жуткого сна. Снова и снова вглядывалась в лица детей своих, гладила их по головкам, тихонько пела песенки и говорила небывальщину. Впервые со смерти отца в терем заглянул лучик солнца.
Всеслав был рад приезду дяди – он исхитрился с первого знакомства завоевать сердце отрока. Словно вернулись те времена, когда жив был отец. Тихон все свое внимание отдавал мальчонке. Катался с ним по окрестностям, учил стрелять из лука, рассказывал многое, хоть иной раз и непонятно – о проклятых половцах, о княжеских распрях, что мешают процветать земле русской… Большого ума был человек, хоть иногда и забывал, что говорит с несмышленышем. Но вспоминал, начинал речь о понятном – о том, как звериные следы узнавать, как объезживать диких коней… Душой прикипел Всеслав к дядьке и обрадовался, когда тот среди прочего спросил вдруг:
– А что, Всеслав, хотел бы ты со мной поехать?
– Куда? – вскинулся мальчонка. – В Киев-град?
– Вестимо, в Киев, – степенно отвечал Тихон. – Хочешь?
– Очень хочу! – горячо ответил Всеслав и тут же сник. – Вот только мать… Отпустит ли она меня?
– То моя забота. Скажи только ей: хочу, мол. А об остальном я позабочусь.
И действительно, позаботился. В трапезную, где мать с дядькой вели разговор, Всеслава не допустили – хлопнули дверью перед носом. Но он так и простоял в коридоре, прислушиваясь. Знал, что поступает неподобно, да уж больно любопытство обуревало. Но не услышал ничего и едва успел скрыться, когда за дверью послышались приближающиеся шаги и дрожащий голос матери приказал позвать Всеслава.
Войдя в трапезную, сразу понял – мать только что плакала. Глаза ее были красны, но она улыбалась, и дядька улыбался тоже.
– Вот что, сын, – начала мать. – Говорили мы сейчас с твоим дядюшкой. Просил он, чтобы отдала я тебя в учение, в Киев. Будешь жить нахлебником у дядюшки и учиться в школе при соборной церкви. Ну что ж ты, согласен? Говори, не бойся!
– Согласен, матушка, – пробормотал Всеслав, не подымая глаз. Стыдно было чего-то и страшно – вдруг мать так шутит только, а потом передумает?
Но она не шутила. Откинулась к стене и со вздохом сказала:
– Что ж, Тихон, твоя, видать, правда. И то сказать, пора мальчонке себе дорогу в жизни пробивать. С отцом-то был как за стеною каменной, а теперь сам о себе думать должен.
Дядька только кивал головой.
– Вот теперь разумно говоришь, Татьяна. Да не бойся, не украду у тебя молодца. Как кончит учебу – выхлопочу у князя, чтоб послали сотником в новгородскую дружину. При тебе будет твой заступник.
Мать снова всплакнула, но уже чуялось – легки ее слезы. Да и как не поплакать, если сын, первенец, который недавно вроде у груди лежал, уже вырос и уезжает невесть куда, в далекий стольный град?
– Спасибо тебе, Тихон, – сказала сквозь слезы. – Ввек не забуду твоей доброты. Всеслав, благодари дядю!
Всеслав сделал шаг навстречу, хотел было поклониться, но попал в объятия дядьки, и сам неожиданно для себя захлюпал носом. Жаль было матери, что остается, и Нюты – кто теперь с ней играться станет? И радостно было за себя – большая, долгая дорога светила впереди и много еще чего, неведомого пока, но непременно хорошего.
ГЛАВА 2
Едва проторенная дорога вела степью, а над ней нависали тяжелые, разбухшие тучи. С утра морозило, воздух был полон ледяными иглами, но к вечеру потеплело – снеговые тучи укутали землю. Всеслав дремал, покойно закутавшись в отцовскую добротную шубу на хорьке. Дядька же, против обыкновения, был беспокоен – то и дело привставал, бормотал что-то.
– Что, дядюшка? – спросонку встрепенулся Всеслав.
– Ничего. Спи покамест.
– Выспался уж, не хочу больше. Что-то небо так заволокло?
– Это и меня беспокоит. Как бы беды не случилось! Того и гляди, буран начнется, а нам до жилья еще сколько! Места здесь глухие да недобрые, волки ходят стаями… О нынешнюю зиму они злые, голодные.
Всеслав испугался, но виду не показал.
– Бог милует, – сказал смиренно, как матушка бы сказала.
– Так-то оно так. На Бога надейся, а сам не плошай!
– Степан, – обратился дядюшка к вознице, – как ты про погоду мыслишь: завьюжит, ай нет?
Степан, сытый, веселый мужик, привстал и огляделся.
– По приметам, оно и так… Да авось пронесет, боярин!
– Авось, авось… – передразнил его дядюшка. – Все б тебе «авось». А ну как попадем в переделку? А с нами мальчонка, мне за него отвечать. Так что соображай, куда бы к жилью свернуть.
– Сделаем! – откликнулся Степан и привстал. – Эх, по всем по трем, коренной не тронь, а кроме коренной и нету ни одной!
Вдохновленные таким кличем, а пуще ударом кнута, лошади пошли быстрее.
Темнело быстро, тучи из серых сделались черными и нависали тяжко, готовые каждое мгновение прорваться. Порывами налетал колючий ветер… Степан надвинул шапку глубоко на глаза, яростно стегал лошадей по шеям. Всеслав понял – дело плохо.
– Сгинем мы здесь, дядя? – спросил он, надрывая голос, чтобы перекричать завывания ветра.
– Чепухи-то не говори! – отвечал дядюшка. – Оно конечно, тяжко придется. Ну да ничего, Степан – возница бывалый. Из каких мы с ним переделок не выбирались! Помнишь, Степан,
Путшу Черного?
Степан кивнул, но видно было, что ему не до праздных разговоров – закусив губу, он вглядывался вдаль.
– А кто это – Путша? – спросил Всеслав.
– Разбойничек черниговский. Кто мимо его вотчины пройдет – живым не вернется. Кони у него быстрые, товарищи верные, кистень точно бьет. Ну, а мы со Степаном ускакали от него, в дураках оставили…
Сани сильно накренило.
– Что такое! – вскрикнул Тихон. – Что случилось, Степан?
Степан привстал, глаза его сверкали из-под шапки, страшно скалились зубы. Молча указал кнутовищем куда-то в сторону, и Всеслав, хотя не хотел глядеть, взглянул. За санями, почти вровень с ними, бесшумно мчались по голубым сугробам огромные, матерые волки.
Словно кошмарный сон виделся Всеславу, страшная, сладкая жуть. Степан, по пояс высунувшись из саней, кричал что-то дурным голосом. Кони были добрые – злая рыжая кобылка, коренная, рвалась вперед, хрипя. Сильно кидало на ухабах.
Снежная пыль летела в лицо. На особо резком повороте Степан странно дернулся и боком повалился с саней. Дядька Тихон едва поспел перехватить вожжи. Только и слышали, что приглушенный вопль.
Волки отстали. Всеслав сидел, зажмурившись, до боли стиснув зубы. Дядька оглянулся на него.
– Испугался, малец? Степана жаль – хороший был мужик, верный. Кабы не он – нам всем пропасть.
Всеслав не отвечал. Дрожь постепенно проходила, таяла в коленях. Осмелился, наконец, открыть глаза, оглядеться – все так же простиралась равнодушная степь.
Уже совсем стемнело, когда издалека потянуло запахом дыма – жилье было недалеко. Лошадки приободрились, побежали быстрее. Только к полуночи добрались до ночлега.
Дядька Тихон кнутовищем постучал в ворота – двор был маленький, посреди торчало одно дерево, но ворота добрые. Забрехали собаки.
– Кого несет? – через некоторое время послышался недовольный голос.
– Княжеский воевода проездом, – отвечал Тихон. – Пустите, люди добрые, во имя отца и сына и святого духа.
Им отперли ворота, и заробевший сторож проводил в избу. Всеслава дядька усадил в передней на сундук, сам пошел здороваться с хозяином. Вернулся довольный.
– Привел нас с тобой Господь, – сказал мальчику. – Поп местный тут живет. Заробел меня, аж смешно стало. Ты чего дрожишь, замерз? Ничего, сейчас и поешь, и согреешься.
Изба была новая, чистая. Возле входа – рогожа, о которую следовало вытирать ноги. Сразу усадили за стол. У Всеслава уж глаза слипались от усталости, но есть хотелось больше чем спать. Хлопотливая попадья жалела мальчонку: «Куда тебя, родимого, везут в такое время!». Потчевала его, как родного, а потом села, подперлась рукой. Смотрела, как он ест, и все вздыхала.
Отец Кондратий – толстый, мягкий, весь лучащийся неподдельной приветливостью, разговаривал с дядей Тихоном.
– Своих-то детей Бог не дает, – сказал, кивнув на попадью, – Вот и утешается мальчонкой-то. Ну да пусть их, дело ее бабье. А вот скажи ты мне, добрый человек…
И у них потекла своя неторопливая беседа. Всеслав, насытившись, начал дремать. Уже привиделся ему родной дом, высокое крыльцо, мать с отцом, Нюта. Радуется душа, сердце заходится от счастья… Но багровая вспышка освещает сновиденье – и все меняется. Крыша терема объята огнем, вот-вот рухнут стены. Матери с сестрой не видно, а на крыльце лежит отец с разорванной грудью, умирающий, и подает Всеславу с улыбкой страшный кус окровавленного мяса…
Попадья разбудила плачущего во сне мальчика и увела его на скамью, где уже было постелено. Умащиваясь поудобнее, снова проваливаясь в сон, слышал он слова дядьки, который говорил попу:
– Меня с мальчонкой-то, видно, Бог миловал. Думал, не уйти нам, а вот как оно получилось…
– Так, так, – кивал головой поп. – Детская душенька-то чистая, безгрешная…
– Да еще батюшка его покойный, мой брат родной, оберег ему перед смертью отдал. Говорят, святой человек, монах византийский его своими руками сделал. Кто из нашего рода его носить будет – тому счастье и удача во всем придет…
Всеслав подтянул к глазам руку – захотелось посмотреть на перстень. Прижался к нему губами, улыбнулся про себя – вот как, значит, помог батюшкин последний подарок! И, согревшись, заснул.
Наутро тронулись, и уж больше в пути ничего не приключилось. Ярким зимним днем Всеслав с дядькой въехали в славный Киев-град.
Вотчина воеводы Тихона была в селе Берестове. Крепко жил воевода – терем его стоял на фундаменте загородного княжеского замка, где еще князь Владимир Красное Солнышко отдыхал от своих трудов и забот.
– Вот и хоромы мои! – радостно сказал Тихон, выбираясь из саней. – Ты чего заробел? Вылезай-ка, осмотрись.
Всеслав вылез, озираясь. В хоромы вело крыльцо с крутыми ступенями. Красивое крыльцо, гораздо краше, чем в родном доме – все резное, купол луковкой, как на Божьем храме. Кровля шатром, гребень пестрый, вызолоченный. Нижняя подклеть сложена из могучих бревен. Во дворе много всяких строений – погреба, хлева для скотины и даже кузня – оттуда слышался звон, веяло жаром.
На крыльцо высыпала дворня. Всеслав видел – все рады возвращению хозяина, на лицах светятся искренние улыбки. Ветхая старушонка, вся закапанная воском, растолкала остальных, бросилась навстречу и по тому, как засиял ей навстречу дядя, Всеслав понял – это не последний человек в доме.
– Вот, няня, – сказал Тихон после первых приветствий и лобызаний, – это и есть мой племянник, сын Романа.
– Ах ты, соколик ясный! – старушка обратила на Всеслава взгляд своих не по-старчески ясных, живых глаз. – Сиротка горемычная! Да как же ты на батюшку своего похож-то! Иди, иди ко мне, под сизое крылышко!
Всеслав, которому уже порядком опротивело прозвище «сиротка горемычный», приглядывался к ней с некоторой тревогой, словно хотел узнать, где у нее то самое сизое крылышко, под которое следует идти.
– Ну, что ж ты! – подтолкнул его дядя. – Говорю же тебе: не робей! Это моя няня, она и отца твоего баюкала в детстве. Так и зови ее: няня Ольга.
Крепко взял Всеслава за руку и пошел к терему. Несколько шагов оставалось до крыльца, когда по крутым ступеням навстречу им выбежал, словно шариком скатился, щекастый мальчонка одних лет со Всеславом.
– Батюшка! – завопил он не своим голосом и вцепился мертвой хваткой в полу отцовой шубы.
– Ты зачем выскочил? – пожурил его отец. – Недавно только горлом хворал. Опять занедужишь.
Вместе прошли в терем. Сени просторные, на лавках разостланы звериные шкуры. В крестовой палате, куда прошли, не задержавшись, хоромный убор богатый. Всеслав остановился, перекрестился степенно на угол, где висели образа, завешанные парчовым застенком. Дядька Тихон усмехнулся, толкнул в затылок сына.
– Вот, гляди, как себя держать надо! А ты только и знаешь, что носиться, как угорелый, да нюни пускать. Привечай гостя, не рюмься!
Мальчишка, спрятавшись за отца, недобро глядел на Всеслава круглыми, как у кота, глазами. Но поборол себя, сделал шаг и важно сказал:
– Мне батюшка говорил, ты – мой братец. Меня Михайлой зовут. У меня бабки есть новые, и бита со свинцом. Ты драться не станешь?
– Не стану, – ответил Всеслав. Мальчишка, видно, бойкий был, несмотря на толщину.
– Ну, бегите, дружитесь, – усмехнулся дядька. – Да чтоб не задираться у меня!
Всеславу было сейчас не до игр и забав – от долгой езды кружилась голова, ноги были, как из соломы. Можно было бы превозмочь себя, но так было смутно на душе в этом роскошном, незнакомом тереме, что не стал – подошел к дяде.
– Дядька Тихон, – шепнул, – я б прилег где…
– Ах ты, отрок! – всполохнулся дядька. – Я-то, дурень, тебя играться отправляю, а ты на ногах еле держишься!
Сейчас, сейчас уложим тебя. Отужинать хочешь?
– Не хочу, спасибо, – отвечал Всеслав, с трудом превозмогая внезапно навалившуюся усталость.
В горенке, куда его отвели, было жарко натоплено, пахло ладаном и воском. Неугасимо горела лампада у древних византийских образов. В углу хлопотала, взбивая постель, нянька Ольга.
Всеслав заснул, едва голова коснулась пуховых подушек. В полусне слышал он слова старой няньки: снова тихо плакала, называла его соколиком и сироткой. Но эти жалостные слова уже не вызывали досады – они ласкали, убаюкивали. И уже там, за гранью сна, подумалось Всеславу, что не будут его обижать в этом доме.
Несколько дней дал Тихон племяннику, чтобы тот пообвыкся в незнакомом месте, сдружился покрепче с братом и перестал робеть. За эти дни Всеслав успел уже узнать от Михайлы, что тот ходит учиться в школу при Печерском монастыре и его, Всеслава, тоже туда отведут.
– Там монахи ух какие строгие! – пугал его братец, прыгая на одной ножке по половицам. – Ежели не затвердишь буквицу – сразу за розги хватаются.
– Порют? – спрашивал Всеслав, холодея нутром.
– Еще как! Школа это тебе не у няньки за печкой сидеть! Как вгонят тебе ума в задние ворота!
– А если я буду все затверживать? – пугался Всеслав.
– Все равно, – делая круглые глаза, шептал Михайла, – Ка-а-ак вгонят!
Всеслав порядком перетрухнул, но вида не показал. Да и зачем перед дядюшкой позориться? Не для того его в Киев привезли, нахлебником взяли, чтоб он хлеб даром ел да на печи полеживал. Если надо учиться, значит – надо.
Против ожиданий, монахи приняли его ласково. Наставник, молодой инок с небольшой бородкой, с черными, влажными очами, взял его за подбородок, заглянул в лицо.
– Племянник воеводы Тихона? – молвил. – Ну, учись, отрок, Господь с тобою. Не давай лени забраться в душу твою и пребудешь в благополучии.
Всеславу дали дощечку, покрытую воском, и тонкую, остро заточенную палочку – пиши, заучивай, потом стирай. Про такой предмет Михайла ему говорил и показывал даже, так что Всеславу это было не в новинку. Братец показал ему и многие буквы, но Всеслав приметил, что сам-то Михайла не слишком к учению прилежен. То-то он и о розгах часто поминал!
Самому же Всеславу наука показалась в радость. Поначалу было трудно – буквы и цифири никак не застревали в голове, а коли застревали – не складывались в слоги, не подводились под смекальной линией… Но монахи, видя старание отрока, не понуждали его, не наказывали. Суровы были только к ленивым и дерзким. Таким, действительно, «вкладывали ум в задние ворота» и наставник, отец Илларион, качая головой, сам сокрушался над наказанным и чуть не плакал.
Но когда заучились все буквы – учение стало интересным и даже захватывающим. Наказаний Всеслав больше не боялся, знал справедливость наставников, оттого делал все уверенней и не раз заслужил похвалу. Только раз как-то проштрафился, да и то ухитрился выйти сухим из воды. Случилось это так.
Всеслав в тот день кончил урок раньше своих товарищей – написал по памяти несколько слов, которые для писания трудны были. Сидел тихонько, водил палочкой по свободному месту на дощечке, думал о своем. Через некоторое время взглянул на дощечку – а на ней из беспорядочных линий вроде лик чей-то показался. Присмотрелся ближе, приделал ему глаза, губы, плат до самых бровей… И замер сам, пораженный – с липовой дощечки смотрело на него женское лицо и вроде бы – матушкино. Усмехнулся сам своей забаве, начал марать рядом еще лицо – сестру, которой и не помнил уж почти, но все равно скучал. Нюта держится за матушкино платье, а рядом дворовый лохматый пес Бушуй прыгает – играть ему охота…
Всеслав так увлекся, что не заметил, как под линиями его малеванья исчезли написанные слова. Трудился, высунув кончик языка так усердно, что не приметил, как со спины подошел отец Илларион. В то время мальчик как раз любовался только что нарисованным псом – как живой вышел, и даже глаза, кажется, блестят на заросшей морде!
Почуяв на себе чей-то внимательный взгляд, Всеслав вздрогнул и обернулся. Завидев отца Иллариона, покраснел, потом побледнел, уронил доску и не знал, куда деть глаза от стыда. Но отец Илларион на него и не смотрел, а смотрел на оброненную липовую дощечку. Медленно поднял ее.









































