Читать книгу "Дороже денег, сильнее любви"
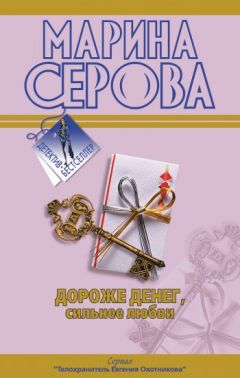
Автор книги: Марина Серова
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Марина Серова
Дороже денег, сильнее любви
Часть первая
Одна дочь на троих
На узкой девичьей ладошке, подрагивая, лежали несколько мелких купюр, прижатых сверху горсткой монет.
– Хватит? – спросила меня совсем юная, не старше тринадцати лет, девочка с двумя милыми тоненькими косичками, спускавшимися по ее плечам.
Серьезные, большие, сильно вздернутые к вискам серые глаза смотрели на меня с глубоко запрятанным в них тревожным ожиданием.
Я тихонько согнула ее пальцы, вынуждая спрятать деньги в кулаке. Спросила осторожно:
– Хватит – на что? На последний диск Димы Билана? Или на два похода в кафе-мороженое? Наверное, хватит.
В разговоре с детьми вообще и с подростками в особенности я порой принимаю какой-то преглупый тон.
Ну зачем я, скажите мне, упомянула кафе-мороженое? Такие смешные девчонки с косичками, перехваченными у концов цветными шнурками, и в ярких майках с Микки-Маусом, едва доходящих им до живота, в кафе-мороженое не ходят. Они предпочитают тусоваться в каких-нибудь модных фан-клубах или на дискотеках, являясь домой сильно за полночь и вынуждая родителей галлонами закупать в аптеках валериановые капли.
Девочка посмотрела на меня, сердито сдвинув белесые, совсем детские бровки:
– При чем тут ваш Билан? Я его вообще терпеть не могу! И мороженое тут тоже ни при чем! Я пришла нанять вас. Мне сказали, что вы – телохранитель. Я… – и кулак разжался, снова являя миру скомканные бумажки, пересыпанные монетами, – я могу заплатить вам… вот столько, – голос ее дрогнул. – Этого мало, да? Но, честное слово, это все, что у меня есть… Я… я потом еще принесу. Я буду копить, я буду все откладывать, я…
Внезапно она разрыдалась, подняв к лицу стиснутые кулачки.
Деньги с шелестом и звоном посыпались на пол лестничной клетки.
Девочка наклонила голову с ровным пробором в русых волосах, и эта узенькая дорожка пробора, так аккуратно разделявшая головку на две половины, и полоска белой шеи, похожей на жалкий стебелек полевого цветка, заставили сжаться мое, в общем-то, ко всему привычное сердце.
– А ну-ка, входи, – я взяла ее за плечо и силой заставила войти в квартиру. – Нечего стоять на лестнице и мочить слезами ступени, тем более что их все равно недавно помыли. И реветь не надо. Важные денежные клиенты, которые приходят нанимать себе телохранителя, должны соблюдать достоинство и смотреть на все сверху вниз.
Но девочка не приняла моего шутливо-ободрительного тона.
Хлюпая враз покрасневшим носом, она вытирала слезы тыльной стороной ладоней и кривила губы, готовясь вот-вот выдать мне новую порцию плача.
Чтобы опередить ее, я быстро сказала:
– А правда, ты мороженого не хочешь? Шоколадного, с вафлями и орехами?
От неожиданности она часто-часто захлопала мокрыми глазами. Я еще раз подумала, какие они странные, эти глаза: вздернутые к вискам веки делали девочку похожей на японку. Если бы кто-нибудь когда-нибудь встречал японку с серым цветом глаз и таким вот курносым, чуть затупленным на конце носиком.
Ну и потом, эти ресницы. Нет, такие длинные ресницы бывают только у наших русских девчонок. И когда-нибудь, лет этак через семь-восемь, этими самыми ресницами плачущая сейчас передо мной девочка будет сводить мужчин с ума и спокойно перешагивать через их распростертые в немом обожании по асфальту тела.
Но сейчас – сейчас она выглядела довольно жалко. Хотя и утешилась немного, когда я провела ее в кухню и, усадив на стул, вручила так кстати задержавшийся в морозильнике брикетик шоколадного мороженого.
– Мое любимое! – обрадовалась она, как ребенок. Впрочем, она и была ребенком. – Спасибо. А вы?
– Я не очень люблю сладкое.
Девочка посмотрела на меня изумленно – может быть, удивилась тому, что кто-то в этом мире может не любить сладкое, а может, едва сумев удержать вопрос: «Если вы не любите мороженое, то зачем же его покупаете?»
Хотя как раз на этот вопрос ответить было бы проще всего. Я действительно не люблю сладкое, и вовсе не потому, что стараюсь беречь фигуру для романтических приключений. Моя профессия – а я работаю телохранителем по найму – вот что обязывает «держать форму» в любое время суток. Для этого нужно регулярно посещать спортзал, тир, аэродром, ну и в том числе – придерживаться правильного режима питания, который рекомендует исключить из рациона всякие вредные углеводы. А кроме того, мой отец-генерал с детства не слишком-то баловал дочку сладким, предпочитая простую солдатскую пищу вроде щей да каши.
Правда, теперь мои связи с отцом разорваны. Будучи человеком, как сейчас модно говорить, «толерантным», то есть снисходительным ко всякого рода человеческим слабостям, я все же не смогла простить отцу его скороспелой женитьбы – через месяц с небольшим после смерти мамы. Он женился на какой-то длинноногой хабалке с хищным выражением лица, которой во что бы то ни стало хотелось повысить свой социальный статус до звания генеральской жены.
Я ушла из дома за два дня до того, как туда переехала отцовская пассия, и поселилась у тети Милы – единственной родственницы, которой до меня было дело.
Моя тетя Мила – вот кто ужасная сластена, и, когда на нее нападает стих «побаловать себя вкусненьким» (а этот стих на нее нападает ежедневно), она обычно запасает этого вкусненького полные закрома. Наш холодильник, как правило, забит под завязку мороженым, шоколадными батончиками, йогуртами и всякого рода ягодными муссами.
Но как раз недавно тетя Мила приняла очередное героическое решение – сесть на диету. И вот уже три или четыре дня она покупает для себя в магазине только вареный шпинат, на который взирает с таким же отвращением, с каким, наверное, смотрели друг на друга царь Иван Грозный и сын его Иван за минуту до знаменитого удара посохом по затылку.
Из прежнего опыта я знала, что желание стать похожей на красотку из модного журнала растает в тете Миле, самое большее, через неделю, и вытуренные из дому сдобные булочки с вареньем вот-вот снова займут свое почетное место на нашем большом кухонном столе, покрытом симпатичной скатертью в бело-синих цветочках.
Но пока – пока из всех лакомств в холодильнике тихо мерзла одна-единственная пачка мороженого, которую я и вручила заплаканной девочке с неподобающей этому случаю торжественностью.
– Угощайся! И не расстраивайся. Все в мире поправимо. Уж не знаю, какое у тебя там случилось горе, но думаю, что оно мне вполне по силам. Извини за любопытство, а зачем тебе телохранитель? Кому-то по шее надо накостылять, да? А кому? Мальчишкам? Из-за того, что за косички дергают?
Она замотала головой и положила ложку на тарелку.
– Не надо… не надо считать меня дурочкой из переулочка. Вы думаете, что я такая глупая и ничего не понимаю? Тем, кто меня за косички дергает, я сама сдачи даю, не сомневайтесь. А тут… Скажите, Евгения Максимовна, а вы правда согласитесь, чтобы я вас… Вы правда будете на меня работать?
Теперь девочка смотрела на меня, набычившись и нервно кусая тонкие губы. В ее удлиненных глазах снова стала собираться влага.
– Как тебя зовут? – спросила я вместо ответа.
– Аня. Вы правда будете на меня работать?
– Я тебя где-то видела. Откуда ты узнала, что я работаю телохранителем?
– Мы с вами живем в одном доме, вы в третьем подъезде, я – в одиннадцатом. О вас в нашем дворе все знают. А вы правда будете на меня работать?
– Давай так: сперва ты расскажешь мне, какое у тебя горе, хорошо? А там посмотрим. Может быть, я смогу помочь и без того, чтобы подписывать с тобой контракт.
Очень уж было жалко этого ребенка – вид у нее и в самом деле был очень несчастный. Ну а кроме того, не говорить же ей, что мои услуги стоят от пятисот до двух тысяч долларов в день, и это еще не считая расходов по делу!
* * *
Оказывается, Аня Стоянова, так звали мою неожиданную клиентку, пришла ко мне просить защиты от… собственных родителей.
Да-да, от папы и мамы! «От папы и Гульнары Сабитовны», – уточнила Аня, посмотрев на меня очень строго. Родную мать называть мамой она почему-то категорически отказывалась.
– А с кем ты сейчас живешь?
– С мамой! – выкрикнула девочка, резко вскинув голову. Тоненькие косички взметнулись, она сердитым движением отбросила их за спину. – То есть… ну да, с мамой! Хотя все говорят, что она мне мачеха. Но это не так, понятно? Все это вранье! Я живу с мамой, и она мне не мачеха, а мама, и знаете почему? Потому что она меня любит! Понятно?!
– Да уж куда яснее, – пробормотала я.
Действительно, возразить что-нибудь на это было бы сложно.
Вот что она мне рассказала.
* * *
Мачеха очень любила Аню.
В этом можно было бы усомниться – ведь, в конце концов, падчерицы почти всегда уверены в обратном. Неродной матери, особенно если девочка знает, что мать ей неродная, трудно доказывать ребенку свою любовь. Но у Аньки была другая ситуация – она обожала Елену Вадимовну, которая появилась в их доме на шестой год после того, как девочке сказали о смерти мамы, когда самой Аньке только-только исполнилось девять лет.
Высокая, худощавая, всегда подтянутая и всегда строгая, Елена Вадимовна, однажды явившись, внесла в их дом покой и порядок.
До сих пор Анька с отцом жили ужасно безалаберно. И дело было даже не в том, что картошка у них хранилась в грязном мешке под вешалкой, а соль – в банке из-под кофе с кривой надписью «Гречка». Ужас был в том, что дочь с отцом вообще отвергали какой бы то ни было режим и элементарные понятия о долге и ответственности за собственное будущее. Спать они ложились не тогда, когда стемнеет, а когда не лечь уже было просто невозможно – глаза слипались, и утро зачастую заставало их на полу перед работающим в пустоту телевизором. Ели тоже что придется, порою даже и сухие макароны, которые было просто лень варить, и они с хрустом уходили так, как есть, под жаркие споры о только что прочитанной книге или просмотренном фильме.
Когда Юрию Стоянову, Анькиному отцу, говорили, что дочь его ходит в школу в грязной юбке и драных ботинках, он искренне удивлялся, как только может удивляться человек, постоянно погруженный в творческие искания. Анькин отец был художником, точнее – иллюстратором в одном издательстве художественной литературы, но все свободное время посвящал не созданию нового образа Царевен-Лягушек и всяких там Маугли, а своей «заветной», как он ее называл, работе: написанию портрета некой Прекрасной Незнакомки. Портрета этого никто не видел, но, судя по тому, что Юрий Стоянов то и дело запирался в комнате, заменявшей ему мастерскую, и, с треском разрывая одни листы с карандашными набросками, тут же принимался накидывать новые, Незнакомка виделась художнику каждый раз по-разному – смотря по настроению.
Анькина мама погибла в автокатастрофе где-то в горах Кавказа, едва только девочке исполнилось три года. «Осиротила» – так говорили о ней соседки, вздыхая вслед неухоженной девочке с кое-как заплетенными косичками – на конце каждой из них вяло болталась мятая ленточка, всегда одна и та же. «Сиротинка!» – было вторым словом, которое слышала Анька от соседок в свой адрес, но, в отличие от первого, этого слова она не понимала или, во всяком случае, не примеряла его на себя: своего сиротства девочка не ощущала.
Они с отцом души не чаяли друг в друге. Их отношения в немалой степени базировались на сообщничестве: если Юрию Стоянову случалось безбожно задержать заказанный издательством эскиз очередной обложки (причиной чему нередко становились шумные холостяцкие посиделки в их квартире, когда пиво лилось рекой и Аньку никто не выставлял из комнаты, даже в разгар особенных мужских откровений), то наутро Анька звонила папиному главному редактору и нарочито плаксивым голосом говорила:
– Ой, Павел Андреевич, я не знаю, что мне делать! У папы такая температура, я всю ночь ему полотенце на голове меняла… Сыпь такая выступила страшная по всему телу… И глаза красные, а нос, наоборот, белый… У него грипп, наверное… или этот, тиф… или клещевой энцефалит? Я не знаю, я так боюсь…
– Что ты говоришь, Анечка!
– Честное слово! Но вы знаете, самое страшное, что папа сейчас на работу, к вам то есть, собирается… Сам на ногах стоять не может, горячий, как печка, шатает его – а хочет из дому выйти, чтобы к вам… Вы ведь знаете папу, Павел Андреевич, – он у меня такой ответственный!
– Девочка, скажи ему, что я приказываю, слышишь, ПРИКАЗЫВАЮ ему сидеть дома и никуда не ходить – тем более к нам в редакцию! – впадал в панику главный редактор, испуганный перспективой занесения в трудовой коллектив неизвестной заразы. – Заставь его сидеть дома и лечиться, лечиться и лечиться!
– Да, Павел Андреевич… Я скажу ему, надеюсь, папа вас послушается… Спасибо вам…
Трубка клалась на рычаг, и Юрий Стоянов, потрепав Аньку по всегда растрепанным волосам, с вороватым видом отправлялся в соседний ларек за пивом.
А если (случалось и такое) Анька сама прогуливала ненавистную ей математику, то на арену выступал уже отец. Его разговор с классной руководительницей дочери напоминал приведенный выше диалог, вплоть до плаксивых интонаций. И, как правило, он тоже заканчивался тем, что Аньке отпускались все ее школьные грехи – вплоть до полного «выздоровления».
И вот, когда худенькая (здоровья такой образ жизни не прибавлял) девочка с переброшенными на грудь косичками с грехом пополам перешла в третий класс, в их доме появилась Елена Вадимовна.
* * *
Анька хорошо помнила тот день: она ползала по разложенным по полу листам картона и, усиленно помогая себе языком, пыталась с помощью отцовских масляных красок изобразить знаменитую битву между индейцами племени черноногих и американскими войсками (об этом захватывающем событии она только что просмотрела фильм), когда услышала над головой спокойный низкий голос:
– Ну, здравствуй, Аня.
Подняв голову, девочка увидела перед собой внимательные карие глаза, полукружья изящных бровей и густые каштановые волосы, аккуратно, волосок к волоску, собранные в замысловатую прическу.
Женщина была неулыбчива, строга и потрясающе красива.
– Здравствуй…те, – пробормотала Аня, поднимаясь с коленок. Всегда такая боевитая, она вдруг ужасно заробела под этим изучающим взглядом.
Правда, прошло совсем немного времени, и Анька уже совершенно точно узнала, что эти удивительные глаза вовсе не всегда были такими строгими. Они, эти глаза, излучали и ласку, и тепло, и любовь – девочка очень быстро научилась понимать это и часто, усевшись рядом с Еленой Вадимовной на диване, прижимаясь к ней и чувствуя на своей голове теплую ладонь, гадала: как сейчас смотрит на нее… мама? Задумчиво, ласково или осуждающе? Так тоже случалось, когда в ее дневнике появлялась противная двойка. И тогда, возвращаясь из школы, прежде чем войти в свой подъезд, она несколько раз с тоской обходила двор. Не наказания боялась Анька, не того, что вместо телевизора ее опять засадят за учебник, а этого пугающего перехода, когда теплый, ласкающий свет в глазах Елены Вадимовны сменится холодным неодобрением и в голосе ее прозвучит искренняя обида:
– Как же так, Аня? Ты же мне обещала!
Она действительно обещала ей, обещала учиться на одни пятерки («честно-честно!»). Это обещание было торжественно преподнесено Анькой в качестве свадебного подарка папе и Елене Вадимовне. Свадьбы, собственно говоря, никакой не было: просто в один прекрасный день Елена Вадимовна, которая с того памятного дня стала частым гостем в их доме, положила руку на Анькину голову (как девочка любила эту руку!) и, присев рядом с ней на корточки, очень серьезно спросила:
– Аня… Мы с твоим отцом хотим пожениться. Ты нам разрешаешь? Хочешь, чтобы мы жили все вместе… всегда?
Глотая невесть откуда взявшиеся слезы (увидев эти слезы, Елена Вадимовна смутилась – в первый и последний раз, сколько ее помнила Анька), девочка схватила ее вторую руку и поцеловала ее…
* * *
А потом они, все втроем, сидели за празднично накрытым столом на их кухне (просто удивительно, как преобразилась эта всегда неуютная кухня с приходом Елены Вадимовны!) и ели бутерброды, и пили шампанское, и даже Аньке налили немножко, и она охмелела – то ли от счастья, то ли и вправду от шампанского, – и говорила-говорила-говорила, и смеялась, и снова плакала, и просила у Елены Вадимовны разрешения называть ее мамой, и предлагала в обмен прыгнуть ради нее с пятого этажа или учиться на одни, исключительно только одни пятерки («честно-честно!»), а папа говорил: «Да ты пьяная, Анька! Лена, посмотри на нашу дочь – она же законченная пьяница!» – и смеялся, обнимая жену, и Елена Вадимовна тоже смеялась, обнимая Аню, а Анька хохотала и, раскинув руки, обнимала их обоих…
Елена сумела многое, очень многое изменить в их доселе холостяцкой жизни. Исчез протертый во многих местах ковер в гостиной перед телевизором, на котором они с отцом так беззаботно проводили свои лучшие часы. На его месте появился модерновый стеклянный столик с дубовыми ножками и пушистый палас с раскиданными по нему турецкими подушками с кисточками на углах. В прежде пустой кухне, где много лет ворчал холодильник и не было ни одной приличной посудины, поселились веселенькие кастрюльки с блестящими, как зеркало, боками и такие же сверкающие сковородки.
Изгнали из кухни и колченогие табуреты с выступающими посредине щепками и гвоздями, прописав на их место изящный «уголок» с мягкими сиденьями. Понятия «перекусить» или «перехватить», «заморить червячка» навсегда исчезли из их жизни, уступив место полноценным завтракам, обедам и ужинам.
Анины косички, прежде напоминающие метелочки, теперь походили на крепкие шелковые канатики, аккуратнейшим образом перевязанные атласными ленточками. Елена Вадимовна перебрала содержимое Анькиного шкафа и безжалостно выкинула в мусоропровод тесные юбки, протертые на локтях свитера и порванные колготки. Их место на полках заняли вкусно шуршащие пакеты с новыми вещами.
Сам Юрий Адамович, с непривычки чувствуя себя несколько скованно в новом костюме и рубашке с модным отложным воротничком, каждое утро чинно отправлялся на работу и каждый вечер в точно обозначенное время приходил обратно. Анька видела, как присмирел и немножко поскучнел ее отец, но ни она, ни он о возвращении к прошлому не мечтали. И не потому, что им так уж понравилась эта сытая и уютная жизнь. Просто они оба любили Елену Вадимовну и не променяли бы ее ни на одно свое прежнее воспоминание.
Портрет Прекрасной Незнакомки был, наконец, закончен. И, по настоянию Аньки, висел на самом видном месте в их гостиной: большой, заключенный в массивную раму портрет стройной женщины с высокой прической и внимательными карими глазами. Художник разгладил еле заметные морщинки на этом прекрасном лице, заложил в уголки губ загадочную, как будто неземную улыбку и нарядил Елену в старинное темно-вишневое бархатное платье с рукавами-буфами, длинным шлейфом и расшитым лифом, полускрытым под наброшенной на плечи соболиной ротондой. Ничего подобного в гардеробе Аниной матери никогда не было, так же как и не было у нее изображенной на портрете длинной нитки серого жемчуга. Но Анька никогда не сомневалась в том, что именно этот наряд как нельзя лучше соответствовал образу Елены Вадимовны…
* * *
Несколько лет они жили душа в душу. «Образцовая семья», – так говорила о Стояновых Анина классная руководительница. Кажется, они даже ни разу не ссорились друг с другом – во всяком случае, Анька не могла вспомнить ни одного мало-мальски серьезного конфликта между ней и матерью или между мамой и отцом.
До поры до времени…
Все началось сразу, вдруг – вот уж поистине, «в один несчастный день»! В этот день, двадцать третьего июня, Аньке исполнилось двенадцать лет.
Вечером ждали гостей, и Елена Вадимовна отправила Аньку в ближайший магазин, закупить хлеба и еще чего-то недостающего для праздничного стола. Размахивая хозяйственной сумкой, девочка пересекала двор и вот-вот должна была свернуть к ближайшему гастроному, когда из-за беседки, где любили собираться окрестные мальчишки, ее окликнули:
– Аня! Аня!.. Девочка, ведь ты – Аня?!
Она остановилась.
– Господи, большая какая… Аня, Аня! Ну иди же ко мне, дочка!
Вне себя от удивления, она обернулась.
Солнце светило вовсю, пересекая двор широкими лучами цвета растопленного масла. Тенистый островок образовывался как раз около беседки – там росло несколько старых тополей с пышными кронами. И в этой полускрытой в ажурной тени беседке Аня различила чью-то высокую фигуру.
Человек в беседке сделал несколько шагов навстречу девочке, вышел на свет, и тогда она увидела, что это женщина. Одетая в черную шелковую блузку и такие же черные брюки – это в тридцатиградусную-то жару! – незнакомка сильно напугала Аньку, хотя девочка была не из пугливых. Она быстро пересекла двор, подошла к девочке и вдруг – протянула руки, сжала ее голову в сухих теплых ладонях:
– Аня, Аня! Как же ты выросла, дочка! Но я тебя все равно сразу, сразу же узнала!
Она говорила громким страстным шепотом и впивалась в Анино лицо своими огромными, сильно приподнятыми к вискам глазами, так странно похожими на Анины. Глаза у нее были тоже темные, под стать одежде. И на дне их разгорался черный сухой огонь.
Аня чуть было не вскрикнула, но сдержалась и, вместо того чтобы завизжать на весь двор, как резаный поросенок, попробовала резко высвободиться. Перстни, которыми были унизаны руки страшной черной женщины, царапали ее щеки.
– Постой, погоди! – Отпустив ее голову, женщина взяла Аню за плечи, присев перед ней на корточки. – Я напугала тебя, напугала, да? Прости. Девочка, дочка, ты меня не бойся. Ты знаешь, кто я? Знаешь? Знаешь?!
От этого вопроса, повторенного трижды и произнесенного глухим свистящим шепотом, Ане стало еще больше не по себе. Она зажмурилась и открыла рот, готовясь все-таки закричать.
– Не бойся, не бойся! Анечка, дочка, я сейчас уйду. Я посмотрю на тебя – и уйду, ты меня не бойся. Я…
Внезапно она перестала шептать и, схватив Аню за руки, стала жарко осыпать эти руки, плечи, шею, лицо девочки частыми поцелуями. Аня делала попытки вырваться, но женщина придерживала ее за руки и целовала, целовала, а потом и вовсе замерла, низко-низко наклонив голову и прижав к своему лицу Анины ладошки, которые так и не выпустили пустую хозяйственную сумку.
В этой позе она стояла не менее десяти минут. Потом женщина вновь подняла голову, и Аня увидела, что она плачет.
– Прости… прости меня, девочка. Я сейчас уйду. Боже мой, боже мой… какая большая…
Она легко поднялась, машинально оправила на себе блузку, прическу из длинных, жгуче-черных волос, нервно поправила перстни, провела пальцами под веками, стирая остатки слез. От ее былого волнения, казалось, не осталось и следа – разве только этот сухой огонь в больших глазах со странным разрезом, так похожих на Анькины.
– Кто вы? – наконец решилась спросить девочка.
– Что? Кто я? Кто я… А ты знаешь, пожалуй, уже и никто, – ответила та, нервно засмеявшись. – Никто! Пока никто. Но скоро мы будем с тобой вместе, мы опять будем вместе… Совсем скоро. Ты скучала по мне? Скучала?
– Нет! Не скучала, совсем! Я вас в первый раз вижу! Я не знаю, кто вы!
– Да-да, – шептала женщина, пребывая все в том же лихорадочном состоянии. – Ты не можешь меня узнать, не можешь меня любить, ничего этого пока нельзя, я знаю… Но совсем скоро все изменится. Ах как скоро! Я пока не могу тебе больше сказать… да, пожалуй, пока и не нужно…
С трудом оторвав горящий взгляд от замершей девочки, женщина принялась лихорадочно шарить у себя в сумке. Сумка была большая, тоже черная и болталась у незнакомки на плече.
– Вот, – на свет появился вчетверо сложенный листок в клеточку, совершенно такой же, какие были в Анькиных тетрадках по ненавистной ей математике. – Девочка, это нужно передать папе… твоему папе… Сегодня же. Ведь ты сделаешь это для меня? Правда? Ты передашь?
Аня отступила на шаг.
– А что это?
– Ах, ничего особенного. Не бойся, что же ты испугалась? Это записка, просто записка… Вы же в школе пишете друг другу записки? Вот и я тоже написала, для твоего папы. Привет от старой знакомой. Так ты передашь?
Аня пожала плечами и кивнула – против своей воли. Она отчего-то чувствовала, что не должна принимать ничего от этой женщины, но у нее не хватило смелости отказаться, тем более что та снова схватила ее за руку:
– Ты не обманешь меня? Ты точно передашь?
Записка как-то сама собой вползла в Анину ладонь.
Забыв о магазине, о поручении Елены Вадимовны и даже своем дне рождения, девочка наконец оторвалась от этой страшной женщины и опрометью бросилась назад, домой, ничего не сказав незнакомке и ни разу на нее не оглянувшись…
* * *
– Что с тобой? А где хлеб, молоко? Что с тобой, Аня? Где ты так долго пропадала?
Елена Вадимовна, с выпачканными в муке руками, в фартуке и косынке, покрывающей высокую прическу, встретила ее у порога и сразу же забросала вопросами.
Ане было почему-то стыдно рассказывать о встрече с той женщиной, хотя она и не чувствовала за собой никакой вины. Поэтому она поступила просто: не отвечая ничего Елене Вадимовне, не раздеваясь и не разуваясь, она прошла через коридор в кухню, где папа трудился, отделывая отбивные, и положила перед ним записку – прямо рядом с грудой сырого мяса.
– Что это? – удивился он.
Елена Вадимовна молча стояла в дверях.
– Чудеса в решете, – сказал Юрий Адамович и, поскольку Аня ничего не ответила на его вопрос, вытер руки о переброшенное через плечо полотенце и взялся за записку.
Едва пробежав глазами первые строчки, Анин отец побелел как полотно. На лбу его выступили крупные бисеринки пота, такими же каплями покрылись и ранние залысины у висков. По-прежнему стоя у порога, Елена Вадимовна смотрела на него, ничего не спрашивала и ничего не говорила.
– Где ты это взяла? – спросил он изменившимся голосом.
– Там. – Анька махнула рукой в сторону окна.
– Где – там?
– Во дворе. Там какая-то тетя… странная. Она меня целовала, – вспомнив об этом, девочка зябко повела плечами.
– Лена… Аня… девочки… я сейчас приду. Я ненадолго.
– У нас скоро гости, – напомнила Елена Вадимовна.
– Да, конечно. Я ненадолго.
Было видно, что Анин отец очень торопится выйти из квартиры, но все же он вернулся из коридора, чтобы сменить домашнюю рубашку на одну из тех, нарядных, которые, выглаженные Еленой Вадимовной, ровными рядами висели в платяном шкафу.
И еще он заглянул в ванную, чтобы охладить свое разгоряченное лицо под струей ледяной воды. В приоткрытую дверь Анька видела, как широкие ладони, плеснув воду, на несколько секунд задержались на лице, закрывая глаза и щеки.
Они у отца дрожали, эти руки.
Потом он ушел, негромко хлопнув дверью, а Аня, переведя взгляд на Елену, увидела, что та смотрит на нее такими же расширенными, ничего не понимающими глазами.
* * *
Отец вернулся примерно через час, и все время, пока собирались гости, пока они сидели за столом, угощались, пили, поздравляли Аньку, его почти нельзя было узнать. Он был какой-то потерянный, задумчивый и, казалось, с трудом постигал, что вокруг него происходит.
Когда его просили передать соль или хлеб, он вздрагивал, поднимал глаза от своей пустой тарелки и непонимающе смотрел на собеседника. Над ним подшучивали, одергивали. Юрий Адамович улыбался жалкой, вымученной улыбкой и снова постепенно погружался то ли в задумчивость, то ли в оцепенение.
Гости разошлись, оставив Аньке целый ворох подарков.
Родители домывали в кухне посуду, а девочка, розовая после душа, переодевшись в пижаму, забралась к себе в кровать вместе с дареными книжками, футболками, модным DVD-плеером. Последняя вещь вызвала у нее особенное восхищение: плеер имел функцию диктофона, и девочка, повертев его в руках так и эдак, решила, что непременно должна сейчас же записать чьи-нибудь голоса.
Соскользнув с кровати, Анька прокралась к плотно прикрытой двери кухни и, стараясь не дышать, просунула плеер-диктофон в щель под дверью. Она не то чтобы сильно хотела узнать, о чем там секретничают ее родители, а просто было интересно, как работает машинка.
Машинка, как оказалось, работала превосходно. Когда, стараясь ступать как можно тише, Анька вернулась к себе в комнату и, закрывшись одеялом с головой, прослушала запись – все мигом перестало представлять для нее интерес: и прошедший день рождения, и подарки, и мысли о том, как уговорить завтра Елену Вадимовну сходить в зоопарк посмотреть на розового фламинго…
– …это ее родная мать! Гульнара чуть с ума не сошла, когда увидела Аньку. Восемь лет не видеть родную дочь и даже ничего не слышать о ней, не знать… Елена, ты просто не можешь себе это представить! Это ужас для женщины, – услышала Анька возникший из динамика рвущийся отцовский голос.
– Да, конечно. Этого я себе не представляю. Но зато представляю другое: что такое девять лет воспитывать ребенка, опекать его, заботиться… а главное… любить его! Вот это, Юра, я очень хорошо себе представляю.
– Неужели тебе не жалко ее?
– Кого? Аню? Или эту… прости, как, ты сказал, ее зовут?
– Гульнару.
– Ее – нет.
– Но она – мать…
– Это я – мать!
– Она родная мать…
– Спасибо, что напомнил, – голос Елены Вадимовны сразу стал суше и как-то отстраненнее. – Всегда я не любила истертых фраз, но знаешь, нельзя не вспомнить: не та мать, которая родила…
– Да-да… И я, и Анька тебе очень благодарны, поверь… но…
– Благодарны?!
– То есть я не то хотел сказать, нет, конечно, не то… мысли путаются… Лена, я… Я не хочу сейчас обсуждать, кто рожал и кто воспитывал Аньку. Так получилось, что нас сейчас около нее трое и она всем нам дочь… Я… у меня сейчас голова лопнет, честное слово…
– А ты выпей воды и иди спать. – Анька впервые слышала, чтобы мама говорила с такой жесткой насмешкой. – Если хочешь, мы поговорим об этом завтра, хотя я лично не вижу, о чем нам говорить. Просто не вижу темы. Ты хочешь устроить им свидание? Так или нет?
– Если ты позволишь…
– Только в моем присутствии.
– Хорошо, пусть так.
– И потом она уйдет. Навсегда!
– Лена, пойми, ей некуда идти…
– Пусть уходит туда, откуда пришла.
– Это значит – на верную смерть, Лена.
– Ты преувеличиваешь.
– Нисколько. Ты не знаешь нравы этих людей… Эти дикие, варварские обычаи… сбегая из дома мужа, Гульнара опозорила его семью и семью своих родителей… Ее обязательно убьют – не муж, так братья… Там…
– Оставь, мне это неинтересно.
Ох, как хорошо работал диктофон! Несмотря на то что оба родителя замолчали, Аня отчетливо слышала тяжелое дыхание отца и легкое позвякивание посуды – Елена Вадимовна ставила вымытые тарелки на сушилку.
– Юра, пойми… – Мама первая прервала молчание. – Я столько лет хранила и оберегала нашу семью… Я так старалась стать вам обоим – тебе и Ане – родной и необходимой…
– Леночка, ты нам родная и необходимая!









































