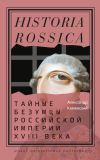Текст книги "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности"

Автор книги: Мария Лескинен
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
М. В. Лескинен
Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности
Моим родителям – Войтто и Антонине Лескинен
© Лескинен М.В., текст, 2010
© Издательство «Индрик», оформление, 2010
* * *
Введение
Процесс формирования национального сознания есть процесс самоидентификации этнической общности, социальной группы и культуры. Но самоидентификация всегда осуществляется через отношение к другому через его опознание. Одним из первичных ее инструментов является описание себя и «другого» («иного»), оно структурирует «свое» и «чужое» пространства, разделение на которые является культурной универсалией[1]1
Лотман Ю.М. Понятие границы // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Семиосфера. М., 1999. С. 175.
[Закрыть]. Самоописание и представления о «других» позволяют индивиду и группе утвердить способы самосохранения, защиты и воспроизводства традиции, типизировать явления и объекты окружающей среды, определить границы собственного пространства (в семиотическом смысле) и выработать стратегию поведения во взаимодействии с другими социальными группами.
Идентификация наций и осмысление категорий «национального» и «этнического» в европейской культуре XVIII – начала XIX в. осуществлялись при помощи хорошо изученных сегодня механизмов, среди которых описание – как задача и как метод освоения «своего» пространства, природных и человеческих ресурсов – занимало весьма важное место. Каталогизация и классификация не только фиксировали место человека и человеческих сообществ в естественнонаучных системах, но и производили семиотическое систематизирование признаков идентификации – как физических, так и аксиологических. Но эти процессы происходили в умах лишь немногочисленной части общества, т. е. в сознании элит.
Одной из проблем изучения иерархии идентичностей в период формирования наций является разграничение как «объективной» идентификации – извне, средствами науки, так и ее субъективированной формы – самоидентификации в различных культурных срезах. Именно это несовпадение вызывает полемику по вопросу о природе и сущности этничности, которая представляется центральным звеном в цепи рассуждений о методах изучения и интерпретации тех форм, в которых происходит осмысление так наз. «мы-идентичностей». Их эволюция и функции оцениваются в современных гуманитарных науках по-разному. Конструктивистская парадигма исходит из постулата, что политическое и культурное самосознание вырабатывается всеми социальными группами сообщества[2]2
Комарофф Аж. Национальность, этничность, современность: политика самосознания в конце XX века // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. С. 41.
[Закрыть], а идентичности – нация и этнос – являются продуктом конструирования элит[3]3
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1870 года. СПб., 1998. Нации и национализм. Антология. М., 2002; Коротеева В.В. Теория национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999. Национализм и формирование наций: Теории, модели, концепции. М., 1994. Следует отметить, что существуют и более сложные модели описания позиций и функций интеллектуалов в построении концепций, основанных на понимании «инаковости» (в частности, разделение по степени отождествления «другого» с «чужим» – Bauman Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. London, 1995).
[Закрыть]. Взгляды, альтернативные конструктивистским, определяются как примордиалистские; они господствовали в российской и советской социальных науках вплоть до 1990-х гг.: их последователи считают возможным изучение народов и наций как «объективно», т. е. в действительности существующих общностей, многие свойства которых являются врожденными[4]4
Анализ позиций примордиалистов и конструктивистов по вопросу содержания понятий «этничность» и «нация»: Скворцов Н.Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб., 1996; Рыбаков С.Е. Философия этноса. М., 2001 (в них же – основная библиография по этой теме); Соколовский СВ. Институты и практики производства и воспроизводства этничности // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 11. М., 2005. С. 144–175.
[Закрыть]. Однако и в том и в другом случае роль социальной элиты в создании и внедрении ряда важнейших представлений народа-нации о себе признается неоспоримой, так как в эпоху модернизации она не только формулирует и обосновывает базовые представления и ценности сообщества, но и внедряет их при помощи инструментов просвещения и социализации. Наука начиная с эпохи Просвещения играет в этом процессе определяющую роль. М. Фуко рассматривал историю гуманитарных дисциплин в контексте разработанной им концепции «дисциплинарной власти», в соответствии с которой наука репрезентирует и воспроизводит представления о норме, «правильности», идеи пользы и права, разного рода иерархии и т. п. Процесс, сопутствующий формированию различных видов самоидентификаций, может рассматриваться и как продукт социального габитуса[5]5
Элиас Н. О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения // Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2-х тт. М.; СПб., 2001. Т. 1. С. 109–301; Бурдье П. От правил к стратегиям // Бурдье П. Начала. М., 1994. С. 93–116.
[Закрыть], но и в этом случае обоснование всякой социальной (национальной и этнической в том числе) принадлежности интерпретируется как техника манипуляции, направленной на «углубление и укрепление мы-чувства, ориентированного исключительно на национальную традицию»[6]6
Элиас Н. Изменение баланса между «я» и «мы» // Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. С. 292.
[Закрыть].
Задавая и вырабатывая номинации и классификации, обосновывая право обладания «познающим субъектом» единственной и рационально доказуемой истины, наука становится орудием власти не в грубо политическом или идеологическом отношении, а как «власть-знание», когда собственный позитивный образ исследователя создается на негативном фоне изучаемого объекта[7]7
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994; Сайд Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.
[Закрыть]. «Первичное расчленение познаваемой социальной реальности имеет, таким образом, манипулятивные и (в перспективе) властные функции», – отмечает И.Н. Ионов[8]8
Ионов И.Н. Цивилизационная самоидентификация как форма исторического сознания // Искусство и цивилизационная идентичность. М., 2007. С. 171.
[Закрыть].
Исследование принципов строения образов и представлений о «другом» в европейской философской и научной мысли осуществлялось во второй половине XX в. под влиянием в том числе и культурно-антропологической парадигмы, которая определила роль и значение нормопорождающей интерпретации в исследовании «чужой» культуры. Применение этих концепций к истории европейской науки и культуры, в реконструкциях национальных образов и этнокультурных стереотипов способствовало обоснованию основополагающих постулатов, лежащих в основе научных типологий и сопутствующих им этноцентрических предубеждений[9]9
Сайд Э.В. Указ. соч; Todorova M. Imagining the Balkans. NY, 1997; Harle V. The Enemy with a Thousand Faces: The Tradition of the Other in the Western Political Thought and History. Westport, 2000; Tolz V. Russian Identity and the «Other» // Tolz V. Russia: Inventing the Nation. Oxford; N.-Y., 2001. Part 2; Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004; Вулъф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
[Закрыть].
В последние два десятилетия споры антропологов (в российской традиции именуемых этнографами или этнологами) вокруг этничности – вариантов ее интерпретации, порождающих различные концепции природы нации, национализма и «имперскости» – вышли на новую фазу осмысления ее конкретно-исторических форм. Однако исследование процессов складывания этнической / национальной идентичности не может ограничиться рамками истории политических и идеологических «проектов». Сегодня оно в той или иной степени обращено к реконструкции картины мира (ментальной, языковой, когнитивной) традиционного общества. Национальные идеологии ныне пытаются осмыслить через образы и мифы «национального» в культуре[10]10
Myths and Nationhood / Ed. G. Hoskings, G. Schoplin. London, 1997; Шнирельман В. Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этно-политика // Реальность этнических мифов. М., 2000. С. 12–33; Мелихов Г.В. Миф. Идентичность. Знание: введение в теорию социально-антропологических исследований. Казань, 2001; Долбилов М. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // Ab Imperio. 2001. № 1–2. С. 227–268; Уортман P.C. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. В 2-х тт. М., 2004; Дубин Б. Запад, граница, особый путь: «символика Другого» в политической мифологии России // Неприкосновенный запас. 2001. № 3. Текст доступен по адресу: http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/dub-pr.html; Белов М.В. У истоков сербской национальной идеологии. Механизмы формирования и специфика развития. Конец XVIII – середина 30-х гг. XIX века. СПб., 2007; Леонтьева О.Б. Реалистические мифы: историческая память в интеллектуальной культуре пореформенной России // Imagines Mundi. Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. № 5. Екатеринбург, 2008. С. 90–110.
[Закрыть]. Национальные мифологии также подвергаются дифференциации: это те, которые нашли отражение в историческом нарративе и были сформированы элитой, и те, что воплотились в «массовом сознании» или в исторической или национальной памяти[11]11
Лескинен М.В. История и Память: новое прошлое или «забытое старое». Историографический аспект // Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009. С. 115–135.
[Закрыть]. Введение категории мифа оказалось принципиальным для выработки новых подходов к реконструкции механизмов идентификации, но породило зачастую противоречивые заключения. Вместе с тем их общей закономерностью можно считать создание новых моделей описания идентичностей, некоторые из которых демонстрируют свою методологическую эффективность[12]12
См., в частности, монографии: Хаванова О. Заслуги отцов и таланты сыновей. Венгерские дворяне в учебных заведениях монархии Габсбургов. 1746–1784. СПб., 2006; Белов М.В. Указ. соч.
[Закрыть].
Значительно видоизменились подходы к постановке данного круга проблем в связи с так называемыми «антропологическим» и «лингвистическим» поворотами в гуманитарных дисциплинах в середине XX в., которые привели к «перекодификации» прежних форм и методов научного анализа, поскольку заставили рассматривать предшествующую историю человека и науки с точки зрения языка описания и установки исследователя на нормы и стандарты Знания[13]13
Это, в частности, концепция «эстетического историзма» X. Уайта и интерпретативная антропология К. Гирца. Об этом подробно: (Кукарцева М.) Предисловие переводчика // Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 11–68.
[Закрыть]. В этой эпистемологической «революции» родилось новое понимание отношений с «другим», которое начало трактоваться настолько расширительно, что стало небезосновательным утверждение, будто «существует и еще одно, параллельное повествование, не менее важное для воспроизводства и развития коллективного Я – это повествование о Других… „Другие" – это всего лишь наши собственные фантазии о нашем же „ином"»[14]14
Соколовский С.В. Образы Других в российской науке, политике и праве. М., 2001. С. 41.
[Закрыть].
Обращаясь к вопросам, связанным с историей российской этнографии, с формированием в ее «поле» представлений о «другом» и языка его описания, мы попытаемся показать, что источники наших взглядов на «других» гораздо более разнообразны, чем принято считать. Разделение на «научные» и «обывательские» суждения как представления «высшего» и «низшего» порядка в этой области не только условно, оно порождает ложные интерпретации: первые «содержат не только многие элементы обыденного здравого смысла, но и множество фигур мышления, восходящих к массовому сознанию»[15]15
Там же. С. 11.
[Закрыть]. Различая в ходе исследования «теоретические» взгляды, с одной стороны, и способы практического воплощения этих концепций в народоописании, с другой, мы фиксируем тенденции и проверяем типичность или стереотипность суждений, обозначаемых эпохой как «объективно-научные».
* * *
Изучение формирования и бытования представлений народов друг о друге оказалось в центре внимания тех европейских историков, которые занимались исследованиями национальных отношений в рамках полиэтнических государственных образований – в особенности империй. Начиная с 1990-х гг. эта тема получила новую трактовку в историографии, посвященной истории России в связи с разработкой так наз. «имперской» парадигмы[16]16
Миллер А.И. Глава 1. История Российской империи в поисках масштаба и парадигмы // Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006. С. 13–53; Суни Р.Г. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории. М., 2007. С. 36–82. Сборники статей: Российская империя в сравнительной перспективе. М., 2004; Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. Антология. М., 2005; статьи в журнале «Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве» (2000–2008).
[Закрыть]. Здесь, безусловно, доминировали и продолжают доминировать исследования политического и идеологического аспекта взаимоотношений между народами Империи и имперской властью. В рамках так наз. «истории понятий»[17]17
Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XIX вв. СПб., 2006. С. 9–32.
[Закрыть] ученые сосредоточили внимание на содержании и изменении терминов, используемых в процессе обоснования и классификации российских идентичностей разного уровня – в том числе наций, этносов и других общностей[18]18
Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX вв. М., 2001; Кашуба В. Дилемма этнологии XX века: «культура» – ключевое слово или лозунг? // Ab Imperio. 2001. № 3. С. 46–60; Миллер А.И. «Народность» и «нация» в русском языке XIX века: подготовительные наброски к истории понятий // Российская история. 2009. № 1. С. 151–165.
[Закрыть]. Анализ представлений, используемых в политическом дискурсе имперского этапа российской истории, позволил скорректировать прежние заключения о взглядах власть предержащих на вопросы этнонационального характера. Определение значения и способов функционирования идей через термины и дефиниции в социолектах занимает специалистов-историков не очень давно, но в когнитивной лингвистике данный метод уже доказал свою плодотворность в реконструкции картины мира и аксиологической системы[19]19
Бартминьский Е. Lud – «народ». Профили понятия и их культурные контексты // Бартминьский Е. Языковой образ мира: Очерки по этнолингвистике. М., 2005. С. 225–243; Bartmiński /.Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów // Etnolingwistyka. 2008. № 20. Lublin, 2008. S. 11–28; Вендина Т.И Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002; Вендина Т.И. Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры. М., 2007; Марасинова E.H. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века. М., 2002; Горизонтов Л.Е. Внутренняя Россия на ментальных картах имперского пространства // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004. С. 210–226; Ерусалимский К.Ю. Понятия «народ», «Росиа», «русская земля» и социальные дискурсы Московской Руси конца XV–XVII вв. // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – новое время. М., 2008. С. 137–169.
[Закрыть]. «История понятий» в России, в том ее виде, в котором она сегодня осваивается в современных гуманитарных исследованиях, взаимодействует с российскими традициями исторической лексикографии – в исторических дисциплинах (в частности, в историографии и источниковедении) и литературоведении[20]20
Об изучении «истории понятий» см.: Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 9–32. Вопрос о содержании, изменении и «чистоте» терминов в междисциплинарных исследованиях см., в частности, дискуссии в различных областях гуманитарного знания: Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005; О literaturoznawczym profesjonalizmie, etyce badacza i kłopotach z terminologią rozmawiają prof. T. Walas, prof. H. Markiewicz, prof. M.P. Markowski, prof. R. Nycz і dr. T. Kunz // Wielogłos. 2007. № 1. S. 7-34.
[Закрыть]. Представления русских о «других» стали предметом анализа историков, лингвистов и литературоведов, реконструировавших их эволюцию в рамках международных научных проектов, посвященных «взаимному видению» народов[21]21
В этом направлении более других сделали специалисты по истории тех народов Российской империи, которые обрели национальную независимость в 1917–1918 гг. Например, многолетние польско-российские исследовательские проекты: Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; Миф Европы в литературе и культуре России и Польши. М., 2004; Хорее В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005 (руководитель проекта и редактор – д.ф.н. Хорев Б. Α.); а также: Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne / Pod red. A de Lazari, R. Bäckera. Łódź, 2003; Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń / Pod red. A de Lazari, T. Rogińskiej. Łódź, 2006; Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan / Red. A de Lazari. Warszawa, 2006, в нем – компакт-диск, содержащий обширную библиографию (руководитель проекта и редактор профессор А. де Лазари). Исследовательский проект, посвященный изучению видения финнами и русскими друг друга в ХІХ-ХХ вв.: Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Великий Новгород, 2004; Два лика России. Образ России как фундамент финской идентичности / Под ред. проф. Т. Вихавайнена. СПб., 2007. Пер. с фин. (Руководитель проекта и редактор – Т. Вихавайнен), а также: Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008. Следует оговорить, однако, что подобные исследования (финнов, поляков, украинцев) осуществлялись и ранее: интерес к вопросу отражения представлений о Других был проявлен прежде всего литературоведами. Такие работы появляются и поныне, однако акцент в них сделан прежде всего на изучении индивидуальных взглядов, отраженных в творчестве отдельных писателей, политических деятелей или в эго-документах. Из наиболее значительных следует упомянуть, в частности: Giza А. Polaczkowie i Moskale – wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917). Szczecin, 1993; Kępiński A. «Lach» i «Moskal». Z dziejów stereotypu. Warszawa, Kraków, 1990; Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach polaków / Red. R. Bobryk, J. Faryno.Warszawa, 2000; Niewiara A. Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź, 2006; Kiparski V. Suomi Venäjän kirjallisuudessa. Helsinki, 1945; Карху Э.Г. Финляндская литература и Россия. 1800–1900. В 2-х тт. Таллин, 1962–1964.
[Закрыть].
Однако вопрос об этнокультурных представлениях и стереотипах «этнического другого» в контексте истории Российской империи изучается недавно[22]22
Примером нового осмысления этих процессов является проект, посвященный истории «окраин» Российской империи: Россия и Балтия. Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. Вторая половина XVIII–XX в. М., 2004; Западные окраины Российской империи. М., 2006, Сибирь в составе Российской империи. М., 2006, Бобровников В.О., Бабич И.Л. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007, Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008.
[Закрыть], по очевидной причине – в языке эпохи наименование «этнос» и «этническое» использовалось редко, а содержание понятий стало предметом обсуждения только в конце столетия. Есть и еще одно предположение: в «имперском» и «колониальном» дискурсах при всех их вариациях более привлекателен «актуальный» ракурс интерпретации – т. е. политические, стратегические и практические последствия теорий и доктрин. Поэтому ученые стремятся реализовать эту программу в сравнительных исследованиях империй, обращаясь к реконструкциям образов, представлений и стереотипов в этнонациональных культурных традициях[23]23
Это различие может быть проиллюстрировано рассуждениями историка об изучении «инаковости»: Аолбилов М. Полонофобия и политика русификации в северо-западном крае империи в 1860-е гг. // Образ врага. М., 2005. С. 127–133.
[Закрыть].
В центре их внимания – тактика и стратегия имперской власти, в сферу интересов попадает также язык бюрократии и права. Кроме того, рассматриваются воззрения отдельных индивидов, что помогает воссоздать интеллектуальную историю российской элиты. Лишь иногда обозначается явно выраженная социальная двойственность образов народов в России XIX – начала XX в.[24]24
Например: Оболенская СВ. Германия и немцы глазами русских. (XIX век). М., 2000.
[Закрыть]. В таких работах заметна тенденция отождествлять (или не расценивать как значимые) национальные и этнические представления, что проявляется в названии коллективных и индивидуальных монографий, в которых присутствует наименование государства и этноса (например, «Сербия и сербы», «Германия и немцы», «Польша и поляки», «Финляндия и финны», «Украина и украинцы» и др.). Формально это кажется корректным, поскольку в данных исследованиях (главным образом исторических и литературоведческих) изучаются проблемы более широкого плана, – ведь история взаимного видения и восприятия народами друг друга связана с накоплением знаний о регионе, стране, она вписана в контекст дипломатических, политических, военных, культурных контактов, понимаемых довольно широко и разнообразно. При этом происходит неизбежный в таких случаях перенос значений современной политической и ментальной карты на прошлое. Ведь Польша, Финляндия и Украина в XIX в. были частью Империи, границы их были иными, население не воспринималось как этнически, конфессионально и социально однородное. Подобным ретроспективным видением отмечено в работах о «русском взгляде» на народы Империи решение вопроса о том, кого расценивать, например, в качестве «этнических» и «политических» финнов или поляков применительно к истории XVIII–XIX вв.
Кроме того, данное отождествление затрудняет разграничение предметного поля исследования. Так, в монографии о немцах проанализированы представления как о немцах Германии, так и о «русских немцах», переселившихся в Россию в XVIII в.; реконструкция отношения к «немцам вообще» игнорирует вопрос об эволюции этнонимов и их истолкованиях. В книге о восприятии русскими шведов[25]25
Чернышева О.В. Шведский характер в русском восприятии // Чернышева О.В. Шведы и русские. Образ соседа. М., 2004. С. 7–109.
[Закрыть] этническая принадлежность, напротив, становится основным критерием, вследствие чего шведы Петербурга, так наз. «финляндские шведы» и шведы Швеции рассматриваются в одном ряду, а в исследовании образа русских в шведском восприятии использованы заметки «финляндского шведа». Авторы, таким образом, следуют номинациям и традициям идентификации, сложившимся в национальных зарубежных историографиях. Подобных примеров немало, и, хотя сама дифференциация разных групп, «продуцирующих» стереотипы, оговаривается, но лишь для того, чтобы подчеркнуть их национальную (в современном значении слова) общность и однородность. Однако в какой степени корректны подобные обобщения с точки зрения их «национальной» репрезентативности? В какой мере можно говорить о сходстве восприятия «российских» – «своих» шведов и немцев и «чужих» – подданных других государств в период, когда собственно этническая и национальная идентификация только начинала формироваться (первая половина XIX столетия) или находилась в стадии становления (вторая половина века)?
Эти и другие исследования образов «других» выдвинули на первый план некоторые методологические проблемы. Например, по-разному решается вопрос о «типичности» этнокультурных стереотипов, т. е. о том, в какой степени зафиксированные в нарративе – и особенно художественном и политически ангажированном – так называемые «этнические предубеждения» репрезентируют наиболее распространенное или «усредненное» представление о «другом». Неоднозначно понимается механизм складывания этих стереотипов, задействованных в разных дискурсах: вербальных и визуальных текстах культуры, в публицистике и художественной литературе. Хорошо известно, что чем более «массовые» источники привлекаются к такому анализу, тем в большей степени можно говорить о стереотипности тех или иных оценок.
Негативные представления в границах двустороннего сопоставления (например, финнов и русских друг о друге) не позволяют, однако, понять, насколько они характерны для отношений с «другими», или, напротив, уникальны; в какой мере они сформированы исключительно финско-российским историческим и культурным опытом или же вписаны в общеидеологические или традиционные установки общества в целом или его различных социокультурных страт. Рассмотрение их в сравнении с другими народами, и в особенности с населявшими дореволюционную Россию – немцами, поляками и др.[26]26
Об этом: Горизонтов Л. «Польская цивилизованность» и «русское варварство»: основания для стереотипов и автостереотипов // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004. С. 63.
[Закрыть], в контексте разработки категорий этничности в Российской империи может обнаружить новые грани межнационального противостояния или опыта «примирительной политики»[27]27
Термин, использованный в одной из последних российских монографий о польском Январском восстании: Воронин В.Е. Польское восстание 1863 года. Опыт «примирительной политики» русского правительства. М., 2008.
[Закрыть]. Отчасти этот пробел заполнили работы, реконструирующие идеологические и правовые нормы, определенные российской наукой и властью, практику межэтнических отношений в Империи, а также соответствующие им формы репрезентации[28]28
Stocking G.W. The Ethnographers' Magic and Other. Essays in the History of Anthropology. Madison, 1992; Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples. 1750–1917. Bloomington, 1997; Geraci R.P. Window on the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, London, 2001; Clay C.B. Russian Ethnographers in the Service of Empire. 1856–1862 // Slavic Revue. 1995. № (54). P. 45–61.
[Закрыть]. Их авторы (главным образом зарубежные ученые) анализировали различные аспекты этого взаимодействия с двух точек зрения: во-первых, с учетом особенностей научной парадигмы российской этнографии и, во-вторых, в соотнесенности их с процессом складывания лексикона русской и российской (имперской) идентичностей в конкретных социальных и этнических группах. Такой подход представляется весьма плодотворным, поскольку процесс формирования собственной идентичности и видение «другого» в этот период неотделимы друг от друга, а сопоставление разнонаправленных и далеко не однородных представлений об этническом «своем» со взглядом на «своего (т. е. имперского) чужого» тесно связано с естественным для модернизации стремлением выработать единый эмоциональный образ пространства Родины/ Империи и ее общей истории[29]29
Лоскутова M. О памяти, зрительных образах, устной истории и не только о них // Ab Imperio. 2005. № 3. С. 72–88; Шперлинг В. Строить железную дорогу, создавать имперское пространство: «местность», «край», «Россия», «империя» как политические аргументы в пореформенной России // Там же. С. 101–134; Вишленкова Е. Визуальный язык описания «русскости» // Ab Imperio. 2005. № 3. С. 97–146; Вишленкова Е.А. Визуальная антропология империи, или «увидеть русского дано не каждому». Препринт WP6/2008/04. Серия WP6. Гуманитарные исследования. М., 2008; Реннер А. Изобретающие воспоминания: русский этнос в российской национальной памяти // Российская империя в зарубежной историографии. С. 436–471; статьи в тематическом номере: Отечественные записки. 2002. № 6.
[Закрыть]. Новые методы, впрочем, и здесь связаны с иным толкованием некоторых универсальных категорий: через новое наполнение знаков и символов имперского пространства, позволяющих несколько иначе взглянуть на соотношение центра и периферии, регионов, окраин и областей[30]30
Казань, Москва, Петербург: Российская империя под взглядом из разных углов. М., 1997; Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и национальной стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 129–150; Кэмпбэлл Е.И. (Воробьева) «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской политике самодержавия // Там же. С. 204–216; Барзилов СИ. Российское историческое пространство в имперском и региональном измерении // Там же. С. 10–23.
[Закрыть].
Изучение образов «других» в русской культуре XIX в. российскими учеными в конце XX – начале XXI в. сегодня осуществляется в нескольких ракурсах, определенных методологическими особенностями различных дисциплин: с позиций имагологического направления[31]31
Краткую характеристику, историю и библиографию см.: Imagology. A Handbook of the literary Representation of National Characters. Amsterdam, 2008; Хорее B.A. Вступление // Хорее B.A. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки. М., 2005. С. 6–15; Земское В.Б. Образ России «на переломе» времен (Теоретический аспект рецепции и репрезентации «другой» культуры) // Новые российские гуманитарные исследования. 2006. № 1. Текст статьи доступен на сайте по адресу: http://www.rrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=37&binn_rubrik_pl_articles=246.
[Закрыть], в историко-культурных исследованиях взаимных представлений русских и других народов в XIX–XX вв.[32]32
Ерофеев H.A. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. М., 1982; Россия и Запад в XIX–XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996; Россия и Запад: диалог культур. Материалы второй международной конференции. М., 1996; Образ России, русской культуры в мировом контексте. М., 1998; Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., 1998; Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000; Россия и мир глазами друг друга. Из истории взаимовосприятия. Вып. 1. М., 2001; Автопортрет славянина. М., 2002; Чернышева О.В. Шведы и русские. Образ соседа. М., 2004; Шепетов К.П. Немцы – глазами русских. М., 1995; Оболенская СВ. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М., 2000; Павловская A.B. Россия и Америка. Проблемы общения культур. Россия глазами американцев. 1850-1880-е годы. М., МГУ, 1998. Весьма популярен также жанр антологий на эту тему, на русском языке, в частности: Польская и русская душа. От Адама Мицкевича и Александра Пушкина до Чеслава Милоша и Александра Солженицына. Антология / Редактор-составитель А. де Лазари. Варшава, 2003; Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006, и др.
[Закрыть], а также в этнопсихологических реконструкциях этнического (национального) характера[33]33
О методах исследования национального характера как предмета этнопсихологии: Inkeles Α., Levenson D.J. National Character. The study of modal personality and sociocultural systems // The Handbook of social psychology. Massachusetts; London: Ontario, 1969. Vol. IV; Дейкер Х.П.Й., Фрейда H.X. Национальный характер и национальные стереотипы // Современная зарубежная этнопсихология. М., 1979. С. 23–43; Исследования национального характера и картины мира // Отечественные записки. 2002. № 3. Текст доступен на сайте: http://www.strana-oz.ru/?пигт^=4&article=203; Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. С. 42–65, 95-124; Стефаненко Т. Этнопсихология. М., 2000. С. 86–100, 129–174; Велик A.A. Историко-теоретические проблемы психологической антропологии. М., 2005; Лурье СВ. Психологическая антропология. М., 2005. С. 33–43. Примерами научных трудов, созданных в рамках этой научной методологии, можно считать современные исследования национального характера: Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994; Сухарев В., Сухарев М. Психология народов и наций. М., 1997; Мацумото Д. Психология и культура. М., 2002; Мельникова А. Язык и национальный характер. СПб., 2003. Подавляющее большинство исследований по национальной психологии / национальному характеру осуществляется на современном культурно-языковом материале.
[Закрыть]. Особое место занимает анализ этнокультурных стереотипов в когнитивной лингвистике и в этнолингвистике – в них разработаны методы исследования языка и культуры традиционного и «модерного» общества[34]34
Это направление представлено главным образом исследованиями этнокультурных образов и стереотипов, осуществляемыми этнолингвистами – как на историческом материале, так и в рамках исследований современной языковой картины мира. См., в частности: Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос). Л., 1983. С. 18–33; Ван Дейк Т.А. Когнитивные и речевые стратегии выражения этнических предубеждений // Ван Аейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 268–304; Quasthoff U. Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej //Języka kultura. T. 12. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, amalizy empiryczne / Pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego. Wrocław, 1998; Błuszkowski J. Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa, 2005; Bokszański Z. Stereotypy a kultura. Wrocław, 1997; Бартминьский Ε. Стереотип как предмет лингвистики // Бартминьский Е. Языковой образ мира: Очерки по этнолингвистике. М., 2005. С. 133–157; Бартминьский Е. Языковые стереотипы // Там же. С. 158–187; Березович Е.А., Гулик Д.П. Ономасиологический портрет «человека этнического»: принципы построения и интерпретация // Встречи этнических культур в зеркале языка в сопоставительном лингвокультурном аспекте. М., 2002. С. 232–253; Николаева Т.М. Речевые, коммуникативные и ментальные стереотипы: социолингвистическая дистрибуция // Язык как средство трансляции культур. М., 2000. С. 112–131; Крысин Л.П. Лингвистический аспект изучения этностереотипов (постановка проблемы) // Встречи этнических культур в зеркале языка в сопоставительном лингвокультурном аспекте. М., 2002. С. 171–174; Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005; Левкиевская Е.Е. Этнокультурный и языковой стереотип украинца в русском сознании // Украина и украинцы: образы, представления и стереотипы. М., 2008. С. 154–178; Березович Е.Л. Этнические стереотипы и проблема лингвокультурных связей // Ethnolingwistyka. № 20. Problemyjęzyka i kultury. Lublin, 2008. S. 63–76, и др. Весьма значимую роль в этих и других лингвистических исследованиях играет концепция языковой картины мира: Вежбицкая А. Язык. Культура. Коммуникация. М., 1997; Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001; Зализняк Анна Α., Левонтина И.Б., Шмелев A.A. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
[Закрыть].
Анализ теории, методов и исследовательской практики географии и этнографии XIX в. (как органической ее части) позволяет увидеть образы «других» в Империи в новом качестве. Включение в контекст нормативных научных представлений дает возможность интерпретировать их в качестве «конструктов», создающихся доминантной и обладающей «властью знания» группой в процессе выработки национальной идентичности как мифологии[35]35
Hellberg-Hirn Ε. Origin and Power: Russian National Myths and the Legitimation of Social Order // Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National identities in Russia / Ed. by Ch. Chulos, T. Piirainen. Ashgatt, 2000. P. 16–17; ряд примеров в статьях сборника Imperialisms. Historical and Literary Investigations. 1500–1900 / Ed. by B. Rajan, E. Sauer. Palgrave, 2004.
[Закрыть]. Структура и способы репрезентации народов Российской империи в этнографической науке XIX в. (в том числе и физической антропологии) рассматриваются главным образом зарубежными исследователями[36]36
Исключение составляют работы отечественных ученых СВ. Соколовского (Соколовский СВ. Образы Других.) и М. Могильнер (Могильнер М. Homo Imperii. История физической антропологии в России. М., 2008). Из наиболее значимых зарубежных исследований следует упомянуть: Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // American Historical Review. 1991. Vol. 96. № 3. P. 763–794; Knight N. Constructing the Science of Nationality: Ethnography in Mid-Nineteen Century Russia. Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1995; Knight N. Ethnicity, Nationalism and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. N.-Y., 2000; Найт H. Империя на просмотре: этнографическая выставка и концептуализация человеческого разнообразия в пореформенной России // Власть и наука, ученые и власть. Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 2003. С. 437–457; Найт Н. Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе. 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. Антология. М., 2005. С. 155–198.
[Закрыть]. Изучается место этого народоведческого дискурса в выработке национальной и этнической идентичности, а также в формировании национальной политики: «Органическое, натуралистическое понимание этнической реальности, овеществление этнических групп и наций, вообще характерное для романтических и неоромантических построений, сыграло свою роль в дальнейшей эволюции „национальной" политики»[37]37
Соколовский С.В. Институты и практики. С. 147.
[Закрыть].
* * *
Главная цель исследования – реконструировать основные понятия и термины, с которыми российская наука второй половины XIX в. подходила к описанию «другого» как этнографического объекта, определить их содержание и интерпретации, а также выявить конкретные практике – в научных и научно-популярных нарративных репрезентациях финнов и поляков. Данные тексты не только включают определенное видение этих народов: описания, оценки, суждения (этот круг источников освоен фрагментарно), но и дают возможность выявить механизмы идентификации «своего» и «чужого» на нескольких уровнях: 1) определив установки и стандарты «объективного» рассмотрения «другого», содержащиеся в них в явном и скрытом виде, которые возможно уточнить при помощи сопоставления с традициями народоописания и концепциями интерпретации его объекта; 2) установив задачи и методы репрезентации народов Империи в контексте просветительской функции популярной литературы; 3) сравнив характеристики поляков и финнов в описаниях со сложившимися в литературе и историографии традициями их изображения. Это позволит обнаружить заимствования и клише, реконструировать некоторые представления их авторов и составителей, социальные стереотипы и особенности индивидуального восприятия, а кроме того – содержащийся в любом дискурсе о «другом» образ «себя» и «своих». Анализ используемой лексики, терминологии при учете историко-культурного контекста высказываний оказывается плодотворным для понимания интерпретации признаков и свойств, определяемых как «типичные», «национальные» и др.
Поэтому сужение нами предметного поля этнографическим дискурсом условно, поскольку и создателями, и интерпретаторами этих знаний в ту эпоху были не этнографы, – профессиональных этнографов не существовало, – а широкий круг российской интеллигенции, земских деятелей, ученых – естествоиспытателей и историков, собиравших и оценивавших этнографический материал, и, наконец, составителей и авторов научно-популярной литературы, которая в пореформенной России была чрезвычайно востребована[38]38
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 тт. М., 1993–1996. Т. 2. Ч. 2. М., 1994. С. 357.
[Закрыть].
* * *
Европейская этнография во второй половине XIX века формировалась в поле естественных наук, однако в связи со статусом, который придавал ей «великое значение и в смысле просветительном, христианско-человеческом, и в смысле государственном»[39]39
Ламанский В.И. К вопросу об этносах и государственности в России // Живая старина. 1894. Вып. 1. С. 113.
[Закрыть], она находилась с тесном взаимодействии с социальными науками и фольклористикой, из которой в некотором смысле и «выросло» представление о народности в целом. Но не только понимание этнографии как географической «отрасли» связывало ее с естественнонаучной парадигмой. Само стремление классифицировать по линнеевскому образцу формы человеческих общностей и установить общие этапы их развития виделось главной задачей науки. Эта же идея стала центральной в теоретическом осмыслении представителей так наз. «социальных» дисциплин во второй половине XIX в. Кроме того, в период формирования наук они все еще находились под значительным влиянием просвещенческих и романтических взглядов на культуру и историю.
Поэтому можно говорить о междисциплинарном характере предмета и методов этнографии на этом этапе – этапе становления. И хотя до 1890-х гг. многочисленные и острые национальные вопросы – польский, еврейский, финский и др. – помещались не в этнографический, а в политический контекст, сведения о народах империи (план собирания которых был разработан еще в народоведении Просвещения) были важны и с точки зрения выработки стратегии по отношению к ним. В условиях формирования так наз. «национальных проектов» все большее значение приобретало осмысление отличительных свойств «своего» – русского – этноса как нациеобразующего, а их можно было установить только сравнением с «другими». Анализ способов их описания, стратегий их репрезентации в научной, популярной и учебной литературе представляется актуальным еще и потому, что эти инструменты являются универсальными, а образы «своего» и «чужого», «иного» и «врага» и ныне становятся предметом спекуляций и идеологических манипуляций. Кроме того, целый ряд проблем методологического и источниковедческого характера, осмысляемых российскими учеными на раннем этапе складывания гуманитарных дисциплин (связанные с практикой работы по сбору информации, а также обусловленные зарождением новаторских теорий в области соотношения языка, сознания и картины мира) и сегодня является предметом полемики. Многие из гипотез, выдвинутых во второй половине XIX столетия, начали развиваться позже, оказавшись перспективными направлениями научной мысли XX и XXI вв. Их рассмотрение на стадии зарождения и апробации является важным элементом не только истории, но и теории и практики современной науки.
В первой части книги мы намерены сосредоточиться на круге проблем, связанном а) с выработкой научного лексикона, использовавшегося в репрезентациях и исследованиях народа / этноса как «своего» или «чужого» (с попыткой определить некоторые механизмы их взаимодействия) и б) с методикой этнографического описания, которая нашла выражение в стандартах программ сбора сведений по этнографии, а также в трактовке используемых в них основных понятий. Будет реконструирован процесс их формирования в качестве научных терминов, содержание, эволюция и (неизбежные на начальной стадии) вариации.
Для получения точных результатов исследования терминологии и концепций, которые не только претендовали на «легитимизацию политических и научных практик и институтов», но и обладали реальными возможностями влияния на общественное сознание, необходимо привлечение широкого массива источников и расширение предметного поля исследования, долгое время ограниченного анализом взглядов отдельных индивидов или социальных групп. Не претендуя на подобную целостность и полноту, мы ставим перед собой более скромную задачу: определить некоторые основные тенденции в интерпретации того круга понятий, без которых невозможно понимание научных народоописаний второй половины XIX века, а именно: народность, национальность, нация, народ, тип / типичное, нрав народа / национальный характер. Наиболее важным представляется рассмотрение «готовых» дефиниций – формализованных определений самой эпохи в словарях, энциклопедиях, программных статьях и учебниках. Анализируемые в этой части работы высказывания ограничены кругом естественнонаучной и исторической популярной литературы.
Наиболее уязвим, на первый взгляд, выбор персоналий, суждения которых стали предметом анализа. Мы руководствовались необходимостью рассмотреть: а) те научные сочинения, которые оказали значительное воздействие на формирование этнонациональных портретов непосредственно финнов и поляков; б) представляющие наиболее распространенные взгляды или определения (эта часть предварительной аналитической работы в текст книги не вошла) или, напротив, выбивающиеся из общего русла; в) и, наконец, основательно изученные современными исследователями тексты с точки зрения содержащихся в них этнокультурных представлений и стереотипов. Расширение круга высказываний может скорректировать некоторые имеющиеся в научной литературе заключения, но для нас важнее было уловить основные тенденции словоупотребления, трактовок и аргументации значений, не поддающихся фиксации без учета историко-культурного и профессионального (т. е. научного) контекста.
Еще одной исследовательской установкой стал отказ от использования привычных для отечественной историографии номинаций направлений и школ при анализе воззрений конкретных исследователей, хотя упоминания об этом в работе присутствуют. Это связано с тем, что, во-первых, как верно заметил А.Л. Топорков, «рассматривая научное наследие того или иного исследователя как выражение определенного «направления», мы неизбежно огрубляем проблему»[40]40
Топорков A.A. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. М., 2002. С. 14.
[Закрыть]; во-вторых, такое отнесение в принципе довольно условная процедура – оно не всегда, как известно, совпадает с научной самоидентификацией ученого и тем более оно весьма противоречиво воспринимается современниками. Кроме того, и политические убеждения, и теоретические взгляды имеют тенденцию к эволюции и даже к резкой трансформации, особенно в ту эпоху, когда идет активный процесс перевода, междисциплинарного заимствования и переосмысления терминов и концепций. Поэтому высказывания представителей различных дисциплин, школ и направлений рассматриваются в книге в одном ряду, они группируются по предметно-проблемному полю. Наконец, необходимо учитывать тенденцию к изменению значений понятий, используемых российской этнографической дисциплиной – в том интеллектуальном пространстве, в котором она видела себя сама: в русле и контексте универсальных для европейской науки XIX в. процессов институциализации, специализации и трактовки предмета и методов различных дисциплин.
Нам более интересным представляется второй, еще не конечный этап этого процесса, когда, при помощи предоставляемых наукой средств обнаружения, постижения и фиксации «параметров» народности, был достигнут определенный результат – созданы ее описания. Отметим, что те из них, которые использованы в качестве источников, воплощены в жанре главным образом научно-популярных очерков. Это связано с несколькими обстоятельствами: 1) собирателями «полевых» материалов со времен создания этнографического отделения РГО, которое стало осуществлять планомерные и стандартизованные описания этнических групп, могли стать все желающие; 2) в качестве источников этнографических сведений как равноценная воспринималась информация различного рода: путевые заметки туристов, записки провинциальных интеллигентов, научные описания экспедиций, популярные этнографические зарисовки, археологические и антропологические выводы и т. п. Решение об их репрезентативности принимали сами составители; 3) основной корпус народоведческих очерков вошел в масштабные проекты географических или географо-статистических описаний Российской империи, которые репрезентировались как «свод важнейших сведений о нашем отечестве, которые служили бы настольной справочной книгой и вместе с тем представляли материал для интересного, поучительного чтения»[41]41
Предисловие // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном и экономическом и бытовом значении. Под общей редакцией П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского Географического Общества. В 12-ти т. (19 кн.). СПб.; М., 1884–1901. Т. I. (без пагинации).
[Закрыть]. Все указанные виды описаний составили источниковую базу исследования.
Популяризация и просвещение вменялись этнографии в обязанность, ведь, как утверждалось, «этнография – наука при современном стремлении в нашем отечестве к улучшениям, обращающая на себя всеобщее внимание и при тщательном ее изучении на практике», – представляет «огромное поле как недостатков, нужд и злоупотреблений, так и средств к их искоренению»[42]42
Природа и люди в Финляндии или очерки Гельсингфорса / Сост. Вл. Сухаро. СПб., 1863. С. 1.
[Закрыть]. Поэтому для расширения спектра народоописаний использован тот тип источников, в которых нашли отражение научные классификации народов Российской империи, обоснование их ранжирования и качества народного характера (нрава). Это – учебники по географии Российского государства (отечествоведению)[43]43
Необходимо подчеркнуть источниковый потенциал учебников по отечество– и отчизноведению (т. е. географии и краеведению). В историографии существует значительное число исследований, посвященных реконструкции образов Других в учебниках истории, между тем этнографические характеристики помещались в учебную географическую литературу.
[Закрыть], немногочисленные этнографические учебные издания, а также научно-популярные серии рассказов о народах Земли и России (они часто выходили с пометкой «для народного чтения»). Данные тексты впервые рассматриваются в качестве самостоятельного источникового комплекса сведений о «другом».
Сравнение трех групп источников привело к заключению, что типологически они однородны, так как большая часть первой включалась в тексты вторых двух; поэтому под определением корпуса источников «этнографические описания» мы будем понимать их совокупность. Едва ли корректнее было бы определять весь комплекс как «научно-популярные» сочинения, поскольку наравне с ними использовались и собственно научные описания экспедиций и этнографические разделы обобщающих трудов по географии, антропологии и истории[44]44
Эти фрагменты указываются.
[Закрыть], – они неотличимы ни по стилю, ни, как мы покажем, по содержанию (поскольку, обозначаемые как «научные» очерки, представляли собой, как уже говорилось, компиляции). Все эти издания предназначались для широкой аудитории[45]45
Характерны в этом отношении обозначения аудитории, на которую они ориентировались. Например: «чтения для народа», «сборник для народного чтения», «для ученических библиотек, в бесплатные народные библиотеки и читальни, для публичных народных чтений», «для приходских библиотек» и т. п. Характеристика этой литературы и ее связь с государственной идеологией рассмотрена в книге: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literary and Popular Literature. 1861–1917. Princeton, 1985.
[Закрыть], и потому, анализируемые в качестве единого комплекса знаний, они создают адекватные представления об этническом «другом».
Вторая часть исследования посвящена выявлению способов описания (как структурированию материала, так и ракурсам репрезентации и выборки сведений о «другом») на примере двух народов – финнов и поляков. Привлечены источники, в которых даны этнические характеристики финнов Финляндии и поляков Царства Польского / Привислинского края, для сравнения использованы тексты того же жанра о других народах Империи. Центральным звеном стал анализ их содержания, явных и скрытых оценок, научных и вненаучных целей и стандартов – чтобы в итоге реконструировать представление о финнах и поляках в их «субъектном» и «объектном» (претендующем на объективность) отображении. Из них будут выделены те, которые проявляют себя как стереотипные характеристики. Для определения возникновения и степени распространенности этих представлений осуществлено их сравнение (на обширном историографическом материале) с «обыденными» и «научными» (условно) характеристиками финнов и поляков в российской, польской и финляндской научной литературе XIX в.