Текст книги "Машкино счастье (сборник)"
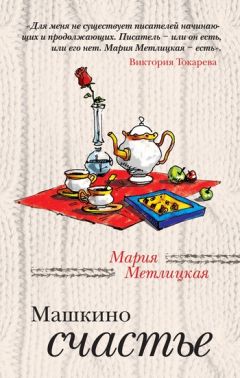
Автор книги: Мария Метлицкая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Она же его очень ждала, тщательно готовилась к нечастым встречам, хотя и понимала, что это не совсем любовь, а скорее что-то другое. Единения душ у них так и не произошло. Но со временем это Грету стало устраивать. По крайней мере, не нарушало привычный ритм ее жизни. А к одиночеству она уже привыкла.
История эта тянулась довольно долго, но была необременительна для обоих, и когда как-то легко и плавно постепенно закончилась, оба этому не удивились. Свою одинокую жизнь она воспринимала теперь как благо и совсем не завидовала шумным семьям своих родственников и знакомых. В конце концов, у нее были сестры и брат, а главное – Анюта, родная душа.
Анюта поступила в институт только в восемнадцать лет, когда закончились ее мытарства по больницам. Закончились, правда, не совсем удачно: чуть-чуть, еле заметно, но она слегка припадала на левую ногу. Поступила, конечно, в медицинский. Отец ее был счастлив. К Грете теперь ездила реже – появилась своя, бурная студенческая жизнь. Наверстывала. На первом же курсе случился стремительный роман с однокурсником. Забеременела через полгода. Однокурсник был испуган, но жениться не отказывался. Уже через месяц, к свадьбе, Анюта поняла, что не любит его, что все это зря, но ресторан был заказан и платье сшито – все устроила Грета. Отказаться не хватило духу.
К Новому году родила девочку, назвала Юлькой, с никудышным мужем-студентом развелась спустя год, еле протянули. Родители очень помогали с дочкой, но все равно было тяжело. Мать много болела, отец пропадал в больнице сутками, сессии, практики… К Грете почти не ездила, та обижалась и не понимала всех тягот Анютиной жизни. Ревновала Анюту к дочке – совсем уже глупость. Поэтому стала вредничать и почти не помогала Анюте материально. Ну да бог с ней, пыталась не обижаться Анюта.
Грета ушла с работы – надоело. Чтобы не закиснуть, переводила то, что было интересно, брала работу на дом. Стала подолгу жить на старой даче в Малаховке. Это была классическая старая подмосковная дача, с огромным лесным участком, большим и нелепым домом, полукруглой верандой с цветными стеклышками, с белым кафелем голландских печек. Грета, конечно, украсила свой дачный быт – провела в дом воду и отопление, выбросила трухлявую, изъеденную жучком мебель, оставив только огромный резной буфет и круглый столик с мраморной щербатой столешницей – уж в таких вещах она знала толк.
Жила она на даче с мая до конца сентября. Образ жизни Греты там почти не менялся, только теперь она дольше гуляла по старым зеленым дачным улицам и больше читала, а спала почти до полудня. Посадила вдоль дорожки от калитки нехитрые цветы – душистый табак и ноготки, а турецкая гвоздика и флоксы давно уже разрослись плотной и ароматной стеной. С удовольствием ходила на старый малаховский рынок, в ту пору действительно крестьянский – с живыми кроликами и курами, покупала жирный домашний творог и ароматное сало с бордовыми прожилками мяса.
Была она еще совсем не старая женщина, по-прежнему с прекрасным лицом и стройной, моложавой фигурой. Привычкам своим не изменяла и даже, копаясь (слегка!) в цветочных грядках, своих уникальных колец и браслетов с рук не снимала. Соседи пытались завести с ней обременительную дачную дружбу, но дальше калитки разговоров она не вела.
Анюта окончила институт и работала в старой городской больнице, где всю жизнь проработал ее отец. Правда, отделения у них были разные – Анюта пошла в тяжелейшую «травму». Дочка Юлька росла девочкой избалованной и капризной – полная противоположность маленькой Анюте. Да и внешне – копия своего нерадивого папаши: бесцветная, светлоглазая, никакая. Бабка с дедом обожали ее сверх меры (отсюда и результат).
Личная жизнь Анюты, уже Анны Александровны, никак не складывалась. Мать сокрушалась: как девочке не везет! Случился, правда, один небольшой романчик с хирургом из смежного отделения, но тот был красавец, плейбой, избалованный всем женским персоналом больницы – от медсестер и врачей до ходячих больных. Впрочем, так же, как красив, был он глуповат. Анюта, правда, свое отстрадала, отвздыхала – как положено. Через полгода он, встречаясь с ней в длинных больничных коридорах, небрежно слегка кивал. Ничего, пережила. Словом, жизнь состояла из работы и дома, обычная, как, впрочем, у многих.
А кипение страстей? А бури чувств? Как накликала! Весной начался абсолютно безумный роман с больным. Поняла, что пропала, сразу, как только увидела в палате этого молодого, мускулистого, узкоглазого парня. Он был кореец, спортсмен, родом откуда-то с Урала. В Москве жил без прописки и, естественно, площади, перебиваясь случайными заработками и временным жильем. Преподавал в каком-то «занюханном» клубе при жэке спортивную борьбу, там же, в клубе, и жил – в пятиметровой каморке. В больницу попал с тяжелым переломом ноги, в каморке без ухода и пищи оставаться было невозможно.
Когда Анюта в гипсовой осматривала его ногу, то чувствовала что-то, до той поры ей неизвестное, и парень пошутил про ее ледяные руки, пошловато интересуясь степенью горячности ее сердца. Все случилось там же, в гипсовой, на ее ночном дежурстве. Как только ухитрялись, что они вытворяли там, несмотря на его загипсованную конечность и спартанские условия медкабинета!
Утром, в метро, она ехала с закрытыми глазами и, вспоминая, чувствовала тяжелый и острый жар по всему телу. Как предательски сладко болел низ живота, как краснела она за себя – и ведь не подозревала раньше о том, какая она, оказывается, на самом деле. Теперь она летала на работу. Да что там работа, теперь она вообще летала!
Смотрела мимо людей, слушала вполуха и замирала от своих мыслей и желаний. Она была его лечащим врачом и делала все, чтобы как можно дольше под всяческими предлогами удержать его в больнице. Из дома носила бульон и курицу, у метро покупала апельсины и шоколадки, стыдясь, что отрывает от дочки.
Но время выходило, и на утренней конференции резко, при всех, завотделением предложил ей немедленно выписать больного по фамилии Ким. Все обернулись и посмотрели на Анюту. После работы поймала такси и повезла его на окраину в его каморку. А там их ждал амбарный замок на двери. Не дождавшись его, секцию по борьбе распустили, а в его каморке сделали подсобку для водопроводчиков. Сидели на ступеньках, курили, молчали, не зная, что делать дальше. И вдруг Анюту как осенило – к Грете, в Малаховку.
– Господи, какая я идиотка! – лепетала она. – Как я сразу не догадалась, тупица, ведь это же выход. И такой чудесный выход! Какая удача, да нет, просто счастье! Я буду приезжать часто, а тебе там будет хорошо, тебе там понравится.
О влюбленные, как вы эгоистичны! Как вам не хочется замечать ничего вокруг, ничего, что бы вас отвлекало от главного предмета вашей истории! Но кто же не был «там»? Кто осудит вас за это? Вы достойны лишь нашего великодушного снисхождения! И только.
В тот момент Анюта совершенно и категорически забыла про непростой Гретин нрав, про ее жизненные устои и образ жизни. Скорее туда, на старую дачу, в Малаховку – там она совьет пока гнездо их любви!
Вид у Греты был совершенно ошарашенный, а еще растерянный и недовольный. Но отказать сразу, в дверях, она все же не решилась. Провела их в дом, накрыла чай, нарезала сыру и хлеба. Потом, когда Ким, еще совсем слабый, уснул на террасе в кресле, Грета поманила Анюту пальцем и вышла с ней на крыльцо.
– Ты что, спятила, привезла какого-то странного мужика? Что ты знаешь о нем, безумная? Кто он, что он, что натворил в этой жизни? Совсем тебе голову снесло. А обо мне ты подумала, мне это надо? Дом свиданий решила здесь устроить?
Грета всегда была пуританкой. Анюта расплакалась, долго просила извинения, пыталась объясниться и оправдаться, потом почти обиделась и сказала, что завтра его заберет, но умолила на эту ночь, первую после больницы, его все же оставить. Грета махнула рукой и, не попрощавшись, ушла к себе. Белье не дала. Анюта уложила Кима в одной из комнат, прикрыв старым, вытертым пледом. Ему было все равно, он уже опять спал как убитый.
Заливаясь слезами от жалости к себе, к нему, к своей любви и неустроенной их жизни, плелась она на станцию, громко всхлипывая и прикуривая одну сигарету от другой.
Назавтра в Малаховку не поехала – схитрила, пусть еще один день вылежится, и лихорадочно стала искать малую возможность пристроить любимого. Ничего не получалось. Не удалось поехать и на следующий день: случилась беда с отцом – инфаркт. Месяц не выходила из палаты, он был очень плох, но, слава Богу, выходили. Когда наконец собралась в Малаховку, увидела себя в зеркале – тощая, с почерневшим лицом, с такими заметными седыми нитками в темных волосах. Вздохнула и поехала.
На душе было черно – от постоянного и ежеминутного страха за жизнь отца, от жалости к матери, сразу ставшей беспомощной и растерянной старухой, от затянувшегося вынужденного обмана Греты, от стыда за все это, от отчаяния и отсутствия выхода в их с Кимом ситуации. Была готова к тому, что Кима в Малаховке нет, и боялась, что теперь не сможет найти его. Но надо было скорее объясниться с Гретой и облегчить больную совесть. В поезде опять плакала, отвернувшись к окну, а по дороге к дому от волнения покрылась испариной, чувствуя себя нелепой и виноватой перед отцом, матерью, дочкой, Гретой и Кимом. Хорош букет!
Когда подошла совсем близко к дому, то услышала громкие голоса, смех, какое-то фырканье. Растерялась, оглянулась. Дом был крайним, и звуки точно раздавались с Гретиного участка. Недоумевая, осторожно подошла к редкому, старому штакетнику, заросшему жимолостью и жасмином. И то, что она увидела в следующие несколько минут, ее ошеломило, прибило, расплющило и окончательно добило. Во дворе, возле водяной колонки, плескались, обливая друг друга водой, полураздетый Ким и женщина, худенькая, в шортах и легкой открытой майке, с длинными распущенными волосами. Им обоим было страшно весело. Обливаясь водой из шланга, поочередно выхватывая его из рук, они громко смеялись, называя друг друга какими-то понятными только им словами, а потом замерли и обнялись. Когда женщина отстранилась от Кима и, грациозно наклонясь вбок, начала отжимать свои тяжелые волосы, Анюта наконец поняла, что эта женщина и есть Грета. И еще она поняла одно: ей нужно скорее бежать оттуда, как можно скорее. Больше она не понимала ничего. Почти бегом она спешила к станции, голова была совершенно пуста, и только четко и безостановочно стучало одно слово. Бежать, бежать. От кого?
В набитой электричке она вдруг увидела место у окна и подумала, что ей повезло. И когда, запыхавшись, плюхнулась на жесткую деревянную скамью, спустя минут десять, когда вообще смогла о чем-то подумать и отдышаться, она вдруг поняла, что ей, наверное, вообще здорово сегодня повезло – ну, если задуматься, – что все случилось именно так, а не иначе.
И что открылось про этого человека ей так быстро, и что никого не придется больше обманывать, и что не надо с кем-то делить родителей и дочку, и что опять можно начинать ждать чего-то, обязательно хорошего. И еще она подумала, что, когда все она окончательно переживет, ей будет точно смешно и что она совсем не будет злиться на Грету. А Ким? Ну, с него-то вообще какой спрос? Да и кто он ей, в самом деле? И еще рассмешила почему-то возникшая мысль про Лариску, мимо которой опять проплывал караван с богатством. Потому что нарисовался вполне реальный претендент на все это. А он уж своего не упустит. Будьте любезны. И еще почувствовала, как упоительно пахло в вагоне флоксами, и закрыла глаза, и даже чуть-чуть улыбнулась, качнув головой.
Она же всегда была разумной и положительной девочкой.
Грехи наши
Когда произошло это страшное событие, Елена, конечно, забрала Лизу сразу к себе, в один день перечеркнув и забыв все свои старые и заскорузлые обиды. Так получилось, что семейная Лиза в своей беде оказалась одна. Муж-профессор уже пятый год читал свои лекции в Бостонском университете, ему вообще всю жизнь, кроме науки, не нужно было ничего, а сейчас и подавно. Лизина дочь, вечно вздрюченная, безумная Ирка, как всегда, разводилась с очередным мужем и была вне себя.
Беда с Лизой произошла, как водится, внезапно. Из полноватой, веснушчатой, полной жизни и энергии еще нестарой женщины Лиза за полгода превратилась в сухую, серолицую мумию – без остатка прежних внешних и, казалось, неисчерпаемых внутренних сил. Казалось, что неисчерпаемых. Елена взяла ее к себе по нескольким причинам: во-первых, загород, воздух – она теперь круглый год жила на старой, теплой кратовской даче. Во-вторых – уход. Кто, кроме жертвенной Елены, с таким терпением будет выносить капризы тяжелобольного человека? Чокнутая Ирка? Она-то быстренько управится – подтолкнет мать к краю могилы и руки отряхнет.
Лиза сначала сопротивлялась – не хотела уходить из своего дома. Но недолго. Все быстро поняла и оценила. В ней была всегда практичность. А вот обязанной быть ненавидела. Особенно кому? – Елене, которую всегда считала немного убогой. Но жизнь распорядилась иначе. И беспомощность, и зависимость ее и угнетали больше всего. А куда деваться?
Обе старались держаться достойно. Получалось не всегда. Особенно у Лизы. Но с нее сейчас спроса не было. И потом надо было ценить: кто еще, кроме Елены, нагреет рефлектором ванную комнату, вымоет сестру мягкой мочалкой, сшитой из старого махрового полотенца, осторожно оденет в проглаженную фланелевую пижаму и отведет в чистую, свежую, после зимнего сада, постель. А потом еще нальет густого клубничного киселя и сварит жидкую манную кашу – легкую, как для младенца.
Сестры с детства дружны не были – слишком разный темперамент, хотя разница самая позволительная для дружбы – в четыре года. Елена была старшей: немного угрюмая, необщительная, малоразговорчивая и очень правильная девочка. Почти отличница и вечная помощница по хозяйству. Мамина лучшая подружка. Внешность Елены не вызывала ни умиления, ни отрицания – выше среднего роста, широкая в спине и плечах, с крупными кистями некрасивых рук. Да и лицо без фантазии, только волосы хороши – светло-русые, густые, слабой волной. Но кто видел их красоту? Вечный старческий пучок на затылке.
Лиза родилась проказницей, кокеткой, упрямицей и капризулей. Младшая сестра! Внешне славная, но до красавицы не дотягивала. А миловидности – сколько угодно. Блондинка с конопушками на вздернутом носу. И зубы! Сама про себя говорила: «Голливуд!» Улыбалась к месту и без. Но это в юности.
У нее была своя компания, свои подружки. Сестру не звала – да та и не рвалась: сидела у себя, что-то вязала, шила, читала. «Синий чулок», – говорила о ней Лиза с презрением, махнув рукой.
Замуж младшая сестра выскочила рано, в восемнадцать лет. За чудного и странного парня с мехмата. Что нашла она в этом заумном очкарике, было непонятно. Мать отмахнулась. «Вот увидишь, через год разведутся», – говорила Елене.
Не развелась, а родила через год в страшных муках дочку Ирку. Было все: и угроза выкидыша, и страшный токсикоз, и ягодичное предлежание, и ручное отделение плаценты… И все это досталось девятнадцатилетней девочке. Из роддома вышла притихшая и какая-то прибитая.
С ребенком помогали и мама, уже тяжело болевшая злокачественной гипертонией, с бесконечными каретами «Скорой помощи», и, конечно, безотказная Елена. С ног сбивались все. Кроме математика. Он, казалось, не слышал ни душераздирающих криков ребенка, ни истерик Лизы, ни скандалов между женщинами. Выходил из своей каморки-кабинета (бывшая темная комната), шел в туалет, мыл руки, не глядя, съедал, что дадут, и уходил к себе. Не муж, а золото. Или наоборот.
Лиза кричала, что не может жить таким кагалом, и вытрясла из матери деньги – первый взнос на кооператив. Потом, счастливая, говорила Елене: «А этот хлам (имея в виду и неухоженную старую квартиру, и ветхую мебель) оставь себе».
Через год они уехали в новый дом на Юго-Запад. Елена туда приезжала как за город. Роща, воздух, церковь, деревушка возле церкви. Приезжали с мамой навестить племянницу Ирку, тогда еще хорошенькую полноватую девочку. Лиза тут же выскакивала из квартиры. Это у нее называлось «съездить в центр, проветрить мозги».
Они кормили Ирку, гуляли с ней в роще, укладывали спать. К десяти вечера являлась Лиза. Ни «спасибо», ни «как дела?» – вообще никаких разговоров.
– Ну что, вы поехали?
Мама дорогой плакала, говорила, что больше к Лизе не поедет. Елена Лизу оправдывала, дескать, засиделась одна, ей тоже не позавидуешь в этих «выселках». Приезжали домой голодные – у Лизы старались не есть, да и, честно говоря, особенно нечего было. Долго пили чай с колбасой и калачами на кухне и, отплакавшись, шли спать.
Лиза образования не получила – какое образование, когда в восемнадцать лет уже семья? Смеялась, что муж образован так, что хватит на пятерых. С этим не поспоришь. Елена этот брак не понимала и однажды все-таки осторожно спросила у Лизы, близкие ли они с мужем люди.
– Близкие, не близкие, а он гений, я это знаю, – амбициозно ответила Лиза. – Он будет скоро очень крупной величиной, а это престиж, деньги, командировки, переизданные труды.
– Тебе так все это важно? – удивилась Елена.
– Да, для меня это главное. А потом он не пьет, не гуляет, а все остальное я переживу.
Что такое «остальное», Елена спрашивать не стала, постеснялась.
Лиза рвалась на работу, искала няню, но с Иркой никто долго сидеть не хотел. Уже тогда, девочкой, она становилась неуправляемой. Потом все-таки Лиза работала пару лет на кафедре в Станкине секретарем. Работой была довольна – с ней считались, да и с чужими людьми она ладила легко. Ее вообще почему-то считали человеком легким и необидчивым.
Но проблемы и болезни дочки перевесили, и Лиза окончательно осела дома. «На хозяйстве», как говорила. Хотя дом вести не любила, готовила плохо, по необходимости, убирала нехотя. Но Ирку исправно мотала по кружкам, музыкам, гимнастикам, плаваниям… Та, правда, нигде долго не задерживалась. Лиза всех обвиняла, скандалила, верещала, что не смогли привить ребенку интерес. Ее стали остерегаться и связывались с ней неохотно.
Елена окончила пединститут. Биология на английском. Кому тогда была нужна биология на английском? Преподавала в школе просто биологию на русском, школу полюбила, детей тоже. Но школьники с ней не считались – не чувствовали в ней силу, да и предмет, по их мнению, был побочным, незначительным. Когда наладилась халтура, переводила статьи для научных журналов.
Мама долго и тяжело болела, но умерла в почтенном возрасте, совсем измотав безотказную Елену. Елена горевала безутешно. А Лиза на поминках сказала: «Слава Богу, все отмучились», подчеркнув почему-то это «все». Наверное, она была права, но Елена этих слов сестре не простила.
Еще до смерти мамы у Елены начался бесконечный роман с редактором одного крупного научного журнала, где она брала халтуру. Естественно, он был женат, микробиолог, книжный червь, грибник и лыжник – полностью родственная Елене душа. Жену он не любил (как говорил), но и не разводился из-за болезненной и слабой единственной дочки Регины. Ее очень жалел. Будучи человеком чрезвычайно порядочным, он понимал, что такое положение вещей унизительно для тонкой Елениной организации, и просил подождать, пока Регина окончит школу и поступит в институт. В институте от ответственности и перенапряжения у Регины начались неврозы и срывы. Он плакал, говорил, что она несчастная, болезненная, зеленая. Елена так и называла ее – «зеленая Регина». Про себя, естественно.
А когда он в очередной, сто восьмой, раз пытался заговорить с Еленой об их совместном будущем, она его твердо остановила: оставим все как есть. Он, кажется, облегченно вздохнул. Потом вообще случилась страшная трагедия: его жене кто-то сообщил о его тринадцатилетнем романе. Жена травилась, но выжила, а вот «зеленая Регина», будучи в то время сильно беременна, чего ждала почти семь лет в браке, от этих событий ребенка выкинула и больше так и не родила. Микробиолог этого не перенес – мучился после инсульта недолго, около года. Ухаживала за ним нанятая посторонняя женщина, тайно оплачиваемая Еленой. На похороны Елена, естественно, не пошла.
Вот после этой ужасной истории она ушла из школы и уехала жить на дачу, в Кратово. И еще обратилась к Богу, стесняясь почему-то. Стала ходить по воскресеньям в храм, потом еще и в среду. Становилось легче. Не это ли главное?
Иногда ездила в Москву, встречалась с работодателями – появилось множество толстых глянцевых журналов про природу и животный мир. Тут-то и пригодился в полной мере ее английский. Елену ценили за опыт, профессионализм и пунктуальность. Зарабатывала она вполне прилично. А много ли ей было надо?
Загородную жизнь она полюбила сразу и безоговорочно. И вечерние прогулки по любимым тихим сосновым улицам, и «золотые шары» у калитки, и утренние походы на станцию за ранней зеленью и кисловатыми подмосковными ягодами… Поездки в Жуковский за продуктами и купание в старом, заросшем кратовском пруду. Подругами не обзавелась, но с соседями общалась. Дом был старый, теплый, уютный, с маленькой печью-камином.
Вечерами вязала свои бесконечные шали крючком, а потом не знала, кому их подарить. Раздавала соседям. Читала, много спала днем, а ночью, естественно, маялась. Жизнь ее текла спокойно и неспешно. По ее сути, под стать ей самой. До болезни Лизы.
В ее старой московской квартире жила теперь племянница Ирка с новым мужем. И однажды Елена туда заехала что-то забрать – и увидела, что старая мебель, дорогие сердцу мамин комод и трюмо, выброшена, чашки разбиты и все переставлено и осквернено. Долго плакала на кухне, а потом, что смогла и что уцелело, забрала и больше решила в квартиру не приезжать. В бесцеремонности Ирка переплюнула свою мать.
Когда Елена забрала Лизу и обустроила их совместный быт, почему-то скрывала под разными предлогами свои походы в церковь. Стеснялась сестры, ее острого языка. И страшно смутилась, когда Лиза увидела на ней крестик – теперь Лиза ее высмеивала и презрительно звала «богомолкой». Сама же Лиза была из воинствующих атеистов. Впрочем, отрицала она многое, не только это – такой характер. Спорить с ней не хотелось. Однажды все же завела с захолонутым сердцем разговор на религиозную тему. Цель была одна – окрестить Лизу. Но та, уже почти бессильная, завелась ужасно. Плакала, выкрикивала Елене обидные слова:
– Где он, твой Бог? Я еще молодая, а вот подыхаю, а ведь младшая, между прочим, сестра. Отвечай!
Потом, обессилев, уснула. Елена смотрела на нее, и сердце рвалось от жалости. Подумала: даже вот перед лицом смерти ничего не может с собой поделать. Страшное дело – гордыня!
Ирка приезжала навещать мать примерно раз в две недели. Вот это был кошмар! Она то рыдала, то ржала, как лошадь, много ела, выкуривала несметное количество сигарет, всех поносила, жаловалась, кричала на безропотную тетку и уже бессильную мать. Лиза ее гнала: «Уезжай, мне от тебя совсем плохо, уезжай». Та, оскорбившись, хлопала дверью и следующие две недели не звонила.
Ничто не могло их примирить. Потом Лиза жалела дочь, говорила, что она несчастная баба, издерганная, замотанная. Елена не соглашалась: «Все не хуже, чем у других. А что ни с кем не уживается, то характер жуткий. И вообще, нервы тоже лечат. Здоровая кобыла, хоть бы помогла мать помыть или постель перестелить, конфетки в дом не привезет». Но это все про себя, про себя, а так в ответ Лизе кивала, соглашалась.
Лиза угасала медленно, но с каждым днем какие-то крупицы жизни из нее вытекали. Елене это было прекрасно видно, и смотреть на это было невыносимо. От бессилия Лиза становилась тише. И сестры впервые начали разговаривать. Не переговариваться, а именно разговаривать. Сначала ни о чем, потом вспоминали что-то из детства – рано умершего отца, оказалось, Лиза его совсем не помнила, вспоминали мать, старый двор, легкую и молодую дачную жизнь. А вот личные вопросы как-то обходили стороной. Да и какие там личные вопросы? Что было обсуждать-то? Лизиного гениального примороженного математика? Или Елениного несчастного микробиолога? Тоже мне тема! Да и Ирку обсуждать не хотелось. Зачем причинять человеку боль?
По воскресеньям Елена ездила в свой любимый храм Космы и Дамиана, в Москву, туда, где крестилась. С упоением отстаивала долгую службу, подпевала хору. Умиротворенная, возвращалась домой. И попадала под прицел Лизиных усмешек. Изо всех сил сдерживалась, чтобы не отвечать. Получалось. Чему-чему, а смирению православие учило хорошо.
К октябрю Лизе стало совсем худо. Елена съездила в Москву к районному онкологу и вернулась с упаковками сильнейших обезболивающих, тех, что стоят последними перед наркотиками. Больше всего она боялась, что у Лизы начнутся боли. От уколов и слабости Лиза почти целый день спала, ела один раз в день, и то как птичка. Иногда минут двадцать смотрела телевизор. Сама уже не читала. Порой просила почитать вслух Елену. Та читала ей Бунина и Куприна. Иногда Лиза беззвучно плакала. Теперь она уже совсем не вредничала и не спорила.
Елена спросила как-то:
– Может, вызвать из Бостона математика?
Лиза вяло отмахнулась:
– На черта он мне сдался? Да и тебе лишние хлопоты.
– Как хочешь, – удивилась Елена.
Однажды вечером, ближе к ночи – Елена была уже у себя, но дверь она теперь не закрывала, чтобы слышать сестру, – Лиза позвала ее.
– Сделай мне кофе.
– Сейчас, ночью? – испугалась Елена.
– Очень хочется.
– Да-да, конечно.
Елена накинула халат и побежала на кухню. Почему-то побежала. Кофе сварила с пенкой, в старой медной, еще маминой джезве. Крикнула:
– С молоком?
– Все равно, – ответила Лиза.
Потом осторожно, с ложечки поила Лизу. Та причмокивала от удовольствия.
– А завтра свари гороховый суп с ветчиной, ладно?
– Господи! – От радости Елена расплакалась. – Какое счастье, что ты захотела супу! Хочешь, сейчас пойду варить, ты проснешься и поешь, – причитала Елена.
– Успеется, – усмехнулась Лиза, – блаженная ты, посиди просто.
Елена кивнула:
– Да-да, конечно.
– А знаешь, ведь все мне поделом, – сказала Лиза.
– Ты о чем?
– О чем? Ты ведь даже не знаешь, какая я страшная грешница. Страшная. Мне все это поделом.
«Бредит, уже бредит, меня предупреждали», – подумала с ужасом Елена.
– И что у Ирки так, я виновата! Когда она с первым мужем развелась, помнишь, у нее была операция, ну там, киста, гинекология? – Елена кивнула. – Так вот я попросила врача, да что там попросила, заплатила, и он ей трубы перевязал. Подумала, есть ребенок, зачем этой дуре рожать второго? Сама сумасшедшая и наплодит таких же и еще мне подкинет. Вот так-то. А ты говоришь, на все воля Божья. Не на все. А потом, когда она с Генкой стала жить – неплохо, кстати, жить, он один ее в узде держал, – он детей хотел, а она не понимала, почему не получается. Я, естественно, не созналась – испугалась. Он ее и бросил. Тогда-то у нее все совсем разладилось и покатилось под откос. Я виновата. – Лиза громко вздохнула и откинулась на подушки.
– Ты ведь хотела как лучше, – тихо и неуверенно сказала Елена.
– Ну да, а получилось как всегда, – хрипло рассмеялась Лиза. Помолчав с минуту, она продолжила: – И жене твоего лыжника тоже я позвонила.
Елена поняла не сразу. Когда дошло, в ужасе прошептала:
– Ты?
– Я, я. Тоже скажешь, хотела как лучше? А ведь правда хотела. Хотела, чтобы он их бросил и к тебе ушел. А что получилось? Что молчишь? Ну, оправдывай меня!
Елена закаменела. А Лиза продолжала свой людоедский монолог:
– И еще я с Левкой жила.
– Левка – это кто? – одними губами спросила Елена.
– Левка – родной брат моего математика.
Елена смутно помнила этого брата – такой же невзрачный и субтильный очкарик, только тот гений, а этот рядовой инженер.
– Жила с ним пятнадцать лет, пока он в Канаду не уехал.
– Зачем? – только и спросила Елена.
– А мой вообще ничего не мог, все в мозги ушло, – легко сказала Лиза. – Вот я и приспособилась. Удобно. Я даже не знаю, от кого Ирка. А какая разница? Даже фамилия одна. – Лиза зашлась в кашле и страшном смехе. Елена молчала. – Это ты у нас молодец. Все всегда делала правильно. Жила честно и праведно. Молодец! Правда, для себя жила. – «Вот тебе и раскаяние с покаянием», – подумала Елена. – А у меня дочь – сволочь, мужа, считай, что нет. И меня самой тоже уже нет. Вот так-то.
Господи, опять характер паскудный вылез. Даже сейчас.
– Спи, – твердо сказала Елена. – Будет тебе завтра гороховый суп.
Она резко встала и ушла к себе. Сначала закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, как бы отгораживаясь от всего, что она узнала этой страшной ночью. Но потом все же оставила слабую щель. Легла. Лиза долго ворочалась и вздыхала. Елена не спала ни минуты, а в пять утра встала, чтобы замочить горох.
В комнате сестры было тихо.
В начале восьмого она пошла в церковь, не в свою, дальнюю, а рядом, в местную, близкую, полчаса ходьбы. Надо было просто скорее дойти. И просить, просить у Бога прощения за Лизу. Всеми силами просить. И поговорить с батюшкой. Она стояла и молилась так истово, как никогда раньше.
– Господи! Прости мою сестру! За все прости! Она не ведала, что творила! Но раз она рассказала мне все это, значит, страдала. Ты уже и так наказал ее самым строгим судом! Прости ее, Господи! Я буду молиться за нее, сколько буду жить! Хватит с нее испытаний и боли! Не посылай ее в ад, Господи! Ад был у нее на земле!
Молитва была своевременной. В девять утра Лиза умерла. Умерла во сне, спокойно. Слава Богу, без болей.
Здоровая Елена пережила сестру всего на четыре месяца – пьяный подросток на ворованных «Жигулях» сбил ее, ехавшую из храма после службы в день большого церковного праздника. Моментальная смерть. А куда определили сестер в той, другой, жизни, если она там есть, и что вымолила Елена, мы не узнаем, этого нам не дано.









































