Читать книгу "Один, не один, не я"
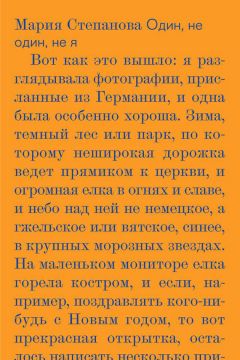
Автор книги: Мария Степанова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но у тонкого в этой системе координат попросту нет шансов. Именно тонкого нам сейчас мучительно, отчаянно недостает.
Как так вышло
Возможно, дело в том, что мы слишком близко к сердцу приняли позицию другого (другого себя, себя-читателя, себя-чужого). Мы захотели читать собственные стихи глазами соседа по купе, захотели, чтобы они нам нравились – в то время, как они должны бы пугать или поражать, а мы – быть с ними незнакомы.
Возможно, дело в том, что лицо другого придвинулось слишком близко и слишком быстро. О распространением социальных сетей непрозрачность и разделенность существования автора, стихов и читателя из естественного состояния вещей становится вопросом личного выбора (а намеренная непрозрачность – чем-то вроде экзотической аскетической практики). Ситуация, когда единицей публичного бытования текста вместо книги становится свеженаписанное стихотворение, которое к тому же и пишется зачастую на миру, на чужих глазах, многое меняет. Относиться к стихам теперь можно как к разменной монете коммуникации, одной из бытующих валют. Возможность немедленной реакции на текст делает его еще больше похожим на товар, услужливо доставленный на дом (комментарии к стихам сдаются читателями, как сдача с купюры, внося дополнительную подсветку успеха или неуспеха). Стихи стали сообщением, плохо (косо) пристроенным к адресату; встали рядом с записью в блоге, фотографией в ленте фейсбука. Впрочем, легко сказать, что жалеть не о чем: в конце концов и картина – давно уже не окно в глухой стене, каким она была в старые годы.
Возможно, вместе с непрозрачностью утрачено что-то очень важное – право автора на одиночество, на неписание, на долгие переходы от текста к тексту. И, не в последнюю очередь, на незнание всего, что о тебе говорят. «Я не читаю рецензий», «не занимаюсь vanity search'eм», «не интересуюсь читательской реакцией» – тактика, которая сейчас, с появлением blogs.yandex.ru, кажется архаической (если не лицемерной), – едва ли не единственный способ противостояния логике спроса и запроса. Она все равно победит: своего читателя уже трудно не знать в лицо, скорость коммуникации все увеличивается, временной зазор между текстом и публикацией минимальный, а между текстом и чужой оценкой – и вовсе никакого. Уверена, хотя не могу проверить, что все эти штуки влияют и на саму поэтическую работу: меняется темп письма и количество написанного, расплывается (или собирается в точку) адресация. Мы живем на миру, демонстрируя публике свои прыжки и кульбиты на широком фоне общегосударственной бодрости и полноты. Ничего удивительного, что и любое суждение вкуса воспринимается нами как попытка выстроить властную вертикаль.
Поразительно, что все согласны с тем, что все не так – но никакого представления о том, как сделать так, нет. Позитивная программа у каждого сводится к перечислению нескольких имен по списку; именно поэтому все так стесняются хвалить чужие стихи – понимая, что примирение и согласие длится только до тех пор, пока эта неприличная вещь – частное мнение, личный вкус – не обнажена. Строители вавилонской башни даже не пытаются уже поговорить друг с другом; нет ни общего языка, ни границ, ни правил, ни самой веры в возможность понимания. Вместо нее – ощущение дурной стабильности; чувство, что мы участвуем в работе чужого, не нами заведенного, механизма. Это чувство, думаю, общее у всех участников литературного процесса, да и у всех вокруг.
И что тут делать
Прежде всего – осознать смехотворность и относительность рукотворных иерархий. Никто никого не отменяет, никто никого не подсиживает, никто никому не нужен. Холодок непристроенности (на фоне истерической подогретости, в которой сейчас существует театр или арт) – единственное, что дает поэзии шанс не участвовать в параде общих достижений, не оказаться паролем-отмычкой, открывающей двери для стороннего, внешнего смысла. В этой ситуации единственным выбором представляется непрозрачность: темное, закрытое, непопулярное, незанимательное, неуспешное катакомбное существование, идущее в стороне. В том числе – и от собственного «хочу» и «могу», погружающих каждое действие в логику рынка, готовых вписаться в любой контекст и превратить любое поражение в хорошо рассчитанный выигрыш.
От чего отказывается поэзия, отворачиваясь от притязаний на успех, – от читателя-современника? От социальной функции? От необходимости отвечать (заведомо заниженным) ожиданиям? От возможности стать лекарством? Потери тут неизбежны. Поневоле начнешь поглядывать в сторону смежников – на территорию актуального искусства, которое потратило век на то, чтобы навсегда развести «делателей красивого» и производителей неуютного, неприменимого в быту, социально неприемлемого, и продолжает идти по пустыне к неведомому результату.
Окажу честно: я не знаю, что делать дальше. Но эта ситуация (непродуктивного незнания, постоянного стыда, гнетущего беспокойства, слепой беготни по мозговым коридорам) кажется мне единственным способом найти аварийный выход.
Октябрь 2010
Перемещенное лицо
Предположим, что (по каким-нибудь, каким угодно, причинам) в стихах вдруг оказались бы под запретом местоимения первого лица – и одной из задач пишущего (и, как следствие, читающего) стал отказ от точек фокуса, по старинке обозначаемых как «я» и «мы». Что при этом теряется – и теряется ли? Зачем, казалось бы, вообще лирике нужно «я», когда дело устроено так, что, если вымарать из стихов все я и мы, нас все равно будет видно. Вещество стихов само заботится о себе, воспроизводя поступку автора каждой строкой, каждым поворотом. Отбор предметов описания, артикуляция и жестикуляция, разного рода способы уклонения от реальности или союза с нею – все то, что составляет в стихах территорию индивидуального, не нуждается в подписи, чтобы быть узнанным. «Я» здесь – что-то вроде капитана Очевидность: чем больше, разнообразней и многослойней присутствие поэта в тексте (а чтобы текст был хорошим, автор должен глядеть из каждой пóры, делиться с каждой клеткой), тем меньше необходимость в подписи. Другое дело, что то, что мы называем сильной поэтикой – то, что делает поэтическую речь действенной, то есть неповторимой, – всегда результат микродеформаций, маленьких насилий над языковой тканью, невидимых, незаметных сюжетов преодоления и подчинения. В этом смысле лирическая поэзия – не умеющая обойтись без автора, как собака без хозяина, обречена на то, чтобы быть так или иначе окрашенной, не-нейтральной и не-прозрачной (как vino tinto – красное, имеющее цвет, вино, отличается от ничьей, никакой, неуязвимой воды).
Оставим в стороне гипотетического читателя, который отбирает для себя тексты, руководствуясь логикой «да это ж про меня» – как будто, чтобы прочитать стихи о любви или папоротнике, нужно непременно обзавестись собственной фотографией на их фоне, просунуть голову в окошко – и я там был! Но если считать, что стихи – предприятие по добыче некоего экстремального (или хотя бы специального, не легко и не всем дающегося) опыта, и их задача – подтолкнуть читателя, вывести его из себя (куда-то во вне себя), поэт оказывается чем-то вроде посредника, личность которого нуждается в идентификации и проверке. Нам важно знать, что он действительно побывал в другом, чужом для нас и странном месте, и вывез оттуда вещественные доказательства, заморский продукт – звуки райские. Ответ на вопрос, кто именно с нами говорит, отчаянно важен – поэтому разговор о стихах часто начинается или кончается детской игрой в верю-не верю: «да он все это сам сочинил», говорим мы, когда чужой опыт кажется нам ложным или пустым. Мы как бы отказываемся верить поэту на слово, требуем предъявить верительные грамоты: биографию, письма, дневники, корпус поясняющих текстов (эти легкие сдвиги реальности должны быть сообщением, обращенным ко мне, а не случайной словесной рябью на поверхности языка).
Лирика вряд ли возможна без доверия к этому «кто говорит». По сути, поэт – простое устройство, что-то вроде фонарика, наведенного на те или иные объекты, делая их впервые-видимыми, – но место, где мы нуждаемся в фонаре, темное и чужое, а он – наш единственный проводник. Отсюда важность самого голоса, его единства и неделимости – того, что очень грубо можно назвать интонацией или манерой. Поэтому так тревожит читателей разница «ранних» и «поздних» Пастернака и Заболоцкого, отсюда и сама потребность в сравнении «до» и «после», «было» и «стало», неизбежных, когда речь идет о длящейся жизни.
Другое дело, что занятие поэзией подразумевает цепочку больших и маленьких смертей, каждая из которых ставит под сомнение возможность дальнейшего существования. Стихи передвигаются гигантскими рывками, выдергивают себя из привычной и плодородной почвы, отрицая (отрясая) саму землю, за которую только что держались. Кажется, так поэзия сохраняет себя – путем разрывов, отрекаясь от того, что только что составляло ее неотъемлемую принадлежность, а то и самую суть.
Возможно, сейчас этот разрыв будет касаться фигуры автора и идеи авторства.
По моему ощущению, говорение-стихами в России упирается сейчас в какую-то стенку, и я физически ощущаю масштаб усилия, необходимый, чтобы ее проломить. В чем дело? В том ли, что нулевые вызвали к жизни парад умений, выставку достижений, которую хочется уже считать закрывшейся: сам избыток и разнообразие происходящего как-то смутно, с искажением пропорций и деталей, напоминает то, что творилось вокруг, живые картины путинской стабильности? Но разговор о смене рамки, о перезагрузке, о пересмотре оснований, на которых существует сейчас поэтическое, ведется уже давно и в разных формах, а иногда и внутри рта. Речь, как водится, идет об отказе – на этот раз от всего, что может быть воспринято как излишество или «богатство», что имеет отношение к силе, успеху и даже простому качеству: от всего, где есть возможность иерархии, тень избирательности. Глубокая статья Григория Дашевского («Как читать современную поэзию») в числе прочего делит современные стихи на те, что обращены к своим, взывают об узнавании (цитат, культурных кодов, подземных ходов тайной близости) – и те, что могут быть прочитаны каждым на слепящем свету безличности/публичности. Мыслить свою речь как общую – или обращенную к некой общности, нашаривающую ее в темноте, – значит избавлять ее от всего избыточного, от всего частного или собственного. В пределе это значит крайнюю бедность средств и замыслов, которую предстоит нести как крест. Все, что напрашивается дальше, вся последовательность мелких и крупных мер по пресечению – в пределе имеет, конечно, в виду главный, неизбежный отказ – отказ от «я», лишнего как такового. Для начала можно вывести его за скобки, сделать неупотребимым, смешным анахронизмом: я надела узкую юбку и все такое.
Но есть ощущение, что понадобиться могут более серьезные средства. Разрыв с индивидуальным в поэтике может осуществляться по-разному. Наиболее лобовой и сильнодействующий ход – окончательная победа путем отказа. «Я» здесь под угрозой уже не как парадный подъезд, дверь, полуоткрытая в ожидании читателя – но как организующая воля, стоящая за последовательностью слов и текстов. Поэт должен снять как шелуху все то, что составляет для него животную прелесть поэзии, все ее погремушки и побрякушки, ритм, рифму, цитаты, все, включая авторскую повадку, то, что принято называть своим голосом (неизбежно ставя под вопрос оба понятия) – в надежде, что за чертой обнаружится неделимый, невымываемый остаток – вещество поэзии в чистом виде.
Видимо, это и впрямь так работает – то есть может работать еще и так, – и поэзию можно рассматривать не только как проект (кто-то скажет с места: «колонизаторский») по расширению территории поэтического, где занимаются и обрабатываются новые и новые нежилые зоны, поднимается (и понимается) вчерашняя целина. И не только как прогрессистскую утопию разработки новых средств в погоне за скачущей современностью. Но и как своего рода потлач, оргию самоотдачи, последней раздачи имущества (мира красоту и яже в нем тленная оставив) – сдирая с себя все, отказывая себе во всем, включая существование. Этот жутковатый стриптиз, где за внешним (блузка, туфли, трусы) следует сущностное – тело, кости, кожа, – может завершиться победой, если удастся доказать, что суть дышит где хочет и не нуждается в носителях и оболочках.
Похоже, на нынешнем этапе – а я подозреваю, что поэзия сохраняет себя только так – путем самоуничтожения, отсечения всего, что только что составляло ее неотъемлемую принадлежность, а то и самую суть, – смысл лирики, ее новое дело жизни состоит в попытке покушения на то, без чего она пока не умеет обходиться: на личность поэта. И поскольку поэзия – вещь последовательная, если автор становится для нее проблемой, она должна с ним что-то сделать. Вопрос – что.
Под вопросом, получается, лирический поэт как инстанция. Как это было устроено в последние двести-триста лет, в традиционной схеме-расстановке, по которой работает лирика? Как в старом кино. Герой ведет машину, сидит на лошади, мотоцикле, ковре-самолете, оставаясь при этом неподвижным, – а за его спиной со страшной скоростью разматывается пейзаж, создавая иллюзию движения: мчится не он, а окружающее, горы, равнины, облака. Поэт-лирик – статичный и стабильный центр своего универсума – он точка, из которой исходит речь, луч, направляемый на сменяющиеся объекты. В некотором смысле именно эта неподвижность обеспечивает поэтическому тексту его аутентичность и доверие читателей: это своего рода трейдмарк, те или иные картинки и ситуации уже навсегда называются для нас «Блоком» или «Аронзоном».
То, что меня интересует сейчас, стоит где-то в пустой зоне между необходимостью-автора (проводника, посредника, Дерсу Узала или Кожаного Чулка, живого человека в том здесь, куда не ходят чужие) и потребностью в тексте как в чистой и общей чаше (где можно и нужно вопреки Бродскому разделить с другим стихотворение Рильке). Я вижу там что-то вроде обещания или хотя бы возможности – и вот как она выглядит.
Предположим, условия задачи такие. От нас требуется не просто сбросить балласт, избавиться от лишнего – но отказаться от всего, чем, осознанно или неосознанно, владеешь, а «владеть речью» – естественная претензия человека, живущего при помощи слов. Если задача формулируется как победа над субъективностью, отказ от себя и своего, то, повторюсь, наиболее очевидное, лобовое решение сводится к очищению, ошкуриванию текста – полному отказу от выразительных средств: того, что составляет его внешнюю оболочку. Этот способ – на самом-то деле что-то вроде косметического ремонта, не затрагивающего структуры жилья и житья, здесь не требуется радикальных перепланировок или прокладки новых электросетей. Но извне это выглядит как сильный жест – хотя бы потому, что и он существует в круговороте насилия – только на этот раз оно развернулось лицом к автору которому предстоит работать в новой системе запретов и покупать исключительно черное или белое.
Но может оказаться, что это решение не единственное – и уравнение надо решать не через икс, а через игрек.
Что значит эта воля-к-смерти-автора, так или иначе обнаруживающая себя в текстах последнего времени? Вымывание «я» из стихотворных сборников и антологий, анонимные и псевдонимные проекты, опыты говорения голосами, опыты присоединения чужого слова (на которое ложатся ничком, как на новую землю), речь, зависшая, как дирижабль, над границей персонального и безличного – детали большой картины. Но почти на всем протяжении полотна вместо того, чтобы оставаться in charge – сохранить контроль над текстом и водить его, как войска, в разных направлениях, автор разжимает руки и отказывается быть. Что это может значить – и главное, как это работает? Может быть, как обещали при заре эры автоматического письма, наш текст начинает жить на автопилоте и сам формирует субститут, манекен, автора на час: то был не я, то был другой? Главное вот в чем, кажется, – пишущий охотно признает нетождество себе-самому на каждом из этапов бытования стихотворения. На уровне замысла, затем письма (не говоря уж об особенной стадии, которую приходится назвать остыванием текста – это временной промежуток между завершением поэтической работы и ее окончательным усвоением-растворением в языковой реальности) отношения между текстом и автором подразумевают своего рода зазор: непрочное равенство, неполное понимание.
Но и текст, и автор воюют на одной стороне – они не хозяин и работник (не лошадь и объездчик), а орудийный расчет, где у каждого бойца своя функция (и общая цель). Чтобы артиллерия не била по своим, надо уяснить себе смысл и место каждого – и предположить, что смысл их объединения в противо-стоянии чему-то внешнему, врагу или другу, стоящему перед обоими.
Если центром поэтического мира, его пупом-ом-фалосом, оказывается не личность поэта (вечно утыканного стрелами экстазов, как святой Себастьян, или рассылающего по сторонам лучи-валентности), а что-то с-наружное, внеположное – неподвижный вопрос, стоящий перед единичной поэтической практикой, взывая к ответу и разрешению, – оказывается, что отношения «автор-язык», «автор-текст» и даже «автор-автор» можно видеть по-другому. Этот вопрос, как правило, не имеет никакого отношения к общему делу, к задачам поколения или языка, но стоит он перед тем, кому адресован (передо мной, например) так близко и так отчетливо, что не отвечать нельзя – и мы отвечаем, пока не становится ясно, что собственный опыт здесь недостаточен. Противником (тем, что должно измениться, подвергнуться обработке и перерождению) оказывается тогда не языковая ткань и не материя поэтического, а собственные границы. «И чувствую: „я“ для меня малó». Исчерпанность и конечность «я» (при объеме задач, которые стоят перед человеком и текстом) представляются мне главной ловушкой, в которой обнаруживает себя лирика, подошедшая к очередной финальной черте – где, чтобы выжить, поэту нужно стать хором.
Сама мысль о владении собой («я» как свечной заводик) кажется подвядшей и несколько смешной, но и деться от нее некуда. Среди разнообразных прав владения, связанных с поэтическим делом (где право первенства там, где дело касается тем или приемов, по-прежнему что-то значит), только «я» невозможно ни запатентовать, ни скопировать, и оно остается единственной неотчуждаемой собственностью, неразменным рублем состоявшейся участи. Но кажется, что нынешняя ситуация дает возможность обновить привычные соотношения.
В статье о поэзии девяностых Илья Кукулин ввел в критический обиход представление о фиктивных эротических телах авторства. Позволю себе длинную цитату. «Эти тела являются своего рода посредниками, которые связывают авторское сознание с миром; и в то же время это действующие лица, которые разыгрывают символические драмы, выражающие некоторые общие свойства мира. Авторское сознание, или, точнее, авторский порыв, который охватывает всё существо пишущего (в терминологии „Разговора о Данте“ Мандельштама), летит за этими призрачными телами – они осуществляют творчество как бы впереди него. Эти тела отчуждены от авторского сознания и могут быть рассмотрены несколько со стороны, как чужие люди ‹…›. В то же время они неразрывно, кровью, связаны с авторским сознанием. ‹…› Их порождение было, очевидно, свойственно и поэзии предшествующих эпох, но в 90-х взаимодействие с ними и драматизация этого взаимодействия стали важным, наглядным и часто осознанным творческим методом».
Если двигаться дальше в предложенной логике, выводя за скобки как частность указания на телесный характер этих отчужденных от автора и неразрывно связанных с ним конструкций-посредников, можно говорить о чем-то большем – и очень важном. Конец девяностых дал поэзии новую рабочую схему, которой грех не воспользоваться – дополнительные инстанции письма, равные, но не тождественные пишущему, которые можно назвать фиктивными фигурами авторства. Такие фигуры представляют собой что-то вроде сорокинских клонов (Пушкин-7, Парщиков-19): модели авторских практик, точек зрения, которые могли бы и долженствовали быть – но только действующие в ограниченном времени-пространстве одного цикла или книги стихов, пытаясь исчерпать там все свои возможности. Звучит вполне механистично – но так выглядит свобода, которую обещает тексту я-не-я, промежуточная инстанция, обладающая суверенной территорией и существующая по законам, не полностью тождественным тем, что признает над собой автор.
(Что отделяет эти фантомные голоса, практики-времянки, от векового опыта литературной мистификации с ее масками и усами? Может быть то, что они и не пытаются притвориться неодноразовыми. Легкие рабочие конструкции не скрывают своей утилитарности и ситуативности, того, что поставлены они, как палатка или штатив, на короткий срок, для выполнения единичной задачи. Можно сказать, что их существование – что-то вроде демонстрации возможностей, намного превышающих умения и притязания их физического автора; они что-то вроде фрагмента, указывающего на существование целого.)
Но что в этой ситуации остается от автора? Соглашаясь с теми, кто видит этическую разницу между «пишу как хочу» и «пишу как могу» (и по понятным причинам выбирает второе), я подозреваю, что «не могу иначе» относится не столько и не только к самому тексту, его звуковой и смысловой одежке, но и к тому, о чем и зачем он существует. Какие бы задачи не решал поэт на поверхности собственного письма, где есть место иллюзии удач и ошибок, откуда последовательность текстов видится как воля (набор осознанных решений), а не как доля (последовательность, заданная законами, очень похожими на законы грамматики), в главном он все равно обречен на себя. Как вокруг взрывной воронки, все его силы стянуты к границам огромной проблемы, с которой он пытается иметь дело (ответом на которую, собственно, является все, что он делает), – собраны воедино, как намотанная на кулак ткань. Перед ее лицом собственный голос имеет не больше и не меньше прав, чем голоса соседей, заместителей, свидетелей, живых или кажущихся живыми. Контуры этой проблемы он бесконечно нащупывает и теребит; переходит в погоне за решением с места на место, говорит о ней долго и тихо, громко и коротко – и никакое единичное «я видел выход» не будет достаточным для ответа. В некотором смысле поэты этого типа есть то, что их ест: боль, масштаб которой превышает их когнитивные возможности – до такой степени, что, оставаясь только-собой, себе не поможешь.
Если вернуться туда, где лирический поэт являлся неподвижным объектом съемки (а заодно и поводом к ней, и единственным оптическим прибором, позволяющим различить то, что вокруг), новая ситуация обещает и новую съемочную технику. «Я» оказывается тогда не актером, но камерой; камер вдруг становится несколько – много – и направлены они не на тебя. Авторская воля сводится тогда к работе команды, обеспечивающей прямой эфир для эксперимента; задача едва ли не техническая: переключение камер, смена планов. Но если предположить, что все камеры работают, все голоса говорят (поют, кашляют, свистят, запинаются, один из них, видимо, принадлежит самому автору, но мы не можем с уверенностью сказать, какой), – и если этот пучок или веник расходящихся интонаций будет существовать как текст, как единство, эксперимент можно считать удавшимся. Корпус написанного поэтом представляется тогда чем-то вроде гигантской инсталляции со смещенным центром – и какое же счастье знать, что ты не центр, а радиус.
У Шварц в «Кинфии» есть стихотворение, где отжитые «я», девчонки и взрослые, предстают чем-то вроде разматывающейся цепочки, электрической гирлянды тождества и самоотрицания («Сами бы себя передушили, / Сами бы себя перекусали»):
Но душа бы искрой убегала
От одной – в другую – до живущей,
До меня, мгновенно долетая,
Оставляя позади все толпы
Тающих, одетых, неодетых,
Гневных, и веселых, и печальных —
Будто город после изверженья
Равнодушно-дикого вулкана.
То, что можно предлагать и понимать как метафору, зачастую оказывается простой констатацией. От «я» до «я», как от мысли до мысли, много тысяч верст, и вдоль дороги столбами стоят отработанные, омертвевшие оболочки живого смысла, который только и знает, что вышибить дно и выйти вон.
Мои стихи, пожалуй, и впрямь написаны разными авторами; и вот, с разных точек и разными голосами, они пытаются засвидетельствовать или опровергнуть одну гипотезу, кем-то данную мне как пожизненное жало в разум. Именно с ней, а не с голосом-манерой-поступкой, поэт бывает связан, как кандальник, общей цепью – и для того, чтобы отстраниться, увидеть ее издали и сверху, ему необходимы эти цепочки расщеплений и замещений, выходов из себя и из мира, знакомые-незнакомые голоса, говорящие с ним со стороны, с равнодушным участием постороннего. Так, вокруг дыры в реальности формируются фиктивные поэтики. Их дело – перевернуть вросшие в землю булыжники персональной боли и сделать так, чтобы под ними текла живая вода. Если получится.









































