Текст книги "Истоки"
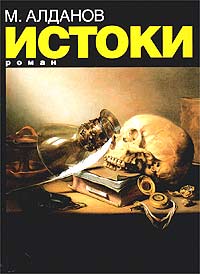
Автор книги: Марк Алданов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
III
Опять зашипел звонок и, перекрывая его, прозвучал властный сильный стук в дверь: так всегда оповещала прислугу о своем возвращении Елизавета Павловна, тоже очень давно говорившая, что звонок следует переменить. В ту же секунду раздались радостные голоса, тотчас заполнившие всю квартиру. «Да, конечно, без них было бы скучно», – подумал профессор, уже совершенно спокойный и веселый. В гостиной, где стоял большой расстроенный рояль, стукнула крышка, очевидно, не поднятая, а подброшенная кверху, затем прозвучал какой-то аккорд из «Руслана», и крышка снова захлопнулась. Послышались еще голоса, испуганно-радостный крик и общий смех. Через минуту широкая дверь кабинета с шумом распахнулась, в комнату быстро вошли, держась за руки, обе дочери Павла Васильевича; звучный баритон спросил: «Можно?» и на пороге появился, весело смеясь, Черняков, в модном сюртуке с цветком в петлице. За ним следовал доктор, которого называли Петром Великим и который давно принадлежал к постоянному составу гостей.
– Папа, вы не можете себе представить, что случилось!
– Милости просим, господа. Садитесь, – сказал Павел Васильевич, приветливо здороваясь с гостями. – Что же такое случилось?.. Машенька, милая, дай нам ту коробку.
Маша подала ящик с сигарами и села застенчиво в углу подальше от лампы, точно стыдясь своей наружности. Она в самом деле была нехороша собой. В углу она и просидела до обеда, влюбленно глядя на сестру и с наслаждением вслушиваясь в каждое ее слово.
– Папа, вы равнодушны к свалившемуся на нас несчастью!
– Да, да, Лизанька, я слушаю… Не хотите, Михаил Яковлевич? Правда, до обеда лучше не курить… Что же такое случилось?
– Случилась неслыханная катастрофа! То есть, если хотите, не совсем неслыханная, потому что у нас это уже бывало… Чего, впрочем, у нас не бывало? Но нам всем все-таки надо покончить с собой. Вы знаете, что у нас сегодня обедают они: Черняков и Петр Великий? Кроме того я пригласила Владимира Викторовича.
– Кто это Владимир Викторович?
– Как же вы не помните, папа? Владимир Викторович… Ну, вот, я сама забыла его фамилию! Сейчас вспомню. Владимир Викторович, ну тот, который добровольцем ездил воевать с турками, еще к генералу Черняеву. Он был у нас два года тому назад, неужто вы не помните? Красивый, высокий блондин, бритый. Его недавно демобилизовали. Я его встретила на Невском и позвала к нам обедать. Разве я вам не говорила? Конечно, я сказала, и вы были очень рады.
– Я очень рад, но в чем же все-таки катастрофа?
– В том, что я совершенно забыла заказать обед, а эта дура Лукерья почему-то решила, что мы обедаем в городе, и ничего не приготовила! Она говорит, что у нее не было денег. Я, действительно, забыла оставить ей деньги… Впрочем, у меня и у самой не было: я тоже забыла взять у вас. Но она могла бы взять у швейцара или в булочной, или…
– Или в Английском банке, – вставил доктор.
– Впрочем, она вообще идиотка и если б она не готовила так хорошо, то ее давно следовало бы прогнать.
– Тем более, что ее зовут не Жюли, а Лукерья. Нельзя называться Лукерьей, правда?
– Уверены ли вы, Елизавета Павловна, что ваши народнические убеждения, в твердости которых я, избави Бог, нисколько не сомневаюсь, позволяют употреблять слова «идиотка» и «прогнать» в отношении трудящегося человека? – весело спросил Михаил Яковлевич.
– Ах, оставьте, пожалуйста, Черняков! Я так говорю обо всех.
– Обо всех можно, а о народе нельзя. Вот я пожалуюсь вашим друзьям, народным печальникам. Они вас живо приструнят.
– Ну, это мы еще посмотрим.
– Лиза очень любит Лукерью, – сказала, вспыхивая, Маша.
– Друзья мои, я не вижу никакой трагедии, – сказал профессор.
– Подождем этого Виктора Владимировича, и я вас всех везу к Борелю.
– К Борелю, папа? Это идея… Хотя нет, к Борелю нельзя. Я не одета, и это было бы долго, а мы все голодны, как звери. Кроме того, зачем тратить тридцать или сорок рублей? Дайте их лучше мне, папа. А вот что мы сделаем: я сейчас пошлю Василия к Елисееву, и он нам все привезет. Будет холодное, но это не беда. Папа, дайте же мне денег, у меня нет ни гроша. И отдайте три рубля Чернякову, я у него взяла. Не плачьте, Черняков, вы не уйдете голодным. Машенька, скажи, чтобы накрывали… Впрочем, нет, сиди, я сама распоряжусь.
Она вскочила и выбежала из комнаты. Черняков поглядел ей вслед и чуть вздохнул, – совсем слабо вздохнул, никто не мог бы заметить.
Михаил Яковлевич несколько изменился в последние три года. Он получил кафедру, пополнел, одевался теперь у Шармера, еще лучше, чем прежде. Речь его стала еще более гладкой и закругленной; в минуты волнения, или когда он хотел быть особенно убедительным, у него в голосе слышались уже не баритональные, а басовые ноты. Он так привык к профессорской речи, что ему было трудно и в разговоре произнести фразу, в которой не были бы безукоризненно согласованы главные и придаточные предложения (их бывало и по три в одной фразе; полушутливые слова «сей», «оный» он теперь употреблял не так часто). Черняков был одним из самых популярных лекторов в университете. По своей доброте и веселому характеру, он пользовался общим расположением. Дамы уже не совсем шутливо говорили, что его надо бы женить. В ответ на это он, смеясь, цитировал Чичикова: «Что ж? Женитьба еще не такая вещь, чтобы того… Была бы невеста». Михаил Яковлевич любил цитаты. На лекциях цитировал Шекспира и Гете в подлинниках, сопровождавшихся переводом, а в разговорах – Гоголя, Островского, Козьму Пруткова, – их одинаково обожал (Гете и Шекспир были так).
О женитьбе он подумывал и сам. Михаил Яковлевич нравился женщинам. Некоторые легкомысленные курсистки называли его «душкой». Говорили, будто жена одного старого профессора хотела из-за него отравиться; правда, она не отравилась, однако, хотела, и слух сам по себе окружил его некоторым ореолом. Сам он с веселым недоуменьем думал, что оказался тут в роли не Дон-Жуана, а Иосифа Прекрасного. Черняков по джентльменству никогда об этой истории никому не говорил; да и в роли Иосифа он оказался также из джентльменства: мысль о том, чтобы отбить жену у товарища, была ему противна. Михаилу Яковлевичу нравились многие барышни и ни в одну из них он не был влюблен. Но ни одна барышня не нравилась ему так, как Елизавета Павловна.
Ученая и журнальная карьера занимала в жизни Чернякова такое огромное место, что для всего другого оставалось немного. Это немногое он собирался отдать жене, зато целиком, без остатка, и чувствовал, что будет прекрасным мужем, прекрасным отцом семейства. «Была бы милая, хорошенькая девушка, хорошо воспитанная, достаточно образованная, и мне больше ничего не нужно». Никогда он не искал за невестой денег. Правда, деньги дали бы возможность устроить салон, что было его мечтою. Но Михаил Яковлевич был бескорыстным человеком. Он уже достаточно зарабатывал и рассчитывал скоро стать редактором отдела в одном из лучших журналов: его ежегодный заработок тогда дошел бы до четырех тысяч. «Этого достаточно для приличной жизни. С таким бюджетом можно, без салона в настоящем и тесном смысле слова, принимать раза два в месяц. И дело, конечно, не в том, чтобы непременно был первоклассный ужин, дорогие вина, хотя, конечно, это имеет известное положительное значение, – главное: какие люди бывают. А у нас охотно будут бывать самые выдающиеся люди России… Нет, нет, никакого приданого, лишь бы милая девушка», – думал дома по вечерам Михаил Яковлевич.
Незадолго до своего временного переезда в дом Дюймлеров, он снял новую, довольно большую квартиру, – с лишней комнатой для будущего будуара будущей жены, как детям шьют платье с некоторым запасом на рост. Улица была хорошая, адрес на визитной карточке был такой, какой нужно: не набережная, не Сергиевская, не Миллионная, но и не Гороховая и не Загородный проспект. Понемногу Михаил Яковлевич обзавелся обстановкой. Он покупал ее именно так, как советовали покупать Муравьеву: бегал по рынкам и все покупал по случаю (причем случай редко не бывал необыкновенным). Михаил Яковлевич был одним из первых в Петербурге людей, оценивших русскую старинную мебель. В кабинете у него стояло приобретенное за бесценок бюро с откидной крышкой на ремне, с множеством ящиков, с тайниками, – вещь совершенно отентичная[76]76
Аутентичная – подлинная (греч.)
[Закрыть], как он говорил приятелям, показывая на ходы, прорытые червями (вологодская мастерская, изготовлявшая на всю Россию старинную мебель, специализировалась на червях). На бюро были в порядке расставлены мраморные канделябры, мраморный письменный прибор, с чернильницей, песочницей, разрезным ножом, лодочками для перьев и карандашей. Бумаги были распределены по ящикам, – Михаил Яковлевич только не знал, что положить в тайники; в его жизни почти ничего тайного не было. Освещался кабинет тяжелой александровской люстрой в виде черного бронзового блюда. В углу была фигурная изразцовая печь, а на стенах висели портреты Тургенева, Шеллинга и Гнейста с надписью: «Herrn Professor Dr. Michael Tscherniakoff in aufrichtiger Schätzung. Rudolf Gneist».[77]77
«Господину профессору, доктору Михаилу Чернякову в знак искреннего признания. Рудольф Гнейст» (нем.)
[Закрыть]
Однако, как ни нравилась Чернякову Елизавета Павловна, он понимал, что на заказ было бы трудно придумать менее подходящую для него жену. «Конечно, с годами дурь с нее соскочит. Она просто слишком энергична и деятельна, я не верю в серьезность ее радикальных убеждений. Все это нынешнее поветрие, влияние тех молодых людей, которых я выживу из дому. Но это „с годами“, а если делать предложение, то надо бы сделать его сейчас. Между тем ее тон, ее барские замашки, возможные сюрпризы…»
– Так что же вы думаете, господа, о замене Николая Николаевича Тотлебеном? – спросил Павел Васильевич. Черняков вздохнул и высказал свое мнение; оно, впрочем, не отличалось от мнения половины других профессоров. Доктор Петр Алексеевич пожал плечами. Назначение Тотлебена совершенно его не интересовало. Разговор ненадолго остановился.
– Ну, мы как, Машенька, как живем? – спросил Черняков. – Ах да, Коля очень просил вам кланяться. – Маша вспыхнула. Она от всего краснела. Это (и еще ее заиканье, впрочем, очень легкое) было крестом ее жизни. – Коля мой племянник, а ныне волей судеб и мой воспитанник, – пояснил Михаил Яковлевич Муравьеву.
– Да, конечно, сын вашей сестры. Мы встречались в Эмсе. Ведь ваши тоже, как мы, каждое лето ездят на воды за границу?
– Да, из-за Юрия Павловича. Сестре, слава Богу, лечиться не приходится: мы, Черняковы, здоровая порода. А вот Юрий Павлович уже три года болеет.
– Надеюсь, ничего серьезного?
– Серьезного, кажется, ничего, – нехотя подтвердил Михаил Яковлевич. Он накануне получил от сестры письмо; Софья Яковлевна сообщала, что болезнь ее мужа довольно опасна, и просила не говорить об этом Коле. Черняков, читая, подумал, что едва ли это сообщение очень Колю взволновало бы: он не любил отца и почти не скрывал этого от дяди. – Но нужны какие-то затяжные исследования, Юрий Павлович лежит в лечебнице. Вероятно, они там пробудут до июля, как это следует из письма, лишь вчера мною от сестры полученного. Колю же они, уезжая, оставили на моем попечении. Вследствие этого не совсем для меня удобного обстоятельства я временно переехал в их дом.
– Как же вы… воспитываете Колю? – спросила Маша, опять покрасневшая оттого, что запнулась.
– Ну, работы у меня с ним мало. Учится он прекрасно, первый в классе, ведет себя тоже недурно, и целые дни читает. Этот мальчишка уже знает больше, чем я! Но зато какая самоуверенность!
– У кого это самоуверенность? – спросила снова вернувшаяся Елизавета Павловна. – Ах, у Коли. Это хорошо, я люблю самоуверенность в мужчинах. Только не хвалите его при Маше, она и так, кажется, в него влюблена.
– Какой вздор! Ни в кого я не влюблена!
– Я тоже нет, сестра моя, и это очень печально.
– Нисколько не влюблена, а только мы играем вместе в теннис. Он отлично играет.
– Коля все делает отлично.
– Как это скучно, особенно в мальчике, – сказала Елизавета Павловна.
– Добавьте, что он страшно р-революционных взглядов, и намерен скоро приступить к изучению Карла Маркса! Впрочем, я за него спокоен: в революцию он и не сунется, а станет знаменитым адвокатом и затмит Спасовича. Он и теперь упражняется тайком в красноречии по самым лучшим радикальным образцам.
– Машенька у меня тоже сочувствует революции. Впрочем, еще года полтора тому назад она обожала императрицу и каждый день за нее молилась.
– Папа, за… зачем?.. Это не так, – вспыхивая, сказала Маша.
– Быль молодцу не укор, Машенька, – сказал Черняков. – Но если вы хотите, чтобы Коля в вас влюбился, – это чистейшая гипотеза, – то всячески восхищайтесь им, его взглядами и его дьявольским красноречием. Он обожает, чтобы им восторгались.
– Я тоже обожаю… Петр Великий, мне надо сказать вам «пару слов», как пишет Лесков. Пройдем на минуту ко мне.
– К вашим услугам, – радостно откликнулся доктор. Они вышли. Маша проводила сестру тем же влюбленным, теперь вдруг встревоженным взглядом, точно она ее ревновала к Петру Алексеевичу.
В спальной Елизаветы Павловны был такой же беспорядок, как во всей квартире, за исключением комнаты Маши. На кровати и стульях было разбросано что-то белое. Петр Алексеевич поспешно отвернулся и подумал, что Елизавета Павловна, часто смеявшаяся над его застенчивостью, верно привела его сюда нарочно. Он был очень влюбчив и тщательно скрывал это. Ему казалось, что люди всегда над ним смеются: крошечный рост определил душевный склад Петра Алексеевича и даже отчасти его жизнь. Елизавета Павловна достала из комода небольшой футляр с кольцом.
– Петр Великий, вы можете оказать мне услугу? Но сначала дайте слово, что вы никому ничего не скажете.
– Какая таинственность! – смеясь, сказал доктор. – И, верно, как всегда, ерунда… Ну, не обижайтесь, даю слово и обещаю исполнить, если вы меня не будете называть Петром Великим.
– Хорошо. Я принимаю… Сколько по-вашему может стоить это кольцо?
– Не знаю. Почем мне знать? – изумленно спросил доктор. – Я не ювелир и отроду этого барского добра не покупал. Я не какой-нибудь…
– Но приблизительно?
– Верно, рублей сто или полтораста?
– Я тоже не знаю. Это подарок папа… Вы когда-нибудь закладывали вещи в ломбарде?
– Сколько раз! Но у меня и закладывать было почти нечего, я приносил по трешнице, а то и меньше. Вы не можете себе представить, как я был…
– Как вы думаете, сколько дадут в ломбарде за это кольцо?
– Думаю, рублей пятьдесят дадут. Неужели вы хотите заложить? – сочувственно спросил Петр Алексеевич. Он хотел было добавить: «возьмите у меня денег», но не решился, Елизавета Павловна задумалась.
– Нет, пятидесяти мне мало. Я обещала дать сто… Голубчик, сделайте это для меня: продайте кольцо. Но тотчас, завтра утром! Вы не хотите? Вам трудно?
– Мне нисколько не трудно, – сказал доктор, привыкший к тому, что на него возлагали самые скучные поручения. – Однако, уж будто это необходимо? Павел Васильевич будет очень недоволен.
– Папа? Он не заметит… Нет, заметит, но не скоро, и я что-нибудь придумаю. По некоторым причинам мне теперь не хочется просить его о деньгах. Первая некоторая причина: у него, кажется, сейчас их очень мало, я поэтому отказалась и от Бореля. А вторая некоторая причина: я на днях взяла у него пятьдесят рублей… Нет, ничего не поделаешь: продайте кольцо. На вас папа сердиться не будет.
– Пожалуйста, не говорите: «папа» – с подчеркнутым французским акцентом иронически произнес доктор. – Вы еще начнете называть Павла Васильевича «батюшка»?.. Со всем тем, я не знаю: может, в ломбарде дадут и сто, – добавил он, приняв решение заложить кольцо и добавить недостающую сумму из бывших у него семидесяти рублей. Петр Алексеевич радостно себе представил, как со временем вернет кольцо Елизавете Павловне. – Завтра утром вам и привезу.
– Какой вы милый, Петр Великий! Но я обещала в двенадцать доставить деньги.
– Я могу вам привезти в одиннадцать.
– Отлично… Или нет, мы утром едем кататься. Петр Великий вы ангел, но уж будьте ангелом в квадрате…
– Не желаю быть ангелом в квадрате, тем более, что вы нарушили обязательство… Ну, что еще вам нужно?
– Мне нужно… От вас это не секрет. Вы знаете Н.? – спросила она, назвав имя известного радикального публициста. – Конечно, знаете, ведь вы же меня с ним познакомили. Пожалуйста, отвезите ему завтра утром сто рублей и скажите, что это от меня. Больше ничего не надо говорить: он знает, в чем дело.
– Если я попаду в тюрьму, то не иначе, как в вашем обществе. Я непременно вас выдам.
– Спасибо. Теперь мы можем вернуться.
В кабинете речь шла о Мамонтове, которого Павел Васильевич помнил по Эмсу. Черняков, вздыхая, говорил, что из его приятеля ничего не выходит.
– Вот вы спрашиваете, революционер ли он. По совести не знаю: у него семь пятниц на неделе. Он очень одаренный человек, но путаник. Посудите сами: был художником, страстно увлекался живописью, имел даже некоторый успех. Мне серьезные художники говорили, что у него большой талант… Большое дарование, – поправился Михаил Яковлевич. – Так вот, видите ли, ускакал зачем-то в Америку и оказалось, что он не художник, а журналист! А так как, повторяю, он чрезвычайно способный человек, то и как журналист он тоже чего-то добился: писал в Америке, пишет у нас, все почему-то под псевдонимами.
– «Лишний человек», Рудин? Немножко старо. Что может быть скучнее в наше время? – сказал доктор.
– Нет, какой там Рудин? Мамонтов отнюдь не герой романа: для этого он слишком бесконтурный человек; романисту и ухватиться было бы не за что. Теперь он находится в Берлине по поручению какого-то журнала. Однако, я подозреваю, что дело не в журнале, а в новой даме сердца…
В передней раздался звонок.
– Это Владимир Викторович. Как бы все-таки узнать его фамилию?.. Постойте, Черняков, не рассказывайте дальше: мне интересно, что этот Мамонтов, – сказала Елизавета Павловна и выбежала в переднюю. Через минуту она вернулась в сопровождении высокого, худого, гладко выбритого человека с бледным лицом, с левой рукой на перевязи. Он неловко вошел в кабинет и так же неловко, без улыбки, что-то пробормотал в ответ на любезные слова хозяина, поднявшегося ему навстречу. Почему-то, однако, сразу чувствовалось, что его неловкость происходит никак не от застенчивости. Нечто очень жесткое и упорное было в его худом лице с резко выраженными чертами. Здороваясь с Черняковым и с доктором, он, хотя невнятно, назвал свою фамилию. Елизавета Павловна радостным жестом показала из-за спины Михаилу Яковлевичу, что теперь все в порядке: она вспомнила! Фамилия гостя была как будто Валицкий или как-то так. Лицо его показалось Чернякову знакомым.
– …Неужто прошло два года с тех пор, как вы у нас были? – говорил профессор, помнивший, что, действительно, видел этого человека; тогда он был как будто другой. – Да, знаю, вы были на войне. Вижу, что воевали. Надеюсь, ничего серьезного? – спросил он, показывая глазами на перевязь, и с неудовольствием подумал, что точно такой же вопрос задал Чернякову о Дюммлере.
– Нет, – ответил кратко гость. Он неуверенно сел в пододвинутое ему кресло и занял в нем самое неудобное, совершенно прямое положение. «Точно на козлах сидит!» – подумала Машенька, с любопытством за ним следившая. Гость беспокойно оглянулся, на мгновенье задержался взглядом на ногах Елизаветы Павловны, и тотчас отвернулся. Сама Елизавета Павловна, закуривавшая папироску, этого не видела, но Машенька заметила и обиделась.
– Так ваши еще долго пробудут в Берлине? – спросил профессор, старавшийся равномерно поддерживать скучный ему разговор на обе стороны: молчаливый гость сидел справа, а Черняков и доктор слева.
– Сколько прикажут врачи. Может быть, моей сестре и не очень хочется уезжать: в Берлине сейчас большой съезд, у нее и там, кажется, маленькое подобие салона.
– Очевидно, у вас, Черняков, есть семейная любовь к знаменитостям, – сказала Елизавета Павловна. Маша и доктор засмеялись. Михаил Яковлевич высоко поднял брови, задетый и удивленный.
– Вот как? Я за собой что-то не замечал!
– Да вы и сегодня успели сообщить, что должны вечером быть у Достоевского.
– Я не «успел сообщить», а просто вам сказал, что должен буду уйти скоро после обеда. У меня с Достоевским пятиминутный деловой разговор об его выступлении на нашем вечере, только и всего. Право, тут нечем было бы хвастать, даже если было такой уж большой честью лично знать Достоевского.
– Я его видел в Эмсе, – сказал Павел Васильевич, тоже недовольный замечанием дочери. – У него на водах выходили постоянные столкновения с немцами из-за очереди. По-видимому, он чрезвычайно нервный человек.
– Безумно нервный и раздражительный. Очень неуютный субъект. Он работает ночью, а спит днем! Так что свидания назначает только по вечерам, вот и мне назначил нынче в восемь. Кстати сказать, я не Бог знает какой его поклонник. Мой кумир, как вам известно, Иван Сергеевич, – сказал Черняков («почему бы это должно быть мне известно?» – подумал профессор). – Но, разумеется, никто не может отрицать, что Достоевский большой сердцевед, знаток человеческой души в ее взлетах и падениях.
– Эту фразу, Черняков, о взлетах и падениях я уже от вас слышала. Да верно и взяли вы ее из какой-нибудь рецензии, – сказала Елизавета Павловна, с удовольствием его задиравшая. – Ну, хорошо, не буду, не буду, тем более, что я у вас в долгу. Папа вы отдали ему три рубля?
– А вы знаете, Павел Васильевич, на что Елизавете Павловне понадобились на улице эти три рубля? – спросил Черняков. – Она, видите ли, бросила их нищему! Этакий царский жест! Если я щеголяю знакомством с Достоевским, то вы героиня оного Достоевского… Ага, получили?..
– Они всегда пикируются. А вы, Владимир Викторович, как относитесь к Достоевскому? – спросил Муравьев, возвращаясь на правый фланг.
– Мое имя-отчество Иван Константинович, – сказал новый гость. Павел Васильевич, осекшись, с упреком взглянул на дочь. Она весело засмеялась.
– Как это вы забыли, папа? Конечно, Иван Константинович. Вы верно думали об электромагнитной теории света… Едва ли Иван Константинович восторгается Достоевским, который восхвалял всю эту нелепую войну…
– Об этом предоставим высказаться самому Ивану Константиновичу, – вставил доктор; он был одним из немногих людей в Петербурге, еще интересовавшихся балканскими делами.
– Конечно, нам всем были бы очень интересны непосредственные впечатления человека, бывшего на фронте, – сказал Михаил Яковлевич и, не дожидаясь ответа, продолжал. – Политика Биконсфильда теперь выяснилась с полной очевидностью. Я думаю, что…
– Ни Биконсфильда, а Беконсфильда. Англичане произносят: Беконсфильд, – поправила Елизавета Павловна.
– Очень в этом сомневаюсь. Я всегда говорил и говорю: Биконсфильд… Я думаю все же, что опасность войны с англичанами не так уж неотвратима, хотя Англия сейчас лишний раз показывает, что она наш исторический враг.
– Только этого не хватало бы: англо-русской войны! – с негодованием сказал Муравьев, опять вспомнив Кембридж, Максвелла, благодушных наивно-веселых английских профессоров. «Это они мои исторические враги!»
– Я и люди моего образа мыслей тоже войны не хотим, – ответил Михаил Яковлевич, чуть было не сказавший: «я и мои последователи». – Мы готовы всецело и всемерно поддержать идею соглашения с Англией, исходя из мудрого правила: лучше худой мир, чем добрая ссора. Но…
– Да почему же «худой» мир? Почему не хороший? Что за вздор! Чего мы с Англией не поделили? Или, быть может, англичане тоже, как турки, совершают зверства над братьями-славянами?
– Вы говорите, Павел Васильевич, так, точно турецкие зверства кто-то выдумал!
– Вот и об этом мне тоже хотелось бы выслушать мнение Ивана Константиновича, – сказал доктор, которому надоели военные разговоры людей, не выезжавших из Петербурга. Он сам в прошлом году собирался было на войну, но потом смущенно рассказывал, что как-то не вышло. У Петра Алексеевича все в жизни обычно как-то не выходило, большей частью по недостатку денег. – Что, Иван Константинович, были зверства?
– Должно быть, были.
– Значит, вы их не видели? – радостно спросил Муравьев.
– Своими глазами не видел… Или, вернее, все было зверство, – отрывисто сказал Иван Константинович. Все немного помолчали.
– Я слышал, что наши доблестные союзники румыны отличались почище турок? – полувопросительно заметил доктор. – Ну, а мы сами?
– Мы меньше. Жестокость не в природе русского человека… Быть может, жаль, что так, – сказал Иван Константинович. Взгляд его опять остановился на ногах Елизаветы Павловны. Он снова отвернулся. Все на него смотрели с недоумением. – Во всяком случае турки прекрасный народ и солдаты такие, что смотреть любо. Наша армия уважала их в сто раз больше, чем союзников. А кроме того…
Он оборвал речь. Все здесь было ему странно и неприятно. Иван Константинович, только что демобилизованный после двух лет войны, после раны и контузии, еще не мог привыкнуть к нормальной человеческой жизни, к тому, что он больше не страдал дизентерией, что на нем не было вшей и грязной густой щетины; теперь посещение парикмахерской было главным его наслаждением. Люди, разговаривавшие с ним, не пережили ничего из пережитого им и тем не менее смели с ним разговаривать о войне. Они просто ничего не понимали: ни те, которые восторгались войной, ни те, которые порицали ее. «Этот господин в сюртучке с цветочком верно славянофил и патриот. Только на войну забыл пойти, несмотря на цветущее здоровье», – думал он, искоса с презрением поглядывая на Чернякова. Почему-то, несмотря на свою красивую наружность, не понравилась ему теперь и эта развязная барышня, – что-то вызывающее было в ее прюнелевых ботинках с перламутровыми пуговицами, в том, как она сидела, облокотившись на изголовье дивана, держа папиросу в левой руке. Ему было досадно, что он ни с того, ни с сего принял приглашение на обед в чужой и чуждый дом. Иван Константинович почти не видал людей в Петербурге: все думал о том, как жить дальше, какие выводы сделать из того, что он пережил.
– Вот видите, – сказал профессор. – Вы пошли воевать добровольцем из-за газетных статей о турецких зверствах, а теперь оказывается, что турки прекрасный народ! И это я слышу от всех вернувшихся с фронта офицеров. У нас даже теперь странный взрыв симпатий к туркам, что, конечно, уже крайность. А вот вы, Михаил Яковлевич, все-таки мне не объяснили, почему Англия наш «исторический враг». Мой покойный отец, помнивший Аустерлиц и пожар Москвы, прожил всю жизнь в глубоком убеждении, что наш исторический враг – Франция. Ну, хорошо, я, как многие, готов допустить, что наши исторические друзья – немцы. Однако почему мы должны непременно иметь исторических врагов и, в частности, почему наши враги именно англичане, быть может самый культурный народ на свете?
– Я тоже очень почитаю англичан, Павел Васильевич, но что верно, то верно: интересы России прямо противоположны интересам Англии, и прежде всего в том, что мы должны так или иначе закрепиться на проливах Мраморного моря, а для них это нож вострый. Ведь кто владеет Дарданеллами, тот владеет всем миром.
Муравьев засмеялся.
– На это Бисмарк остроумно ответил в рейхстаге, когда ему привели этот афоризм. Он сказал, что Дарданеллами уже несколько столетий владеют турки и тем не менее он никогда в Берлине не испытывал такого чувства, будто живет под властью турецкого султана. И я не думаю, чтобы это чувство испытывали вы, живя в Петербурге. А кроме того, хотя я русский человек и русский патриот, я все же не чувствую ни малейшей потребности владеть миром.
– Но ведь так нельзя спорить. Вы ссылаетесь на шутку Бисмарка, шутка хорошая, но это шутка. А вот я вас конкретно спрошу. По Сан-Стефанскому договору мы от турок получаем Алашкертскую долину. Теперь, говорят, англичане на это не согласны. Я знаю из достоверного источника, – сказал Черняков, всегда ссылавшийся на достоверный источник особенно внушительным тоном, – что здесь и лежит камень преткновения. Сент-Джемский кабинет, скрепя сердце, идет на некоторые уступки нам, но Алашкертской долины он не отдает и делает из нее casus belli[78]78
повод для объявления войны (лат.)
[Закрыть]. Что же, сходятся интересы России и Великобритании или расходятся?
Профессор всплеснул руками.
– Помилуйте, на что нам Алашкертская долина? Да я и не знаю, где эта долина находится, и сомневаюсь, чтобы это знал Биконсфильд. А если он и знает, то верно ему только позавчера это объяснили эксперты. Да пропади эта долина пропадом!
Обе барышни засмеялись. Улыбнулся и Михаил Яковлевич.
– По-моему, – сказал доктор, – нельзя вообще что-то отделять и что-то присоединять без согласия населения тех земель, которые отделяют и присоединяют. Признаться, я думал, что это символ веры всей русской интеллигенции? И не скрою, что для меня тоже, как для Павла Васильевича, ее честь, наша честь, дороже всех долин на свете.
– Завещание Петра Великого: произвести плебисцит среди башибузуков! – сказал, пожимая плечами, Черняков. Он себя чувствовал единственным государственным человеком в обществе этих идеалистов.
– Если там башибузуки, то тем более, зачем нам их к себе присоединять? Мало у нас своих Треповых? Нет, нет, вы и тут скажете, Михаил Яковлевич, что кто владеет Алашкертской долиной, тот владеет миром.
– Вы однако не думаете, Павел Васильевич, что министры Сент-Джемского кабинета и в частности лорд Биконсфильд, первый министр Англии, несут первое, что им взбредет в голову?
– Я думаю, что у Биконсфильда главное дело этот их так называемый престиж: престиж Англии и его собственный престиж. Если он не добьется от нас никакой уступки, то ему в парламенте носа показать нельзя будет. И Англии будет тоже конфуз, по мнению всех других Биконсфильдов, больших и малых, парламентских и газетных… Я, впрочем, не отрицаю войну вообще. Конечно, война – позор человечества и там все как по-писаному. Однако я признаю, что в известных, очень редких, случаях война может быть необходима… Вы не согласны? – обратился Муравьев к Ивану Константиновичу. Тот ничего не ответил, как будто не слышал. – По-моему, к подобного рода явлениям возможен только один подход: идет ли данное явление по линии общечеловеческого прогресса или…
– Предварительно надо выяснить, есть ли эта линия и куда именно она ведет, – вдруг сердито перебил его Иван Константинович.
– Я полагаю, что это известно, – сказал Черняков. Павел Васильевич тоже удивленно поднял брови, хотя замечание странного гостя совпало с тем, что он сам думал часа три тому назад.
– Согласитесь, однако, что мы идем не к средним векам и не к татарскому игу. И я готов допустить, что наша война с турками за освобождение славян шла в согласии с этой линией общечеловеческого прогресса. Возможно, что наши балканские братья будут еще достаточно резаться друг с дружкой. Однако закон прогресса требовал их освобождения из-под чужой, грубой и некультурной власти. Теперь это сделано, и слава Богу. Больше ни с кем воевать незачем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































