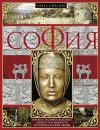Текст книги "Истоки"
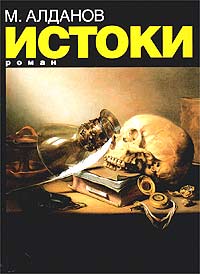
Автор книги: Марк Алданов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Юрий Павлович вернулся со службы на извозчике раньше обычного часа, что с ним случалось чрезвычайно редко. В министерстве он вдруг почувствовал себя плохо: сильно разболелась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюммлер с трудом поднялся по лестнице и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. «Надо было бы перенести спальную вниз», – подумал он. Юрий Павлович вошел в свою любимую, самую теплую в доме, комнату, которая называлась диванной, и там опустился в первое же кресло. «Уж не позвать ли врача?»
В последнее время он говорил, что не верит в медицину. Это в Петербурге было с некоторых пор модно, после огромного успеха романов графа Льва Толстого. Но к Юрию Павловичу мода пришла кружным путем: он вообще романов не читал и только перелистывал в «Русском вестнике» главы «Анны Карениной»: о ней теперь говорили в каждом доме столицы. «Нет, кое-что врачи все же умеют лечить… Зубы, например, это бесспорно…»
Узнав, что у мужа болит голова и что он решил вечером остаться дома, Софья Яковлевна насторожилась. Она знала, что Юрий Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германского посла.
– В чем дело? Только оттого, что голова болит?.. Конечно, теперь не очень удобно отказываться. Но если ты нездоров… Кажется, у тебя жар! – сказала она, вглядываясь в усталое бледное, с воспаленными глазами лицо Юрия Павловича. – Сколько раз я тебе говорила, что при нашем гнилом климате нельзя в апреле так сразу переходить от шубы к пальто!
– К сожалению, промежуточные формы между шубой и пальто еще не изобретены господами портными, – ответил со слабой улыбкой Юрий Павлович и вдруг, схватившись за грудь, стал кашлять неприятным сухим кашлем.
– Ты простужен, и очень простужен! – сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу. – Вот что значит ходить без фуфайки в такую погоду! Ты отлично знаешь, что у тебя хронические катары. Я сейчас же посылаю за Дмитрием Ивановичем.
– Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном и завтра буду совершенно здоров. А тебя я решительно прошу, Софи, отправиться на бал.
– Ты «ни за что», и я «ни за что», – ответила Софья Яковлевна. Оба «ни за что» были без восклицательного знака. Юрий Павлович знал, что его жене очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ее муж согласится вызвать врача. – Эти балы вообще начинают становиться невозможными, надо положить конец этому безумию: ни одного вечера нельзя спокойно провести дома.
Дюммлер устало зевнул. Ему было известно, что в те действительно редкие вечера, когда они оставались одни дома, Софья Яковлевна, уложив Колю, очень скучала. После недолгого спора был достигнут компромисс. Вместо двадцатипятирублевого профессора Академии был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черниковым и приглашавшийся тогда, когда у Коли «слегка подскакивала температура» или, реже, в случае болезни слуг. Дело было, впрочем, не в расходе, а в том, что появление профессора создавало тревожное впечатление в доме и вне дома. Почему-то Дюммлеры тщательно скрывали свои болезни, точно в них было нечто постыдное или могущее повредить им в общественном мнении.
Трехрублевый врач Петр Алексеевич никакой тревоги не вызывал. Из-за его имени-отчества и крошечного роста все называли его Петром Великим; хотя эта вечная шутка казалась ему в высшей степени неуместной, он, по своему благодушию, не сердился. Петр Алексеевич принадлежал к давно обедневшей, старой дворянской семье. Быть может, поэтому к нему благоволил Дюммлер, много занимавшийся генеалогией (он имел большую генеалогическую библиотеку и состоял членом общества геральдики; в России Юрий Павлович особенно ценил балтийскую аристократию и в душе только ее признавал самой настоящей). Ему было жалко Петра Алексеевича, который, принадлежа к родовитой семье, был врачом, да еще трехрублевым. Иногда Дюммлер снисходил до разговоров с Петром Алексеевичем на философские и политические темы. В философии оба были материалистами; Юрий Павлович, впрочем, свои философские взгляды держал про себя. Он находил, что религия полезна народу, хотя и не очень полезна. Твердая власть при хорошей полиции могла заменить религию. Этого, впрочем, Дюммлер никому не говорил. В политике он из материализма выводил консервативные воззрения, а Петр Алексеевич – передовые.
Был достигнут компромисс и по вопросу о бале: Софья Яковлевна обещала поехать, если Петр Алексеевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ее настоянию Дюммлер надел халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном. Лампу заменили свечой с абажуром. Коле велено было не шуметь. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он с отвращением сказал, что просто не может думать о еде. В доме установился дух любви и общей готовности к жертвам, – «поэзия болезни», – подумала Софья Яковлевна.
– Пустяки, конечно, – уверенно сказал Софье Яковлевне доктор по пути в диванную, откуда слышался кашель. – Сейчас в городе у всех инфлюэнца или, по крайней мере, насморк.
– Вы думаете, он может нынче выйти? Только, ради Бога, не пугайте его. Юрий Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человека мнительнее, чем он.
– Все мнительные люди уверяют, что они и не думают о своем здоровье, – сказал Петр Алексеевич и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить что-либо дорогое в этом богатом доме. – Здравствуйте, ваше высокопревосходительство, что же это вы? – спросил шутливо доктор, всегда называвший Дюммлера по имени-отчеству.
Когда в комнату внесли лампу, шутливость с Петра Алексеевича соскочила; да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ее муж заболел по-настоящему. Доктор тоже приложил руку ко лбу больного, сделав над собой некоторое усилие: этот материнский жест выходил не совсем естественным в отношении пожилого человека, вдобавок министра и тайного советника.
– Да, конечно, некоторый жар, – сказал Петр Алексеевич, понемногу бессознательно стирая улыбку на лице. Он пощупал пульс, измерил температуру и, поспешно встряхнув термометр, объявил, что тридцать восемь с хвостиком.
– С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные, – попробовал опять пошутить Дюммлер. Доктор сделал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрический стетоскоп, выслушал больного и нехотя объявил, что ничего опасного нет.
– Обострение вашего застарелого катара. Придется, Юрий Павлович, полежать… Служба? Нет, на неделю-другую вам надо о службе забыть! Служба не убежит.
Поговорив еще о Бисмарке, Петр Алексеевич вышел и в гостиной, уже без улыбки, объявил Софье Яковлевне, что у Юрия Павловича, по-видимому, крупозное воспаление легких. Он сам предложил устроить консилиум, понимая, что в этом доме, при крупозном воспалении легких, поднимут на ноги всю Академию.
– Не могу скрыть от вас, что температура тридцать девять и пять. Вероятно, еще повысится к ночи, – сказал он и, увидев ужас, скользнувший по лицу Софьи Яковлевны, поспешил добавить: – Большой опасности я не вижу. Само по себе воспаление легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца… Если хотите, я сам сейчас съезжу за Кошлаковым? Может, на счастье, застану дома.
– Умоляю вас, доктор, привезите его тотчас. Вы поедете в нашем экипаже.
– Вы думаете, его так легко найти! Ведь ваш человек и меня застал случайно: опоздай он на пять минут, не нашли бы до самой ночи.
Приехавший поздно вечером профессор подтвердил диагноз Петра Алексеевича. Температура была 40,1. Больной учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи, вполголоса даже в гостиной, говорили о возможности гнойного плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна старалась понять значение этих слов, не обещавших ничего хорошего. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человек вполне бескорыстный и обладавший громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашения, сказал, что завтра заедет опять.
– Но все-таки, профессор, это опасно или нет?
– При общем состоянии организма Юрия Павловича, это довольно опасно, – ответил, немного подумав, профессор.
На следующий день в том обществе, в котором проходила жизнь Дюммлера, пронесся слух, что Юрий Павлович очень, очень болен. А еще дня через два или три стали шепотом говорить, что он умирает. Дюммлер имел множество знакомых и сослуживцев, и среди них волнение было велико. Как почти всегда, болезнь поразила всех своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видели Юрия Павловича чуть ли не накануне болезни: «Он был вот как сейчас мы с вами! Шутил и был весел». – «Ну, весельчаком он никогда не был…» Разговоры сводились к бессмысленному удивлению: был здоров – пока не заболел.
К общему облегчению, стало известно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспешно уезжали, как бы опасаясь: вдруг все-таки примут. По утрам первым делом заглядывали в траурные объявления газет. Объявление, которого ждали, не появлялось.
Через неделю стали приходить более успокоительные сведения. Новый консилиум признал улучшение, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с некоторым разочарованием, хотя все поспешно добавляли: «Слава Богу!» Непонятное разочарование чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюммлерам, но всячески им сочувствовали. Точно после прежнего полнозвучного шепота: «Слышали, умирает Юрий Павлович Дюммлер!» – новые сообщения не удовлетворяли человеческой потребности в драматизме.
Сам больной не догадывался, что его положение так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро говорили ему о некотором обострении его катара. Мысль о смерти не доходила до сознания Юрия Павловича, то ли вследствие крайней непривычности этой мысли или из-за полной внезапности болезни. Неизменно веселая улыбка жены, ее шутливые упреки, успокоительный тон врачей действовали на Дюммлера, хотя, как все, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно (она находила бессознательное удовлетворение в этой своей актерской игре). Однако по тому, что врачи приезжали два раза в день, что несколько раз устраивали консилиум, что применялись общеизвестные средства, при помощи которых поддерживается деятельность сердца у умирающих, Дюммлер мог бы догадаться о правде.
Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытьи. Острых болей у него не было, страдал он, главным образом, от затрудненного дыхания, от частого сухого кашля, от озноба, от слабости и беспомощности. Ему все хотелось переменить положение: лечь повыше, лечь пониже – и все было худо, хотя сменявшиеся при нем сиделки постоянно перекладывали, взбивали подушки. Эти сиделки особенно раздражали Юрия Павловича, отчасти своей глупостью, сказывавшейся и в том тоне, в котором они с ним говорили, отчасти самой своей работой: в ней отсутствовала элементарная стыдливость, – как на беду, это были молодые миловидные женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночи в спальной, на диване, поставленном вместо кровати Софьи Яковлевны. Дюммлер не мог привыкнуть к тому, что в комнате, куда и днем редко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвестная ему даже по имени женщина. Измерив температуру, сиделка радостно объявляла: «Ну, вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь тридцать восемь. Молодцом». Этот полушутливый тон, точно он был ребенком, сочетание «вашего высокопревосходительства» с «молодцом», казались ему идиотскими. Угнетали его и непривычная ему бездеятельность, и полная неопределенность положения, – он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться; они отвечали уклончиво или шутливо.
Кроме докторов, жены и сиделок, Юрий Павлович никого не видел. В те часы, когда ему становилось лучше, Софья Яковлевна сообщала мужу, кто присылал справиться, кто заезжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди приезжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их внимание его трогало, и Юрий Павлович думал, что по выздоровлении пересмотрит свои отношения с этими людьми. «Что такое мелкие – да пусть и не мелкие! – счеты по сравнению со здоровьем!.. А Василий Петрович, я знаю, сам больной человек, и тяжело, не то, что я…» Дюммлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень изменился за несколько дней болезни. Между бакенбардами у него появилась седая щетина, старившая его лет на десять, и под ней теперь особенно неприятно обозначилось адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он, впрочем, находил и что-то вроде удовольствия. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрий Павлович изменился и морально – «размяк». Она, впрочем, и сама подобрела.
На пятый день болезни наследник престола прислал адъютанта справиться о здоровье Юрия Павловича (государь был за границей). Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует (сама она скрыла удовольствие, тем более, что не сочувствовала политическому направлению наследника). Юрий Павлович неожиданно прослезился и долго расспрашивал, какой именно адъютант приезжал и что он сказал и что ему ответили. «Надо было его пустить ко мне!» – взволнованно прошептал он. Этот знак внимания тоже мог бы навести Юрия Павловича на предположение, что он очень плох, – и тоже не навел.
Под вечер, после третьего консилиума, сиделка, измерив температуру больного, вышла из спальной, забыв на столике термометр. Юрий Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свечу, выследил кончик ртутного столбика: 40,2! Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. «Что же это? Неужели смерть? Ist das möglich?[29]29
Это может быть? (нем.)
[Закрыть]» – с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успел оформить некоторые изменения в завещании. Вдруг оно окажется недействительным? Юрий Павлович старался и, к своему изумлению, не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояние: все сыну? нет, часть жене, но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, известных каждому юристу, еще усиливало его ужас. «Не может быть, чтобы это было правдой! Смерть от того, что не надел фуфайку!» Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как делали перед смертью некоторые сановники. «Нет, не может быть! Ausgeschlossen![30]30
Исключено! (нем.)
[Закрыть]» – прошептал он.
– В чем дело? Отчего ты в очках? – тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальную. Она быстро подошла к кровати. – Что это? Ах, я раздавила термометр! Верно, та дура уронила?
– Я видел: сорок с половиной! – прохрипел Дюммлер. – Все обманывали! Зачем обманывали?.. Я умираю, да?…
Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда 40 с половиной не было, что он просто не разглядел, что ртуть, быть может, поднялась из-за тепла свечи на столике. Он сначала не поверил, потом почти поверил, мысли его смешались, он стал бредить, хриплым шепотом произносил мало понятные немецкие и русские фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть непосредственная опасность, что не исключен неблагоприятный исход. Эти слова, благозвучно означавшие смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальной. Дежурил в доме и Петр Алексеевич, упорно говоривший, что он был и остается оптимистом.
Мнение Петра Алексеевича оказалось верным. На следующий день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измерила температуру и не поверила глазам. Новый термометр показывал 36,8! Петр Алексеевич, немного вздремнувший в диванной, радостно объявил, что произошел кризис, кончившийся благополучно. Его заявление подтвердил и приехавший профессор.
– Сердце вчера особенно пошаливало, но теперь все обойдется, – сказал он (это выражение, казавшееся Софье Яковлевне игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало). Получив от профессора подтверждение, что непосредственной опасности больше нет, Софья Яковлевна вошла в спальную.
– Ну, вот, кончено! Теперь ты перестал быть интересным! Больше ни малейшей опасности нет. Температура тридцать шесть и восемь, ты сам видел. А сорока с половиной никогда и не было, – весело сказала она. «Мысленная резервация» заключалась в том, что выше 40,2 температура действительно не поднималась; Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово, даже для успокоения больного. Преодолевая некоторую брезгливость, она поцеловала мужа в мокрый лоб и объявила, что теперь сама хочет отдохнуть. Действительно, она была измучена и волнением, и бессонными ночами, и всего больше той необычной жизнью, которую вела в последние десять дней. Ей хотелось и выспаться, и подумать обо всем по-настоящему. О чем именно, – это ей самой было не вполне ясно.
В доме перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цветов, а на серебряной тарелке в передней – число визитных карточек. Посетителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюммлеров стал опять почти таким же приятным, каким был всегда, – и только вначале гости еще говорили испуганным сочувствующим шепотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тем, что каждому приезжавшему гостю надо было все рассказывать сначала: когда именно заболел Юрий Павлович, что сказали врачи в первый день, что они говорят сейчас. Уже почти не меняя выражений, лишь несколько ускорив темп, Софья Яковлевна послушно все рассказывала. Гости сообщали, как они узнали о болезни Юрия Павловича, выражали свои чувства и давали советы. Потом начинался обычный разговор, теперь, из-за пропущенного времени, особенно интересный Софье Яковлевне. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила, но в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никакого другого не желает.
Черняков бывал теперь в доме сестры каждый день. В прежние времена Михаил Яковлевич лишь забегал к Дюммлерам. Теперь это слово к нему больше не подходило. Общественное положение Чернякова очень поднялось в последний год. Его работа о вечевых собраниях была лестно отмечена в немецкой печати; он готовил новый большой труд и считался на вакансии экстраординарного профессора: должность ему даже была почти обещана, – потребовались, правда, не совсем приятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утешал себя тем, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще ничем стать нельзя. Имя Чернякова не менее двух раз в месяц появлялось и в ежедневных газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувереннее. Софья Яковлевна не стыдилась брата; она даже старалась вводить его в такие дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политические споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библиотеку, где любовался прекрасно переплетенными книгами (среди них преобладали политические, исторические и генеалогические труды на немецком языке). Михаил Яковлевич был страстным библиофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библиотеку Дюммлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.
Четвертый консилиум признал, что опасность миновала совершенно и что больному необходим продолжительный отдых: надо через некоторое время отправиться на воды в Германию, лучше всего в Швальбах, а то в Эмс, – не столько из-за миновавшего воспаления легких, сколько из-за застарелых катаров. Затем рекомендовалось поехать до сентября в Швейцарию, а на осень на французскую или итальянскую Ривьеру. Врачи не стеснялись в предписаниях, зная, что денег у больного больше, чем нужно. Юрий Павлович, уже очень оживившийся, заявил, что не имеет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал слегка развел руками, показывая, что это не его дело: вдобавок, он недоверчиво относился к пользе службы фон Дюммлера.
– Ты отлично знаешь, что тебе дадут какой угодно отпуск, – сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрели на нее с удивлением, а муж с робостью.
В заключение консилиум себя распустил, разрешив больному читать, – по возможности легкие, не утомительные книги, – и есть что угодно, кроме тяжелой пищи. Профессор Академии признал излишними и свои дальнейшие визиты:
– Я всецело полагаюсь на Петра Алексеевича, – сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все же, уступая просьбе Софьи Яковлевны, профессор согласился заехать еще раз, через несколько дней. И в самой неопределенности этих слов «денька через три» было тоже нечто весьма успокоительное.
Профессора уехали. Петр Алексеевич, ставший, особенно в последние дни, своим человеком в доме, пошел пить чай в серую гостиную. Софья Яковлевна направилась было в спальную, но по дороге, в диванной, силы ее оставили, она опустилась в кресло, только теперь вполне ясно поняв, как ее измучила болезнь мужа. Все кончилось благополучно. Тем не менее решение консилиума совершенно ломало ее жизнь. «Швальбах! Потом Швейцария, потом что-то еще!..» До сих пор она держалась нервным подъемом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука, – та, большей частью уютная, скука, которую она испытывала в обществе Юрия Павловича.
Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрий Павлович смутно подозревал, что у его жены были увлечения. Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли более определенные. По своим материалистическим взглядам он не придавал чрезмерного значения супружеской верности. Сам впрочем был жене верен, частью из-за переобременности работой, частью потому, что нежно ее любил. Любовью – еще больше, чем своим положением в обществе и богатством, – он ее в свое время и подкупил. За четырнадцать лет у Дюммлеров создались ровные, спокойные дружеские отношения, которым способствовало и то, что оба они были так заняты: он службой, она жизнью в свете и воспитанием сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был все-таки свой и самый близкий человек.
«Полгода быть сиделкой при больном!» – подумала она. В этом было новое проявление того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свете: ей в последней год казалось, что жизнь ее, в сущности, кончилась, что впереди остается лишь более или менее сносное доживиние. «Да, немного же мне было дано. Другим гораздо больше… За что это?.. Ничего не поделаешь: буду сиделкой… Но как быть с Колей? Отдать его в Лицей? Эти ужасные мальчишеские интернаты… Взять к нему гувернера и повезти с нами? Да, так, очевидно, придется сделать…» У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна бессознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. «Лет через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня внимание!»
В диванной на столе лежал «Русский вестник» с «Анной Карениной». «Вот это ему и дать», – подумала она с неприятным чувством. Ей при чтении казалось, что есть какое-то внешнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществе теперь чуть не все немного подделываются под этот вызывавший небывалый фурор роман. «Недаром спорят, кто с кого писан… Ну, я на Анну никак не похожа, и уж сейчас-то менее всего думаю о Вронских!» – с улыбкой подумала она и, вздохнув, отправилась к мужу.
– Вот, ты хотел читать. Все-таки надо же тебе прочесть «Анну Каренину», – сказала она. Юрий Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и несколько неловко за автора: совестно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других почтенный, по-видимому, человек, помещик, принадлежащий к хорошей титулованной семье, – русской, но через Остен-Сакенов породнившийся с Брюлями, Мантейфелями, Унгерн-Штернбергами и даже косвенно с Кеттлерами, – вдобавок, кажется, дальний родственник графа Дмитрия Андреевича.
В спальной уже горела лампа. У Дюммлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было.
– Спасибо, моя милая, – сказал Юрий Павлович, редко в здоровом состоянии так обращавшийся к жене.
– Ну, что ж, ты очень огорчен? Несколько месяцев наедине с женой, это ужасно, правда? – спросила она, наливая в ложку лекарства. – Выпей, пора.
Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил, морщась, лекарство и поцеловал руку жене.
– Несколько месяцев? Да ты шутишь, – сказал Юрий Павлович слабым голосом.
– Не я: доктора так шутят.
– Но несколько недель провести с тобой и с Колей на водах, это, может быть, в самом деле стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом: десять месяцев в году ужасной петербургской жизни и два месяца в деревне или на море, это было неблагоразумно. Вот и приходится расплачиваться.
– Это даже нельзя считать расплатой: нам за границей наверное будет очень приятно, – так же весело сказала Софья Яковлевна. – А сейчас, ради Бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу.
– Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах – очень милое место… Ты знаешь, Софи, мое завещание находится у нашего нотариуса… И позволь сказать тебе: я хотел бы лежать на Смоленском Евангелическом кладбище, рядом с графом Канкриным…
– Хорошо, хорошо, – вполне равнодушно сказала Софья Яковлевна, знавшая, что ее муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно.
– Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебе известно, что я совершенно не боюсь смерти, но…
– Да, да.
– Государь наследник больше не осведомлялся?
– Нет, больше не осведомлялся, – ответила Софья Яковлевна, подавляя раздражение. Юрий Павлович всегда говорил: «государь император», «государь наследник».
– А кто это приехал во время консилиума? Я слышал звонок.
– Это Миша. Я его оставлю к обеду.
– И сердечно поблагодари его за внимание. Я очень оценил и тронут, – сказал Дюммлер еле слышно. Она поцеловала его в голову и вышла. «Да, именно, поэзия болезни…»
В серой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже об «Анне Карениной».
– Я сегодня был в редакции «Голоса», – сказал, потягивая портвейн, Черняков. – Там говорят, что Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским.
– На здоровье, – ответил доктор, с любопытством и осторожностью гладивший ящичек из слоновой кости. – Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосветскими хлыщами, вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронский смертельно друг друга ранят пониже брюха и умрут, не обратившись к врачам: ведь граф Толстой врачей не признает, – саркастически добавил он. – Меня этот роман с графьями весьма мало интересует.
– Что вы, Петр Великий, это замечательная вещь, – сказал Михаил Яковлевич. Он всегда с некоторым испугом и без уверенности в голосе хвалил «Анну Каренину», но в душе недоумевал: чем. собственно, восхищаются люди?
Доктор осторожно поставил ящичек на место и закурил папиросу.
– Какое, собственно, назначение этого странного предмета?
– Соня, милая, сердечно поздравляю, – обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестре. – Петр Великий сказал, что, по общему мнению всего синклита, больше ни малейшей опасности нет. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошлаков любит пугать людей.
– Так вам теперь кажется. Могу вас уверить, что в начале положение казалось чрезвычайно серьезным. Но и сейчас, хотя опасности нет, надо, господа, соблюдать осторожность, я прямо вам говорю, Софья Яковлевна.
– Когда же нам ехать, Петр Алексеевич?
– Я думаю, числа десятого мая уже можно будет.
– В Швальбах?
– Непременно в Швальбах. Эмские воды почти такие же, но все-таки не совсем то. И главное, уж очень в Эмсе шумно: это теперь самое модное место в мире.
– Фактическая поправка, почтеннейший. Эмские воды были в моде еще у древних римлян. Кроме того…
– Миша, не мешай. Вы говорите, в Эмсе шумно, доктор?
– По слухам, съезд там невероятный, особенно из-за того, что туда ездит государь. В Эмс бросились франты со всех концов мира.
– Да, правда, ведь государь в Эмсе! – сказала Софья Яковлевна. – Я и забыла. А воды почти такого же действия, как в Швальбахе?
– Более или менее: углекислый натр, углекислый литий. Действие почти одно и то же. Затем, разумеется, надо будет поехать на Nachcur[31]31
дополнительное лечение (нем.)
[Закрыть], – заметил доктор, произнося немецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покривившимся кончиком. Петр Алексеевич поспешно пододвинул к себе пепельницу, но пепел упал на ковер. – Господи, как я задержался! Еще в два места нужно, – сказал смущенно доктор. – Значит, завтра, часов в одиннадцать?
– Да, пожалуйста. До свиданья, Петр Алексеевич, и спасибо. Миша, проводи доктора, будь так добр.
Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро? Иметь на шее чужого скучного человека… Неужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрия… Да, правда, люблю, и мне его очень жаль… Однако за что же мне послано это наказание? Впрочем, стыдно так думать…»
– Практика прямо изводит нашего Петра Великого! – сказал Черняков, возвращаясь в гостиную. – Он еще не может прийти в себя: на равных правах участвовал в консилиумах со знаменитостями!.. Впрочем, он отличнейший врач! Вот и у Юрия Павловича сразу поставил правильный диагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мне без вас будет скучно… Жаль, что вы едете в Швальбах. Ты знаешь, в Эмсе будет не только государь, но и сам Мамонтов! Я вчера удостоился получения от него письма. Кажется, это второе за год с лишним!
– Николай Сергеевич? Ему-то что делать в Эмсе?
– Вероятно, cherchez la femme[32]32
ищите женщину (франц.)
[Закрыть]… Представь, он продал «Стеньку» и получил какие-то заказы на портреты!
– Почему ты думаешь «cherchez la femme»?
– Я так говорю, зная нашего Леонардо… Теперь к тебе небольшая обычная просьба, – сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт. – Билеты на концерт а пользу недостаточных студентов. Дай на радостях двадцать пять целковых.
– Я дам пятьдесят.
– Вот это очень мило. Не говорю тебе: приходи, так как, во-первых, вы будете в Швальбахе, а во-вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь.
– Не сердись: это всегда очень скучно. Вперед знаю: сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химии Бородина, затем Платонова или Леонова споет какую-нибудь «Ночь» или «Вечер» или «Утро» под аккомпанимент пьяненького Мусоргского, и pour la bonne bouche[33]33
на закуску (франц.)
[Закрыть], Достоевский прорычит пушкинского «Пророка». Благодарю покорно.