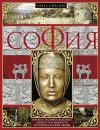Текст книги "Истоки"
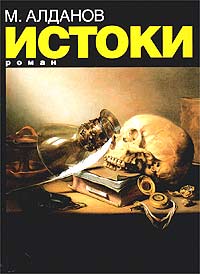
Автор книги: Марк Алданов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– На Волге, естественно. Он захватывает струг богача Шорина… Помните?
– Конечно, помню! Стенька – мой любимец. Что ж, ты, верно, многое приукрасил, а? Он тогда на шоринском струге много людей перевешал. Ты это изобразил?
– Смягчил, конечно, – нехотя ответил Мамонтов.
– Почему «конечно»? И почему «смягчил»? Ведь это же и есть революция. Ты думаешь, мы-то, ежели что, будем донкишотствовать?
Улыбка у него стерлась. Глаза стали холодными, почти жестокими. Мамонтов смотрел на него с любопытством. Контраст между выражением странных глаз Бакунина и его старческим добродушием был разительный. «Вот бы с него Стеньку писать? Хотя нет, какой же он Стенька? Он и по наружности старый барин. Глаза у него рембрандтовские, какой-то clair-obscur, как-будто серые, а вот сейчас чуть только не темные. Никогда в жизни не видел такого „зеркала души“… А на вид степной помещик восемнадцатого века, гвардии поручик в отставке, с разными „петербургскими действами“ в прошлом. Может быть, Орловы были такие? Да, хорошо бы написать его портрет, хоть тогда, чего доброго, нельзя будет вернуться в Россию», – подумал Николай Сергеевич.
– Стенька не только вешал людей, но и пытал их, и на кол сажал, – сказал он. – Как же не смягчать? Да и вы, если начнете революцию, то будете «донкишотствовать».
– Не говори вздору. Мы мстить и не собираемся. Хотя у меня есть за что мстить! Я у немцев на цепи с полгода просидел, прикованный к стене, ты понимаешь, что это такое? Два раза был приговорен к смертной казни и долго-долго ждал ее весь день, всю ночь… Сидел в казематах Кенигштейна, Праги, Петропавловки, Шлиссельбурга, лучшие годы там просидел! Пытать меня не пытали, но в Алексеевском равелине я каждый день ждал пытки, особливо вначале. При Николае очень просто могли прогнать сквозь строй: я ведь еще раньше был лишен дворянства… У меня есть за что им мстить! Но для такого глубокого чувства, как мщенье, в моем сердце, к несчастью, нет места. Русские люди отходчивы. Мы никого казнить не будем. Мы просто в момент переворота всех их перережем.
Николай Сергеевич изумленно на него взглянул: так не вязалась последняя фраза с тем, что ей предшествовало.
– Хороша же ваша «отходчивость», – сказал он, улыбаясь не совсем естественно: выражение глаз Бакунина не располагало к улыбке. – Не знаю, чем задуманная заранее резня отличается от казней? Каких же «их» вы перережете? Александра Николаевича зарежете?
– Какого Александра Николаевича?
– Царя.
– А ты как думал? Его, разумеется, первым. Тебе, что, царя жалко?
– Все же, как-никак, он освободил крестьян… Вопреки дворянам. Моих родных освободил, – сказал Мамонтов, с удивлением замечая, что в разговоре с Бакуниным занимает почти такую же позицию, какую в разговоре с ним самим занимали Черняков и Софья Яковлевна.
– Освободил, потому что боялся, как бы они не освободились «снизу»: ведь сам же он об этом цинично сказал. А что он в Польше проделал? Мне Польша так же дорога и близка, как Россия. Тебе нет?
– Мне нет.
– Жаль. Очень сожалею… Нет, ты пока не созрел для революции, да еще мондиальной, – нетерпеливо сказал Бакунин.
– А вы верите в мондиальную революцию?
– Какое кому дело, верю я или не верю! Достаточно того, что я для нее жил и живу. Но ежели ты хочешь знать, то я верю, хоть знаю, что мне не дожить. Наступают великие и жесткие времена. Лихо морю расколыхаться, но ежели оно расколыхнется, то успокоится не скоро, очень не скоро. Молодым людям надо готовиться к буре. Да ты, брат, видно, мягкосердого исповедания? Таким в революцию в самом деле носа совать не следует… Зачем же ты собственно ко мне приехал? – с недоумением спросил Бакунин. – Ведь ты, значит, не хочешь отдать свои силы революции?
– Я сам не знаю, чего я хочу… Я всего хочу! Скажу правду, я поехал в Европу, чтобы научиться уму-разуму. Думаю, что «ума-разума» сейчас больше всего у революционеров. Так теперь думает в России все наше поколение. – Бакунин одобрительно кивнул головою. – Может быть, мы и ошибаемся. Но трудно думать (он хотел было сказать «мыслить») против своего поколения.
– Твое поколение не ошибается. Какие бы мы, революционеры, ни были – а уж кому их и знать, как не мне? – мы, многогрешные, соль земли: без нас ей и существовать было бы незачем.
– Не знаю. Но во всяком случае я хотел побывать непосредственно у источника мудрости. И первым я хотел повидать… Михаила Бакунина, – сказал Мамонтов, выражаясь не вполне естественно все оттого, что он не мог выговорить: «тебя». – Я хотел бы узнать, к чему стремятся бакунисты?
– Ты мою «Государственность и анархию» читал? Первый том уже вышел.
– Нет еще. Я достану в Цюрихе, конечно, но…
– Ну, так вот, ты там можешь все прочитать. Каюсь, я не люблю говорить об ученых предметах. Прежде любил, теперь надоело. Но в двух словах, изволь, скажу. Наша цель: разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, освобождение всего человечества волей восставшей черни…
– Вот как! «Черни»!
– Разрушение всех религиозных, политических, юридических, экономических и социальных учреждений, составляющих настоящий порядок вещей. Полное и окончательное уничтожение классов, равенство индивидов обоих полов, уничтожение наследственных прав, – сказал Бакунин, закончив, наконец, свой бифштекс. Он с наслаждением закурил папиросу.
– А чем вы отличаетесь от марксистов? Я очень невежествен, я знаю, что мой вопрос смешит… Ну, мне говорили, что Маркс признает государство, а Бакунин нет, – уныло сказал Николай Сергеевич, – я это двадцать раз слышал и никогда не мог понять. Что это значит: не признавать государство? Что вы сделали бы, если бы пришли к власти?
– Прочти мою Лионскую программу. – Бакунин тяжело откинулся на спинку кресла и стал перечислять: – Правительственная и административная машина отменяется. Народ берет всю власть в свои руки. Суды, уголовные и гражданские, уничтожаются с заменой народным судом. Уплата налогов и гипотек прекращается. Богатые классы облагаются должной контрибуцией. Каждая коммуна выбирает делегатов для революционного конвента…
– Так ведь это значит: другой парламент, другой суд, другие налоги, но ведь это все-таки государство?.. Однако я не смею спорить. Значит, Маркс с этой программой не согласен?
– Для Маркса моя программа, как все мое, что ладан для черта. А какая его собственная программа, этого никто и в его Санхедерине не знает. Я тебе берусь доказать, что у Маркса есть все пункты моей программы. Но есть и прямо противоположное. У Маркса все есть. Он ведь только дал штандпункт, – саркастически сказал Бакунин, – а уж пусть там кашу расхлебывают другие. Штандпункт же у него такой, что и толковать и применять может каждый дурак: вот ты и представь, что из сего может выйти. Маркс признает и вооруженное восстание. Разумеется, в свое время. Единственное, чего он не хочет, это чтоб вооруженное восстание произошло в его время. Потому ему, видишь ли, надо работать в Британском музее и единственное, что он в жизни любит, это его теория и работа над ней в Британском музее… Говорят, впрочем, он еще и жену любит, и в таком сухаре это весьма удивительно. Но ежели тебе кто скажет, что Маркс любит трудящихся людей или своих учеников, то плюнь тому в бесстыжие глаза. Маркс в тысячу раз умнее и ученее всего своего Санхедерина, и он прекрасно понимает, какую они без него сделают революцию! – Бакунин опять захохотал. – Ох, не доживу, а хотел бы я одним глазом посмотреть на мондиальную революцию с Либкнехтом, скажем, во главе! Или еще лучше, провизорное правительство с гнуснецом Борхгеймом!.. Я не Бог знает какой моралист, но одно мое слово ты, брат, запомни: революция должна искать опоры не в подлых и не в низменных, а в благородных страстях. Знаю, что без гнуснецов не обойтись, на это порой приходится полузакрывать глаза, но ежели наверху преобладают гнуснецы, то революция погибнет, верь моему слову.
Горничная, не постучав в дверь, осторожно внесла в комнату большой поднос, на котором были две бутылки, сахар, тарелка с фруктами и какое-то сооружение со спиртовой горелкой. Бакунин опять ласково заговорил с горничной по-итальянски, одновременно занявшись приготовлением жженки. Горничная, смеясь, ему помогала. В комнате запахло ромом и жженым сахаром. Николай Сергеевич молча улыбался и обдумывал, о чем спрашивать старика дальше.
Они выпили по бокалу горячего напитка, который показался Мамонтову очень крепким: Бакунин вылил в ведерко чуть не половину бутылки рома. Николай Сергеевич похвалил жженку.
– Да разве это настоящая жженка? – сказал Бакунин. – Настоящей я с Сибири не пил! Но уж у нас тут такой обычай: с кем перехожу на «ты», кого принимаю в наше братство, с тем пью жженку. Ну, брат, будем здоровы…
– Ведь я еще в братство не принят.
– Это от тебя зависит. Хочешь, сейчас тебя запишу? – Он полез в карман сюртука и вынул кучу стареньких потертых и погнувшихся карточек. Николай Сергеевич пробежал одну из них: «Association Internationale des Travailleurs. Fédération Jurasienne. Carte de membre central. Sur la précentation de… le porteur de cette carte… né en… originaire de… profession de… a été admis comme membre central. Les membres centraux ont à payer une cotisation annuelle de fr. 1.50».[26]26
«Международное товарищество рабочих. Юрская федерация. Членская карточка. По рекомендации… предъявитель этой карточки… родившийся в … году, уроженец … по профессии … принят в качестве действительного члена. Действительные члены платят ежегодный взнос в размере 1,5 франка» (франц.)
[Закрыть] Могу сейчас же тебя записать. Полтора франка заплатишь и будешь центральным членом нашего братства. Я тебе и шифр дам, чтобы сноситься со мной. Шифр у нас старый, боюсь, что его уже знают кому его знать не надо. Я там обозначен числом 30, генеральный совет Интернационала был 76, конгресс Юрской федерации 153… Постой, а не 135? – Он задумался, вспоминая. – Нет, кажется, 153… Ох, становлюсь стар, все позабываю, – сказал он со вздохом, закуривая новую папиросу.
– А что если я все это немедленно сообщу Третьему отделению? – смеясь, спросил Мамонтов.
– Ты намекаешь, что я неосторожен? Но, во-первых, у тебя рекомендательное письмо. А во-вторых, пора бы мне знать толк в человеческих физиогномиях. Ведь у меня какая жизнь была! Опыт кой-какой в людях набрался. Твое лицо мне понравилось. Так как же, хочешь стать бакунистом?
– Могу ли я так сразу стать бакунистом? Я теперь знаю общие цели бакунистов, но какие ваши планы сейчас, я не знаю и даже спрашивать не могу, а то вы в самом деле примете меня за агента Третьего отделения.
Бакунин подумал с минуту, глядя на Мамонтова в упор.
– Я тебе скажу. Верю тебе, у тебя душа молодая и честная. Ты с норовом человек, но прямолинейный. Мы точно стоим за восстание. В результате восстания власть перейдет к революционному меньшинству, а оно создаст коммунистическое общество.
– Да ведь только что было восстание в Испании и не Задалось. И ваше восстание в Лионе не удалось, и еще…
– И еще будет десять восстаний, и тоже не удадутся, – нетерпеливо перебил его Бакунин. – А одиннадцатое удастся. Теперь мы задумали думу о восстании в Италии. Мы и «Баронату» купили для этой цели.
– Что такое «Бароната»? Мне еще в Цюрихе русские говорили, что Бакунин живет в вилле «Бароната». Я и собирался там завтра побывать, но вот встретил здесь… Так эта вилла имеет отношение к восстанию?
– А ты как думал? Понятное дело, мы распускаем слухи, будто я получил от братьев из России деньги, остепенился и бросил к черту все публичные дела. А на самом деле мы купили эту виллу для революционного дела. Вилла дрянная, но вид – очарованье! С Премухиным может сравняться!.. Премухино – это наше бакунинское имение в Тверской губернии, где прошла моя юность, – со вздохом сказал он, тряся головой и точно отгоняя от себя воспоминание о Премухине. – Я в этой «Баронате» впрочем заодно фрукты развожу и разное другое. Ты Eucalyptus Globolosus знаешь? Великолепное австралийское дерево и растет здесь не по дням, а по часам. Вот вправду скоро за старостью брошу публичные дела и займусь сельским хозяйством. Что я за каторжник такой, чтобы страдать всю жизнь, а? Разве я не имею права на отдых?
– Как не иметь? – ответил, смеясь, Мамонтов. – Быть может, в Михаиле Бакунине пропал мирный помещик.
– Помещик не помещик, но иногда заквакают лягушки, и у меня комок к горлу подступает! – сказал Бакунин. Он вдруг приложил к глазам платок и отвернулся. – Так мне это напоминает Премухино и Россию!.. Ведь ни Премухина, ни России я больше не увижу. Умирать пора…
– Как же умирать, если вы хотите поднять восстание? – смущенно заметил Мамонтов. Ему в самом деле казалось, что этот замученный жизнью человек скоро умрет. – Но какая же эта вилла?
– Маленькая старая вилла на холме над Лаго-Маджоре. В саду сажен двадцать виноградника, несколько гряд овощей и цистерна… Тропинка незаметно спускается к озеру. Кроме того, мы прокапываем подземный ход, так что из одной комнаты виллы можно будет пройти к озеру под землей.
Мамонтов вытаращил глаза.
– Зачем же к озеру идти подземным ходом?
– Как ты не понимаешь? – раздраженно спросил Бакунин. – В «Баронате» у нас будет квартира, убежище для революционеров всех стран, склад оружия и тайная типография. Ежели вдруг нагрянет полиция, мы пробираемся подземным ходом вниз, садимся на лодку, и поминай как звали.
– Куда же можно бежать из Швейцарии? Ведь это самая свободная страна в Европе.
– Найдем, куда бежать! Но главное, разумеется, не в том, чтобы бежать от полиции: до того, как полиция нагрянет, мы еще натворим дел. Понимаешь, один берег Лаго-Маджоре итальянский, и мы на нем знаем такие уголки, где нет ни стражи, ни таможен, ни часовых. Нужно доставить для восстания оружие – мы подземным ходом выносим к лодке и переправляем в Италию.
– Да сколько на лодке можно переправить оружия? Ведь такое игрушечное восстание подавит одна полиция без всяких войск.
– Я тебя, брат, не учу, как краски класть на картине. Что ж ты Бакунина учишь, как делать революцию! – сердито сопя, спросил старик, очевидно не любивший возражений, несмотря на свой бытовой демократизм. – Молод ты, брат, меня учить!
– Ради Бога, прошу извинить! Я в мыслях не имел…
– В революции, ежели ты хочешь знать, всегда три четверти фантазия и лишь одна четверть действительности. Этого только Маркс в Британском музее не понимает! – сказал Бакунин и опять стукнул кулаком по столу. Жженка пролилась из стакана. Он залпом его Опорожнил. – И все-таки революция будет! Будет мондиальная, универсальная революция! Злая шутка, что я до нее не доживу и что не я буду ею руководить! Но это все равно, кому выпадет счастье: Бакунину ли, Стеньке ли али кому другому! Лишь бы слились в России две могучие стихии: крестьянская и разбойничья, и тогда заварится каша на весь мир!
– Ну, хорошо, – нерешительно сказал Николай Сергеевич. – Ну, вы уничтожите врагов. Дальше что?
– Присутственные места сожжем! В первый же день, с их архивами, бумагами, с их вековой человеческой грязью. – Лицо у него вдруг передернулось. – Их сожжем в первый же день!
– Архивы? Если я правильно разобрал по-итальянски, вы и на лекции тоже говорили об уничтожении бумаг? Почему это имеет такое значение?
– Сожжем в первый же день! – угрюмо повторил старик, все с той же судорожной гримасой. – Как ты не понимаешь? Ежели все бумаги сожжены, имущественные, судебные, архивные, то к прошлому не может быть возвращения, – пояснил он, мотая головой. – Разумеется, все сожжем, все! Не в первый день, а в первый час! – «Кажется, у него это мания», – подумал Мамонтов, с недоумением и испугом глядя на бледное, дергающееся лицо старика. – И заварим такую кашу, какой еще никогда не пробовал мир!
– А когда каша будет сварена и съедена?
– Что же ты хочешь сказать?
– Ну, установите новый общественный порядок. У всякого трудящегося, сначала в Италии, потом, скажем, в России, потом во всем мире, будет домик, курица в супе, и не только в воскресенье, а каждый день. Что вы будете делать дальше? Что при новом общественном порядке делать таким людям, как Бакунин?
– Дальше что? – переспросил озадаченно старик. – Дальше я сейчас не заглядываю. – Он засмеялся и лицо его опять приняло добродушное, почти спокойное выражение. – Дальше скоро я все разрушу и начнем все сначала… Ты мне нравишься, право! Ну, довольно об этом говорить. Значит, ты приехал в Локарно единственно для того, чтобы меня, старика, повидать? Польщен весьма. Я повез бы тебя в «Баронату», ты мог бы погостить на нашей кварте-ре, но беда, видишь ли, в том, что я уезжаю по делам.
– Вы уезжаете? Ах ты, Господи! – сокрушенно сказал Николай Сергеевич.
– Так что же?
– Как что! – Мамонтов вздохнул. – Значит, первый блин комом. Ведь я хотел написать ваш портрет, – сказал он, решив за трудностью отказаться от фраз без «вы» и без «ты».
– Вот, значит, для чего ты ко мне приехал! Так бы и говорил! А то «учиться уму-разуму»… Тогда подожди меня, братец, здесь. Я через недельку вернусь.
– Нет, я лучше снова к вам приеду, – ответил Николай Сергеевич. «Если он говорит „через недельку“, то может приехать и через три, а ты его жди в этой дыре!» – подумал он. – Если будет ваша милость, я напишу вам и приеду в «Баронату» дня на три-четыре, чтобы работать целый день и написать вас как следует. Согласны?
– Согласен. Но поторопись, ежели не хочешь меня писать в гробу… Я шучу, приезжай, всегда буду рад.
– Однако вы не думайте, Михаил Александрович, будто я вам солгал: я приехал не только для того, чтобы написать ваш портрет. Ведь я еще и не знаю, выйдет ли из меня хороший художник, а плохим быть я не желаю. Не знаю, что я буду делать в жизни. Я действительно хотел научиться у вас.
– Хотел? Больше не хочешь?
– Хочу, конечно, – ответил Мамонтов. Как ни интересен был ему Бакунин, он понимал, что не научится у старика мудрости, которая ему подходила бы. – Я только не знаю, по пути ли нам? Вы моря крови проливать хотите, а я, Михаил Александрович, не люблю кровь.
– Ты, что ж, думаешь, я ее люблю! – сказал Бакунин. – Терпеть не могу. И жестоких людей не люблю. Но ежели надо, то надо.
– Одним словом, вы готовы ее проливать. А я думаю, что тех же целей можно достигнуть мирно. Не сразу, конечно, но сразу и ценой крови нельзя… Впрочем, с моей стороны нахально спорить с вами: вы об этом думали всю жизнь, а я так мало знаю… Не сердитесь на меня. Может быть, почитаю ваши книги и сам к вам приду: «возьмите меня». Я завтра утром уеду в Париж и по дороге в Цюрихе куплю все ваше, что найду в книжной лавке.
– Ну, что ж, твое дело. Насильно мил не будешь… Хорошо, хорошо, не протестуй… Так ты спешишь в Париж? Фрукты писать? – насмешливо спросил Бакунин. – А то, когда прочтешь мои книги, тотчас и возвращайся. Будешь с нами работать.
– С вами работать? С кем же и над чем?
– Над чем, я тебе сказал. А с кем? С бакунинцами, ежели они так именуются. Ну, с Кафиеро. Не слышал о нем? Это мой итальянский ученик. Он тоже получил наследство, но он его целиком отдает на дело революции. – Николай Сергеевич вспыхнул. – Нет, это я тебе говорю не в укор, а потому, что пришлось к слову. Что же, ежели ты революции не сочувствуешь? Жаль.
– Я этого не сказал. Я сказал, что сам еще ничего ровно не знаю и не понимаю.
– На деньги Кафиеро мы и купили эту виллу. Я там числюсь хозяином, но, разумеется, она не моя. Я на ней имею стол и кров. Много ли мне нужно? Чай и табачок есть, больше человеку ничего не требуется. Одно только: болеть стал! Это, братец мой, последнее дело.
– Что такое? Какая болезнь?
– Разные, верно, а, главное, сердце ожирело и очень я стал нервозен. Почти не сплю, лежать трудно, одеваться и раздеваться трудно. Иногда по нескольку дней не раздеваюсь, ежели помочь некому. С зубами тоже нехорошо: надо бы заправить челюсть, да не хочется и денег нет.
– Михаил Александрович, возьмите у меня денег! – горячо сказал Мамонтов. – Я не могу отдать свое состояние на революцию, потому что… Потому что этого никто не делает. Но…
– Не говори – никто: вот Кафиеро отдает.
– Кафиеро я не знаю. Но Герцен, например, был богатый человек и не отдал. Да я и сам ведь не знаю, кому сочувствовать…
– Я тебя ничуть и не обвиняю и в причины твоего нехотения не вхожу. Не отдаешь – твое дело. Тут и объяснять нечего.
– Не отдаю, потому что хочу жить свободно, а это без денег невозможно. Но если б вы согласились взять у меня несколько сот франков, то я был бы, прямо скажу, счастлив. Не на итальянскую революцию, а на ваше леченье, а? Вы мне сделаете честь.
– Да ты меня так не убеждай. Меня и убеждать не надо. Несколько сот франков, говоришь? Пятьсот?
– Отлично, пятьсот.
– Возьму с благодарностью, вот приятная неожиданность! Надо еще выпить, – сказал Бакунин, разлив по стаканам остаток жженки. – Твое здоровье! – Он выпил и закусил остатками сыра. Николай Сергеевич смущенно отсчитывал деньги. – Спасибо, голубчик. А челюсти я себе все-таки не заправлю. К доктору, пожалуй, пойду, и лекарства куплю, и аптекарю, кстати, долг заплачу. – Он вздохнул. – Странно, я всю жизнь брал взаймы справа и слева и никогда по сему поводу не чувствовал смущения. А что; меня за это ругали, сказать тебе не могу. Еще покойный мой друг-недруг Белинский ругал… Он, впрочем, сам брал деньги взаймы, где только мог, но он это делал с мукой. А я, видишь ли, без муки. Никогда я этого не мог понять. «Честь, честь»! – с досадой передразнил кого-то Бакунин. – При чем тут честь? И что такое честь? «Мое», «твое»!.. Я своей жизнью, смею думать, завоевал себе право на то, чтобы за мой чай с хлебом и за табак платили другие и чтобы меня этим не попрекали, а?
– Да, разумеется!
– Ну, спасибо тебе. Вот не думал, не гадал! Признаюсь, когда Джакомо сказал мне о компатриоте, я подумал, что надо выручать этого компатриота из беды. Помнится, я даже предложил тебе денег, а? Ну да, предложил. Ты не думай, что я только беру. Я сам с каждым рад поделиться, когда у меня есть… Господи, у кого только я не брал взаймы! Помню, в Сибири я задумал бежать из ссылки, нужны деньги, а их-то, как всегда, и нет. Был там вице-губернатор, хороший человек… Как его звали? Забыл, сейчас вспомню… Ну, мы с ним были знакомы, я всех знал. Ведь генерал-губернатор граф Муравьев приходился мне близким родственником. Поехал я к вице-губернатору, говорю ему: «Так, мол, и так, дайте, говорю, тысячу рублей взаймы». Он заахал: «Да у меня, говорит, Михаил Александрович, таких денег нет в свободном состоянии! Да и зачем вам, говорит, Михаил Александрович, такая сумма? Тут с глуши такие деньги и истратить не на что!» – «Тут, в глуши, говорю я ему в ответ, точно истратить не на что. Но мне, видите ли, ваше превосходительство, бежать нужно отсюда, из ссылки, а на это требуются немалые деньги». И что же ты думаешь? Дал! «Ежели, говорит, на побег, то я не могу отказать. Получите…» Ты смеешься? Ну да, потому он русский человек. Немецкий вице-губернатор, небось, не то что не дал бы, а сейчас же послал бы за полицией, уж в этом ты верь моему слову… Или вот, не очень давно, разозлил меня этот контовский поп Вырубов своими писаньями. Смерть хотелось ему ответить брошюрой, а напечатать ее не на что: было тогда полное безденежье. Что ж, взял я и написал Вырубову: хочу тиснуть о вас ругательную брошюру и пороха не хватает, не пришлете ли мне для уплаты за нее типографии триста франков? Прислал! Потому он тоже русский человек… Да что ты хохочешь?
– От восторга, Михаил Александрович!
– Ежели б ты мне не предложил денег, я сам бы к тебе обратился, узнав, что ты богатый человек. Я не говорю тебе, когда отдам: ты сам понимаешь, что не отдам никогда. Но это очень мило, что ты предложил по своей воле. За это я тебя угощаю: и за обед, и за шампанское плачу я… Не спорь, слушать ничего не хочу!.. А на твои деньги я теперь разведу музыку, – добавил он, подумав. – Нет, я ни к доктору не пойду, ни к аптекарю, ни к дантисту. Они подождут. Завтра же пошлем одного человека в Болонью! Разлюбезное дело!
Он засмеялся от радости. Николай Сергеевич хотел было возражать, но раздумал.
– Я в жизни не видал такого человека, как вы, и даже не предполагал, что такие люди возможны! – совершенно искренне сказал он. – Хотелось бы еще выпить с вами, да боюсь, что вам вредно?
– Вредно? Конечно, вредно. А что мне не вредно? И мясо вредно, и табак вреден. Но больше заказывать вина не надо: и поздно, и выпили мы достаточно. Посчитай: на двоих бутылку шампанского, бутылку красненького и по стакану рому. В молодости, когда я был офицером, я много мог выпить. Теперь не могу, уходили сивку крутые горки.
– Не думаю: уж очень мощная сивка!
– Сивка, пожалуй, крепкая, да горки были очень крутые… А ты пьешь недурно. Ты вообще мне нравишься. Tu as le diable au corps et le poivre au с…[27]27
У тебя черт в теле и перец в ж… (франц.)
[Закрыть] Я люблю это выражение. Чего ты все гогочешь? Пора тебе, брат, спать. Ты, чай, устал от прогулки с мешком? А я пойду работать.
– Как работать?
– Я всегда работаю до утра. А нынче много надо написать писем разным человечкам. Сколько у меня времени уходит на письма, да и денег: ведь я почти все франкирую, – не без гордости пояснил старик. – Теперь особливо пишу к итальянцам и испанцам… Понравились тебе мои слушатели? Хороший народ: это все эмигранты. Ну, прощай, голубчик. Может, завтра увидимся, а, может, и нет: я с утра уйду из дому. Моя комната вон та, против тебя. – Он тыкнул рукой в окно и с большим усилием встал с кресла. Деньги упали на пол, он наклонился, чтобы их поднять. Лицо у него мгновенно налилось кровью. «Он может умереть каждую минуту! – подумал Николай Сергеевич, не успевший помочь старику. – Самое время устраивать восстание!» Бакунин неожиданно его обнял.
– Ежели не увидимся, не позабывай и не поминай лихом. И еще раз от души тебя благодарю за деньги. А «мудрости», боюсь, я тебя не научил! Ох, чувствую, выйдет из тебя лаврист! – сказал старик, сопя крепче прежнего.
Несмотря на большую усталость, Николай Сергеевич от волнения долго не мог заснуть. По природе он легко находил в людях смешное и дурное, – при желании это можно было найти и в Бакунине. «Однако, кто в нем отыскал бы это, тот выдал бы самому себе патент на неизлечимое мещанство. В нем не смешно и не гадко даже то, что было бы смешно и гадко в другом. Вероятно, это происходит от размеров личности: уж очень все титанично в Бакунине.
И самое удивительное, пожалуй, его простота, так необычайно сочетающаяся с умом, блеском и, главное, с мощью… Да, необыкновенный, необыкновенный человек! Но самое странное его глаза! Так они не идут к его простоте», – думал Николай Сергеевич. Неожиданно простота Бакунина вызвала в его памяти воспоминание о Кате. Он сам улыбнулся этому сопоставлению, и подумал, что из Парижа, быть может, скоро вернется в Петербург. «Зачем мне, собственно, ехать в Лондон?»
Мамонтов сам себе ответил, что собирался в Лондон больше по чувству симметрии: «Уж если Бакунин, то и Маркс. Но, прежде всего, нет никаких оснований думать, что Маркс меня примет. К Бакунину было все-таки рекомендательное письмо, хотя оно на него не произвело впечатления. К Марксу нет письма. Допустим, что я как-нибудь найду рекомендацию. Distingons.[28]28
Здесь: разница в следующем (франц.)
[Закрыть] Для того чтобы написать портрет Маркса, нужно все-таки иметь некоторое имя, иначе он меня примет за любителя в поисках знаменитостей, и в этом будет доля правды. Я поеду к Марксу и к другим, когда создам себе хоть некоторое положение в мире живописцев, а для этого нужно время. Разговоры же об «уме-разуме»… Что дал мне сегодняшний разговор? Решительно ничего, в этом Черняков был прав. Так же было бы, вероятно, и у Маркса. Правда, я рад и счастлив, что познакомился с Бакуниным, и не только из тщеславия, не только потому, что можно будет об этом рассказывать. Конечно, нынешний день дал мне сильнейшее впечатление, которого книги Бакунина не дали бы. Но «уму-разуму» у бакунистов не научишься, с их подземными ходами и мондиальной революцией, которую они развозят на лодке… Должно быть, это очень смешно, его «Бароната», – улыбаясь, думал Николай Сергеевич. – Как только такой умный человек может быть столь наивен? Ведь у него и чувство юмора есть, и большой жизненный опыт, и вот со всем этим – «Бароната»!.. Нет, к Марксу мне скакать незачем. Поеду в Париж, и там будет видно… Буду много работать, попробую показать «Стеньку» и другое…»
Николай Сергеевич проснулся от угара: засыпая, забыл потушить лампу. Он с досадой поднялся на подушке, на которой медленно оседала сажа, дунул в стекло, встал и отворил окно. Уже почти рассветало. В окне против его комнаты светилась свеча. Бакунин сидел за письменным столом и, низко наклонившись, что-то писал.