Текст книги "В сторону Сванна"
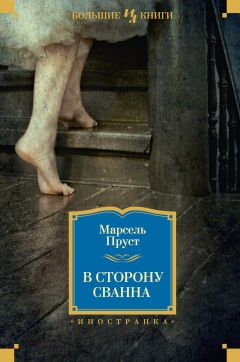
Автор книги: Марсель Пруст
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но бесспорно, любопытнее всего в нашей церкви вид, который открывается с колокольни, – великолепный вид. Вам, конечно, при вашей хрупкости, я бы не посоветовал карабкаться по нашим девяносто семи ступеням, что составляет ровно половину знаменитого Миланского собора. Тут и здоровяк устанет, тем более что идти приходится, согнувшись в три погибели, чтобы не разбить себе голову, и попутно обираешь всю паутину с лестницы. Во всяком случае, вам бы надо было закутаться хорошенько, – продолжал он, не замечая, с каким негодованием встречена тетей идея, что она способна вскарабкаться на колокольню, – потому что, когда доберешься до верху, там такой ветрище! Некоторые утверждают, будто там веет смертельным холодом. И все равно по воскресеньям там всегда компании, которые иногда приезжают даже из очень дальних мест, восхищаются красотой панорамы и возвращаются очарованные. Да вот в ближайшее воскресенье, если погода продержится, наверняка будет народ по случаю молебнов. В общем, надо признать, что обзор оттуда открывается феерический, в таком, знаете, необычном ракурсе – так что все приобретает совершенно особый отпечаток. В ясную погоду видно до самого Вернейля. Главное, одновременно охватываешь взглядом то, что обычно можно увидеть только по отдельности, например течение Вивонны и укрепления Сент-Ассиз-де-Комбре, от которых ее заслоняет стена огромных деревьев, или, скажем, разные каналы Жуи-ле-Виконт (Gaudiacus vice comitis, как вы понимаете). Всякий раз, когда я ездил в Жуи-ле-Виконт, я видел один кусок канала, потом завернешь за угол – и виден другой кусок, но тогда уже не виден первый. Уж как я ни пытался их мысленно совместить, особых результатов это не давало. А с колокольни Святого Илария другое дело: видно, что эти каналы – целая сеть, пронизывающая всю округу. Только воду не разглядеть, просто что-то наподобие огромных щелей, которые так точно делят городок на четверти, ну прямо круглая булка, еще целая, но уже разрезанная. Но на самом-то деле, чтобы представить себе все как есть, хорошо бы одновременно быть и на колокольне Святого Илария, и в Жуи-ле-Виконт.
Кюре так утомлял тетю, что, как только он удалялся, ей приходилось спроваживать и Элали.
– Вот, Элали, милая, – говорила она слабым голосом, вытаскивая монету из маленького кошелька, который лежал у нее под рукой, – это чтобы вы не забывали меня в своих молитвах.
– Ах, госпожа Октав, даже и не знаю, брать или нет, вы же знаете, что я не за тем прихожу! – говорила Элали всякий раз так нерешительно и застенчиво, словно в первый раз, и всякий раз с напускным неудовольствием, которое смешило тетю, но было ей скорее приятно, потому что, если когда-нибудь Элали принимала монету с чуть меньшей досадой, чем обычно, тетя говорила:
– Не понимаю, что случилось с Элали: я ей дала то же, что и всегда, а она вроде была недовольна.
– Как бы то ни было, думаю, что жаловаться ей не на что, – вздыхала Франсуаза, которой было свойственно считать мелочью все, что перепадало от тети ей и ее детям, и сокровищами, безумно расточаемыми на неблагодарную особу, – монетки, которые каждое воскресенье перекочевывали в ладонь Элали, да так незаметно, что Франсуазе никогда не удавалось их увидеть. Не то чтобы Франсуаза претендовала на деньги, которые тетя давала Элали. Тетино богатство и так давало ей огромные преимущества: она ведь знала, что богатство хозяйки заодно возвышает и украшает в глазах окружающих и ее служанку и что она, Франсуаза, пользуется почетом и уважением в Комбре, Жуи-ле-Виконт и прочих местах благодаря многочисленным тетиным фермам, частым и продолжительным визитам кюре, а также удивительному количеству выпиваемых тетей бутылок «Виши». Она скупилась только ради тети; если бы она управляла тетиным состоянием (что было ее мечтой), она бы обороняла его от вмешательства посторонних с материнской свирепостью. Впрочем, Франсуаза готова была смириться с тетиной неисправимой щедростью, с тем, что хозяйка не отказывала себе в удовольствии раздавать деньги, – но пусть бы, по крайней мере, благодетельствовала богатым. Возможно, Франсуаза полагала, что поскольку богачи не нуждаются в тетиных подарках, их нельзя заподозрить в том, что они лишь ради подарков ее любят. К тому же, если подношения делались людям, располагающим большими средствами, – г-же Сазра, г-ну Сванну, г-ну Леграндену, г-же Гупиль, людям «того же ранга», что моя тетя, «подходящим» людям, – она считала, что это входит в ритуал странной и блистательной жизни богачей, которые ездят на охоту, дают балы, обмениваются визитами, – тех, на кого она смотрит с восхищенной улыбкой. Но совсем другое дело, если адресатами тетиных благодеяний оказывались, по выражению Франсуазы, «такие же люди, как я, ничем не лучше меня», – этих она сильнее всего презирала, если только они не называли ее «госпожа Франсуаза» и не считали себя «хуже ее». И когда она видела, что тетя, вопреки ее советам, поступает по-своему и тратит деньги – во всяком случае, Франсуаза в это верила – на недостойных людей, те дары, которые она сама получала от тети, представлялись ей ничтожными по сравнению с воображаемыми суммами, которые транжирились на Элали. Не было в окрестностях Комбре мало-мальски порядочной фермы, которую, как предполагала Франсуаза, Элали не могла бы купить на доходы от визитов к тете. Правда, Элали строила такие же предположения насчет несметных тайных богатств Франсуазы. Обычно после ухода Элали Франсуаза пускалась на ее счет в беспощадные прорицания. Она ее ненавидела, но боялась и почитала себя обязанной, когда Элали появлялась, обходиться с ней любезно. После ухода Элали она отыгрывалась, никогда, правда, не называя Элали по имени, зато изрекая дельфийские пророчества или сентенции общего характера, под стать Екклесиасту, но так, чтобы от тети не ускользнуло, в кого они метят. Глянув из-за краешка шторы, закрылась ли за Элали дверь, она приговаривала: «Втируши знают, как подлизаться, чтобы их звали и совали им подачки, но погодите, придет день и Господь на небе их всех покарает», – и метала взгляды искоса с многозначительностью какого-нибудь Иоаса, который произносит, имея в виду исключительно Гофолию:
Иссохнет, как поток, неправедного счастье[118]118
Иссохнет, как поток, неправедного счастье. – Этот стих из Расина («Гофолия», акт 2, сц. 7), который мы приводим в пер. Ю. Корнеева, представляет собой реминисценцию из памятника раннего христианства, «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» (XL, 13): «Имения неправедных, как поток, иссохнут и, как сильный гром при проливном дожде, прогремят».
[Закрыть].
Но когда Элали и кюре являлись одновременно и бесконечный визит кюре истощал тетины силы, Франсуаза выходила из спальни вслед за Элали со словами:
– Отдохните, госпожа Октав, вид у вас ужас какой усталый.
А тетя даже не отвечала, вздыхая так, будто это был ее последний вздох, и прикрыв глаза, как мертвая. Но не успевала Франсуаза спуститься, как дом оглашал яростный четырехкратный звонок сонетки и тетя, приподнявшись в постели, кричала:
– Элали уже ушла? Представляете, ведь я позабыла у нее спросить, поспела ли госпожа Гупиль в церковь до возношения Даров! Скорее бегите за ней!
Но Франсуаза не успевала догнать Элали и возвращалась ни с чем.
– Какая досада! – говорила тетя, качая головой. – Самое важное забыла спросить!
Так проходила жизнь моей тети Леони, всегда одинаковая, в сладостном однообразии, которое сама она с притворным пренебрежением и глубоко запрятанной нежностью называла «мое прозябание». Всеми оберегаемое, – не только дома, где все на опыте убедились, что бессмысленно советовать ей, как правильней заботиться о здоровье, и мало-помалу примирились с тем, что надо это «прозябание» просто уважать, но даже и в деревне, где упаковщик, прежде чем заколачивать ящики, посылал к Франсуазе узнать, не «отдыхает» ли тетя, – один раз это прозябание все же оказалось в тот год нарушено. Как созревает незаметно для всех и неожиданно срывается с ветки притаившийся плод, так однажды ночью у судомойки начались роды. Но боли у нее были нестерпимые, а в Комбре не было акушерки, и пришлось Франсуазе до рассвета отправляться за акушеркой в Тиберзи. Вопли служанки помешали тете отдыхать, а Франсуаза, хотя расстояние было невелико, пришла домой очень поздно, и тетя без нее намучилась. И вот мама сказала мне утром: «Поднимись к тете, узнай, не нужно ли ей чего». Я вошел в первую комнатку и в открытую дверь увидел тетю, она спала, лежа на боку; я слышал, как она слегка похрапывает. Я уже хотел потихоньку уйти, но, вероятно, произведенный мною шум вторгся в ее сон и «переключил скорость», как говорят об автомобилях, потому что музыка храпа на секунду стихла и возобновилась тоном ниже; потом тетя проснулась и вполоборота повернула ко мне лицо, так что теперь я его видел; на нем отражался ужас; ей явно снился какой-то кошмар; ей было меня не видно с кровати, и я застыл на месте, не зная, подойти ближе или уйти прочь; но она уже как будто стряхнула морок и осознала, что испуг ее вызван обманчивым сновидением; ее лицо просветлело от улыбки, исполненной радости и набожной благодарности Богу, по чьему соизволению жизнь менее жестока, чем сны, и, по привычке вполголоса говорить сама с собой, когда ей казалось, что рядом никого нет, она прошептала: «Слава тебе, Господи! Всех-то неприятностей, что судомойка рожает. А мне-то, мне-то снилось, будто воскрес бедняга Октав и заставляет меня каждое утро ходить на прогулку!» Ее рука протянулась к четкам на ночном столике, но не достала до них, потому что тетю уже опять сморила дрема; успокоившись, она заснула, и я крадучись вышел из спальни; и ни она, ни кто другой так и не узнал, что я слышал. Когда я говорю, что, не считая редчайших событий, таких как эти роды, тетя прозябала без особых перемен, я не принимаю в расчет отступлений от правил, всегда одних и тех же, регулярно повторявшихся в неизменном виде, что вторгались в однообразие жизни однообразием второго порядка. Например, по субботам, когда Франсуаза во второй половине дня ходила на рынок в Руссенвиль-ле-Пен, обед подавали на час раньше. И тетя настолько привыкла к этому еженедельному нарушению ее привычек, что оно вошло у нее в привычку наравне с другими. Она к этому так, по выражению Франсуазы, «пообвыкнула», что ежели бы в субботу ей довелось ждать обычного времени для обеда, ее бы это настолько же «выбило из колеи», как в другие дни перемещение обеда на час раньше. И вообще мы все чувствовали, что этот перенос субботнего обеда на час раньше придавал субботе особое, благодушное и довольно-таки славное выражение лица. В тот момент, когда по правилам надо бы ждать обеда еще час, мы все уже знали, что через несколько секунд перед нами предстанут преждевременный брюссельский салат, льготный омлет, незаслуженный бифштекс. Наступление этой асимметричной субботы было одним из тех мелких внутренних, местных, почти гражданского значения событий, которые в ходе спокойной жизни в лоне замкнутого общества связывают всех незримыми узами и становятся излюбленной темой разговоров, шуток, легкомысленных россказней: оно запросто могло бы послужить ядром легендарного цикла, будь у кого-нибудь из нас склонность к эпическому творчеству[119]119
…будь у кого-нибудь из нас склонность к эпическому творчеству. – Аллюзия на замечание Никола де Малезье (1650–1727): «У французов нет склонности к эпическому творчеству», которое использовал Вольтер в «Эссе об эпической поэзии».
[Закрыть]. С самого утра, еще не одетые, мы с упоительной солидарностью пользовались любым предлогом, чтобы напомнить друг другу – весело, благодушно и патриотично: «Не будем терять времени, не забудем, что сегодня суббота!» – покуда тетя, беседуя с Франсуазой и думая о том, что день будет тянуться дольше обычного, говорила: «Приготовьте-ка им хороший кусок телятины, ведь сегодня суббота». Если в пол-одиннадцатого кто-нибудь по рассеянности доставал часы со словами: «Ну, до обеда еще полтора часа», – все были в восторге, что приходится ему возражать: «Да что вы, помилуйте, вы забыли, что сегодня суббота!» – и потом веселились еще добрых четверть часа и сговаривались, кому идти наверх к тете и рассказать ей об этой ошибке, чтобы ее позабавить. Даже лицо неба словно менялось[120]120
Даже лицо неба словно менялось. – Аллюзия на новозаветный текст: «Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?» (Матфей, 16: 3).
[Закрыть]. Солнце, понимая, что нынче суббота, после обеда на час дольше фланировало в поднебесье, и когда кто-нибудь, решив, что идти гулять уже поздно, говорил: «Как, еще только два часа?» – видя, как с колокольни Св. Илария слетели два колокольных удара (которые обычно не застают ни души на безлюдных по случаю обеденного времени или послеобеденного сна дорогах, вдоль быстрой светлой реки, с которой ушли даже рыболовы, и в одиночестве улетают в пустые небеса, где замешкались только несколько ленивых облачков), все хором ему отвечали: «Вас сбивает с толку то, что мы обедали на час раньше, вы же знаете, что сегодня суббота!» Изумление варвара (так мы называли всех, кто не знал, чем отличаются субботы), который, желая поговорить с моим отцом, пришел в одиннадцать и застал нас за столом, смешило Франсуазу, как мало что в жизни. Ее забавляло, как это озадаченный посетитель не знает, что по субботам мы обедаем раньше, но еще больше она веселилась (в глубине сердца полностью сочувствуя этому мелкому шовинизму), видя, как отец, не представляя себе, что варвар может быть не осведомлен, давал ему, удивленному тем, что мы все уже в столовой, одно-единственное объяснение: «Да ведь сегодня суббота!» Добравшись в своем рассказе до этого места, она утирала набегавшие от хохота слезы и, желая продлить себе удовольствие, пересказывала диалог дальше, выдумывала, что ответил гость на эту «субботу», ничего не объяснявшую. А мы мало того что не жаловались на эти добавления – нам хотелось больше, и мы говорили: «Погодите, он же сказал что-то еще. Первый раз вы рассказывали подробнее». Даже моя двоюродная бабушка отрывалась от рукоделия, поднимала голову и смотрела поверх пенсне.
А еще субботы отличались тем, что по этим дням в мае мы после ужина ходили на богородичные службы.
Иногда мы встречали там г-на Вентейля, весьма не одобрявшего «достойную сожаления неопрятность, усвоенную молодыми людьми согласно духу нашего времени», так что мама внимательно смотрела, нет ли каких огрехов в моем туалете, а затем мы отправлялись в церковь. Боярышник я полюбил, помню, как раз на богородичных службах. Он был не просто в церкви – святом месте, но куда мы хотя бы имели право входить, – а прямо в алтаре, неотделимый от таинств, в честь которых вершились с его участием торжественные богослужения, и там, среди подсвечников и священных сосудов, тянул свои веточки, изысканно между собой переплетенные и вдобавок украшенные гирляндами листьев, среди которых, как по шлейфу невесты, были рассыпаны пучки бутонов ослепительной белизны. Но, смея взглянуть на них разве только украдкой, я чувствовал, что все эти пышные изыски – живые и что сама природа, вырезая зубчики на листьях, добавляя к ним в виде последнего украшения эти белые бутоны, порадела о том, чтобы это убранство было достойно сразу и народного праздника, и мистического торжества. В вышине тут и там раскрывались с беспечным изяществом их венчики, небрежно сберегая, словно последнюю дымчатую накидку, пучок тонких, как осенние паутинки, тычинок, которые обволакивали их сплошным туманом, и, следя за ними, пытаясь мысленно воспроизвести миг их расцветания, я воображал, как быстро и ветрено встряхивает головой беленькая девушка: точечки зрачков, кокетливый взгляд, легкомыслие, стремительность. Г-н Вентейль с дочкой подходили к нам и садились рядом. Он был из хорошей семьи, когда-то учил игре на рояле бабушкиных сестер, а после смерти жены, получив наследство, перебрался в окрестности Комбре и часто бывал у нас в доме. Но из-за преувеличенной стыдливости он перестал к нам ходить, чтобы не встречаться со Сванном, который, по его словам, «женился неподобающим образом, как нынче модно». Моя мама, узнав, что он сочиняет музыку, как-то сказала ему из любезности, что хорошо бы, когда она будет у него в гостях, чтобы он сыграл ей что-нибудь свое. Г-ну Вентейлю это доставило бы огромную радость, но вежливость и доброта его доходили до обостренной щепетильности: он вечно ставил себя на место других людей и боялся им наскучить и показаться эгоистом, если сделает то, чего ему хочется, или даже просто намекнет на свое желание. Однажды родители отправились к нему с визитом и взяли меня с собой; дом г-на Вентейля, Монжувен, прилепился к поросшему кустарником холму; мне разрешили остаться на свежем воздухе, так что, спрятавшись в кустах, я очутился вровень с гостиной на втором этаже, в полуметре от окна. Я видел – когда г-ну Вентейлю доложили о родителях, он поспешно выставил ноты на рояль, на видное место. Но как только родители вошли, он убрал ноты и сунул в угол. Вероятно, он боялся, как бы они не подумали, что он хотел их увидеть только для того, чтобы сыграть им свои сочинения. Мама за время визита несколько раз напоминала ему об их уговоре, но он только повторял: «Понятия не имею, кто поставил на рояль эти ноты, им здесь не место» – и переводил разговор на другие предметы, просто потому, что эти предметы меньше его интересовали. Его единственной страстью была дочь; она была похожа на мальчика и выглядела такой крепкой и здоровой, что трудно было удержаться от улыбки, глядя, как отец окружает ее заботой и норовит набросить ей на плечи лишнюю шаль, запас которых всегда держал под рукой на всякий случай. Бабушка обратила наше внимание на то, что во взгляде этого нескладного веснушчатого подростка часто сквозило нечто кроткое, деликатное, почти робкое. Сказав что-нибудь, она сама слушала свои слова как бы ушами тех, кому она их говорила, тревожилась, вдруг не так поймут, и видно было, как на мальчишеской физиономии «своего парня» просвечивают, проступают, словно водяной знак на бумаге, тонкие черты заплаканной девушки.
Когда, уходя из церкви, я преклонил колени перед алтарем, то потом, поднимаясь, вдруг почувствовал горько-сладкий миндальный запах, исходивший от боярышника, и тут я заметил на цветах золотистые пятнышки и вообразил, что под ними-то и скрывается, наверное, этот запах: так у миндального пирожного вкус прячется под корочкой, а у щек мадмуазель Вентейль – под веснушками. Боярышник замер в неподвижном безмолвии, но этот пульсирующий запах был словно гудение его напряженной жизни, от которой алтарь трепетал, точь-в-точь деревенская изгородь, где шевелятся живые усики, о которых я вспоминал, глядя на рыжеватые тычинки, будто хранившие весеннюю злобу насекомых, сегодня уже преображенных в цветы, и их докучную власть.
Выходя из церкви, мы останавливались перед папертью поболтать с г-ном Вентейлем. Он вмешивался в возню мальчишек, задиравших друг дружку на площади, брал под защиту маленьких, читал нравоучения старшим. Его дочка говорила нам низким своим голосом, как она рада нас видеть, и казалось, что жившая внутри нее более чувствительная сестра краснеет от слов легкомысленного симпатяги, которые могут навести нас на мысль, будто она умоляет, чтобы мы ее пригласили в гости. Отец набрасывал ей на плечи плащ, они садились в открытый двухколесный экипаж, которым она сама правила, и оба возвращались в Монжувен. Ну а мы в этот день не шли прямиком домой, благо назавтра предстояло воскресенье и вставать надо было только к обедне, поэтому, если светила луна и было тепло, отец, желая поразить наше воображение, уводил нас через церковный холм на долгую прогулку, которая моей маме, плохо умевшей ориентироваться и находить дорогу, представлялась подвигом отцовского стратегического гения. Иногда мы шли до самого виадука, чьи огромные каменные шаги начинались у вокзала и воплощали для меня безнадежность изгнания из цивилизованного мира, потому что каждый год, когда мы ехали из Парижа, нам советовали, когда начнется Комбре, смотреть повнимательнее, чтобы не пропустить станции, готовиться заранее, потому что стоянка всего две минуты, а потом поезд уйдет на виадук, туда, где кончается христианский мир, последним рубежом которого был для меня Комбре. Мы возвращались по привокзальному бульвару, там были самые приятные виллы в нашем городке. В каждом саду лунный свет, как Юбер Робер, рассыпал свои беломраморные полуразрушенные ступени, фонтаны, незатворенные решетки. Лунный луч уже разрушил здание телеграфа. От всей постройки оставалась только полуразрушенная колонна, хранившая, правда, красоту нетленной руины. Я еле тащился, я засыпал на ходу, благоухание лип представлялось мне чем-то вроде награды, которая дается ценой такой усталости, что и стараться не стоит. Из-за ворот, далеко отстоявших друг от друга, время от времени принимались лаять собаки, разбуженные нашими одинокими шагами, – я и теперь вечерами иногда слышу такой же лай, – а между этими вспышками лая, вероятно, притаился и привокзальный бульвар (с тех пор как на его месте разбили комбрейский городской сад), потому что, где бы я ни был, как только собаки начнут перекликаться и вторить друг другу, я так и вижу и бульвар, и липы, и освещенный луной тротуар.
Внезапно отец останавливал нас и спрашивал у матери: «Ну-ка, где мы?» Она уже еле шла, но, гордясь мужем, ласково признавалась, что не имеет об этом ни малейшего понятия. Он пожимал плечами и смеялся. А потом показывал нам, словно достав ее из кармана своего пиджака заодно с ключом, – маленькую заднюю калитку нашего сада, неожиданно выраставшую прямо перед нами, словно она, вместе с углом улицы Святого Духа вышла нам навстречу, туда, где кончались все эти незнакомые улицы. Мать с восхищением говорила: «Какой ты умница!» И с этого момента мне уже не приходилось делать ни шагу, земля сама шла мне под ноги в этом саду, в котором так давно уже все, что я делал, не требовало сознательного внимания: Привычка принимала меня в объятия и несла в постель, как маленького.
Для тети субботний день, начинавшийся на час раньше, да притом без Франсуазы, проходил медленнее, чем любой другой, и все-таки она с самого начала недели нетерпеливо ждала, когда наступит этот день со всеми его новостями и развлечениями, какие еще были по силам ее ослабевшему и полубезумному телу. Однако нельзя сказать, что она не мечтала иногда о более значительных переменах, что не случалось ей, в виде исключения, переживать такие часы, когда жаждешь чего-то другого, чем то, что есть, и когда те, кому нехватка энергии или воображения мешает самим изобрести принцип обновления, молят у наступающей минуты или у звонящего в дверь почтальона принести им что-нибудь новенькое, пускай даже неприятность, волнение, горе; когда чувствительность, которую счастье заставило замолчать, как заброшенную арфу, хочет отозваться под чьими-нибудь, пускай грубыми, пальцами – даже если от этого она разобьется; когда воля, которая с таким трудом отвоевала себе право беспрепятственно уступать своим желаниям, своим огорчениям, хотела бы вернуть бразды правления в руки всевластных событий, пускай и жестоких. Силы моей тети иссякали от малейшего усилия, а возвращались по капельке, во время отдыха, и потому, вероятно, их запас восполнялся слишком медленно: месяцы проходили, пока она не начнет ощущать этот легкий излишек, который у других избывается в деятельности, а ей не по силам было понять и решить, как его истратить. Не сомневаюсь, что в эти моменты – подобно тому как время от времени у нее непременно возникало желание заменить пюре картошкой «бешамель» просто ради того удовольствия, которое доставит ей затем возвращение к ежедневному пюре, от которого она не «уставала», – из нагромождения этих монотонных дней, которые она так любила, рождалась у нее надежда на домашний катаклизм, мгновенный, но чреватый для нее одной из тех перемен, всю спасительность которых она сознавала, но на которые никогда бы не решилась сама. Она любила нас по-настоящему, ей было бы приятно нас оплакивать; мечта о том, что вот если бы в тот миг, когда она хорошо себя чувствует и не обливается потом, ей сообщили, что дом горит, и мы все уже погибли в огне, и скоро камня на камне не останется, но она еще успеет без особой спешки спастись, если сразу встанет, – такая мечта нередко, должно быть, одушевляла ее надежды: она долго и скорбно упивалась всей той нежностью, которую она к нам питала, и тем, как ошеломлена будет вся деревня, когда она пойдет во главе нашей траурной процессии, мужественная и придавленная горем, живой мертвец, и это второстепенное преимущество словно добавлялось к преимуществу куда более драгоценному, состоявшему в том, что она решалась вовремя, не теряя ни дня, не поддаваясь изнурительным колебаниям, переезжать на лето на ее очаровательную ферму в Миругрен, где был водопад. В одиночестве, корпя над бесконечными пасьянсами, она, несомненно, обдумывала всевозможные события такого рода, но они никогда не наступали (а если бы и наступили, то привели бы ее в отчаяние с самого начала, с самой первой мельчайшей неожиданности, с первого же слова дурной вести, интонацию которого потом уже невозможно забыть, со всего, на чем лежит отпечаток реальной смерти, настолько непохожей на логическую и абстрактную возможность смерти), и вот, время от времени, чтобы придать жизни больше интересу, она отыгрывалась на том, что вводила в нее выдуманные превратности, за которыми со страстью следила. Ей нравилось внезапно вообразить, что Франсуаза ее обворовывает, и как она сама пускается на хитрости, чтобы в этом убедиться, как ловит Франсуазу с поличным; привыкнув во время своих одиноких карточных занятий играть и за себя, и за противника, она сама себе произносила за Франсуазу сконфуженные извинения и отвечала на них с таким пылом негодования, что, войдя в этот момент, кто-нибудь из нас заставал ее в поту, со сверкающими глазами, со съехавшим париком, из-под которого проглядывал голый череп. Возможно, иногда Франсуаза слышала из соседней комнаты обращенные к ней язвительные сарказмы, изобретение которых недостаточно облегчило бы душу моей тети, если бы они остались совершенно нематериальными и если бы, проборматывая их вслух, она не придавала им больше правдоподобия. Иногда тете даже этого «спектакля в кровати»[121]121
…этого «спектакля в кровати»… – Аллюзия на «Спектакль в кресле» – название, под которым Мюссе опубликовал том стихов (1833) и два тома драматических произведений (1832 и 1834). После того как в 1830 г. провалилась первая комедия Мюссе «Венецианская ночь», он стал писать драматические произведения, рассчитывая на читателей, а не на театральные постановки, откуда и название его книги.
[Закрыть] было мало, она хотела, чтобы ее пьесы разыгрывали живые актеры. Тогда в воскресенье, при таинственно затворенных дверях, она поверяла Элали свои сомнения в честности Франсуазы, свое намерение от нее отделаться, а в другой раз – поверяла Франсуазе подозрения в неверности Элали, которую скоро на порог перестанут пускать; спустя несколько дней она охладевала к вчерашней наперснице и дружилась с предательницей, хотя, впрочем, на следующем представлении им опять предстояло поменяться ролями. Но подозрения, которые ей подчас внушала Элали, оставались минутными вспышками и быстро угасали без пищи, поскольку Элали не жила в доме. Иначе было с Франсуазой, чье присутствие тетя постоянно чувствовала под тою же крышей, причем, опасаясь простудиться, если встанет с постели, она не осмеливалась сойти в кухню и проверить обоснованность своих подозрений. Мало-помалу ее ум отвергал все другие занятия, кроме одного: пытаться отгадать, чем каждый миг занимается Франсуаза и что пытается от нее скрыть. Она подмечала самые мимолетные изменения в ее лице, противоречия в том, что та говорила, желания, которые та, казалось, хотела утаить. И тетя показывала ей, что она разоблачена; она находила одно-единственное слово, от которого Франсуаза бледнела, и вонзала это слово прямо в сердце несчастной – жестокая забава. А в другое воскресенье какое-нибудь разоблачение из уст Элали – как те открытия, что внезапно совершают прорыв в развитии молодой науки, катившей до этого по наезженной колее, – доказывало тете, что ее подозрения еще сильно преуменьшены. «Ну, Франсуаза-то небось знает, позволили вы ей взять коляску или нет». – «Я ей – взять коляску!» – восклицала тетя. «Да мне-то откуда знать, я же видела, как она едет в коляске, лопаясь от гордости, на рынок в Руссенвиль. Я и подумала, что коляску ей дала госпожа Октав». Постепенно дошло до того, что Франсуаза и моя тетя, как зверь и охотник, только и делали, что пытались обхитрить друг дружку. Моя мать опасалась, как бы у Франсуазы не выработалась настоящая ненависть к тете, которая обижала ее со всей мыслимой грубостью. Как бы то ни было, Франсуаза все больше привыкала уделять исключительное внимание мельчайшим тетиным словам и движениям. Когда ей нужно было что-нибудь у тети спросить, она долго колебалась, не зная, как к ней подступиться. А когда излагала ходатайство, то украдкой следила за тетей, пытаясь по выражению ее лица угадать, что та думает и как решит. И вот ведь что: какая-нибудь артистическая натура, кто-нибудь начитавшийся мемуаров семнадцатого века и решивший подражать великому королю, воображает, что приблизится к цели, если сочинит себе генеалогию, восходящую к славному историческому роду, и вступит в переписку с царствующими домами современной Европы, но на самом деле этот человек все дальше уходит именно от того, чего понапрасну ищет в формальном и потому безжизненном сходстве, – а эта провинциальная старая дама, все время откровенно угождая своим непреодолимым маниям и своей злости, порожденной праздностью, даже и не думая никогда о Людовике XIV, добилась того, что ее самые пустяковые дневные занятия: пробуждение, завтрак, отдых – приобретали, благодаря пронизывающему их деспотизму, частицу той самой увлекательности, которую Сен-Симон подмечал в «механике» версальской жизни[122]122
…которую Сен-Симон подмечал в «механике» версальской жизни… – На страницах своих «Мемуаров» Сен-Симон много раз упоминает о «механике» придворной жизни, понимая под ней скрытые от постороннего глаза факты и обстоятельства, необходимые для понимания происходящего, «те ничтожные мелочи, которые творят историю». Кроме того, «механика» в «Мемуарах» подразумевает упорядоченность пространства и распределение времени монарха и его окружения, отлаженные с точностью часового механизма.
[Закрыть], и, вне всякого сомнения, ее молчание, тень благорасположения или высокомерия на ее лице были со стороны Франсуазы предметом такого же страстного, такого же боязливого толкования, как молчание, благорасположение или высокомерие короля, когда придворный или даже самые высокородные вельможи подают ему прошение на повороте версальской аллеи.
Однажды в воскресенье, после того как мою тетю одновременно навестили кюре и Элали, а потом она отдохнула, мы все поднялись к ней пожелать спокойной ночи и мама посочувствовала ей, что вот, мол, вечно ей не везет и гости приходят все сразу.
– Я знаю, Леони, что все опять устроилось не наилучшим образом, – мягко сказала она, – и все ваши посетители сошлись вместе.
На что двоюродная бабушка тут же возразила: «Невелика беда, лучше перебрать, чем недобрать!» – потому что, с тех пор как дочь хворала, она думала, будто ее долг – подбадривать больную, представляя ей все с наилучшей стороны. Но тут в разговор вступил мой отец.
– Я хочу воспользоваться тем, что вся семья в сборе, – сказал он, – и кое-что вам рассказать, чтобы не повторять потом каждому по отдельности. Боюсь, что мы поссорились с Легранденом: сегодня утром он едва со мной поздоровался.
Я не остался слушать рассказ отца, потому что г-на Леграндена мы с ним встретили вместе после обедни, и пошел на кухню спросить, что будет на обед, – это было моим ежедневным развлечением, вроде газетных новостей, и возбуждало меня, как программа праздника. Утром, когда г-н Легранден проследовал мимо нас, сопровождая владелицу соседнего замка, которую мы знали только в лицо, отец на ходу поклонился ему – любезно и вместе с тем сдержанно; г-н Легранден едва ответил и как-то удивился, словно не узнал нас, и посмотрел при этом, как смотрят люди, которые не хотят быть любезными и окидывают вас неожиданно долгим и глубоким взглядом с таким видом, словно заметили вас в конце бесконечной дороги и на таком дальнем расстоянии, что ограничились чуть заметным кивком, соответствующим вашему марионеточному размеру.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































