Читать книгу "Кольцо из фольги"
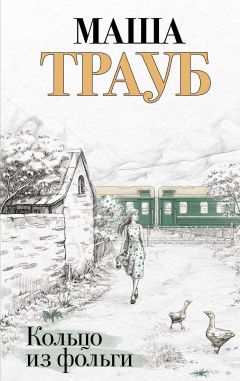
Автор книги: Маша Трауб
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но нет. Именно размер веников в памяти остался очень четко. Как-то я отправилась в отпуск с приятельницей – мы приехали в гости к нашей общей подруге, живущей в одном из южных городков. И там, на улице, я купила для дочки крошечный веничек. Знала, что она будет в восторге. Дочь засыпала с маленькой щеткой и совочком, любила возиться на кукольной кухне, устраивать куклам чаепития – кукольный набор был сделан из настоящего фарфора. Я показала веничек приятельнице, на что она недоуменно спросила: «Ты что, для кладбища его купила?» Тогда я даже не поняла, почему она связала этот веник с кладбищем. В нашем селе на кладбище никто не ходил с вениками. Скорее, с цветочной рассадой – посадить цветы. На могилах не было искусственных цветов или срезанных. Только живые. Как в палисаднике. Сажали и на «своей» могиле, и на чужих, которые по соседству. Убирали так же – не только свой участок, но и те, что рядом. Общую тропинку обязательно. Так было принято и в частных домах: убираешь двор – убери свой кусок улицы. Если видишь грязь по соседству, то и там нужно убрать. А как иначе? Улица-то одна.
Дочь была счастлива, когда я выдала ей маленький, совсем крошечный веничек. Она подметала свою комнату. Ее совершенно не завораживал пылесос, а веник произвел впечатление. Я же все еще не могла отделаться от мысли – почему приятельница решила, что тот веник предназначен для уборки на кладбище? Глупость, конечно же, но у меня остался осадок.
Не помню, чтобы дед когда-нибудь разговаривал с моей мамой. Она приезжала и вела себя так, будто хозяйкой в доме была бабушка, общалась только с ней. Да и остальные жители села – соседи, гости – стучались в ворота и кричали: «Мария!» Хотя положено было звать хозяина дома, а тот уже отправлял кого-нибудь из сыновей узнать, что нужно, кто пришел. Женщины к воротам на зов не выходили. Никогда и никто. Кроме моей бабушки, естественно.
Мне бы очень хотелось узнать, почему она вышла замуж. Почему ее избранник на ней женился? Что их вообще связывало? Бабушка умерла до того, как я повзрослела и смогла бы задать эти вопросы. Мама же до сих пор молчит. Сколько я ни спрашивала, не отвечает.
– Почему ты мне ничего не рассказываешь? – как-то возмутилась я.
– Потому что ты заставляешь меня вспоминать. А я этого не хочу, – ответила она.
– Опиши, что помнишь ты. Я же не прошу рассказывать сказку, – много раз просила я.
– Я рада, что бабушка подарила тебе другие воспоминания. Пусть они и останутся. Я помню совсем другое.
Да, мама это твердила мне с самого детства. Я, возвращаясь от бабушки в Москву, с восторгом рассказывала про черешню, тутовник, соседей, пироги, игры. Все, что было связано с селом, вызывало у меня восторг. Наверное, я приукрашивала действительность. Но в моих воспоминаниях помидоры с солью действительно были невероятно вкусными, пироги на столе стояли каждый день, соседи меня любили как родную дочь. Мои подружки были красивыми, добрыми и нежными. А в деревне, если меня послушать, что ни день, случался праздник, на котором детей закармливали конфетами и сладостями. Давали деньги на кино и мороженое и разрешали прогуливать школу.
Да, на праздниках действительно детям бросали деньги, которых хватало на кино и на мороженое, только праздники случались далеко не каждый день. Школу прогуливать разрешали, но под уважительным предлогом: сидела с младшими сестрами и братьями, собирала черешню, а потом стояла на базаре – продавала урожай. Или ходила собирать травы – ромашку, чабрец. И, конечно, мыла обувь.
Мое первое воспоминание – халва. Сладкая и липкая. Серого цвета, с ядреным вкусом семечек. А еще сами семечки в скрученном из газеты кульке. Все пакеты в селе назывались кульками. В Москве продукты заворачивались в бумагу, которая складывалась в форме кирпича. А в селе – в конусообразный кулек. Конфеты, семечки, печенье… Продавщицы за секунду умели скрутить из бумаги конус нужного размера и ссыпать все, что нужно. Снизу подкрутить, сверху загнуть края. Я тоже быстро научилась крутить кульки. Та халва была самой вкусной, самой сладкой из того, что я пробовала. Мое детство – вкус халвы и липкие пальцы.
– Хорошо, что ты помнишь? – спросила я маму.
– Кукурузу. Везде росла только кукуруза. Все поля были ею засажены. Ничего, кроме кукурузы. Початки, не собранные вовремя или не вызревшие из-за непогоды, подгнивали. Нас выгоняли на поле – собирать урожай. Вместо школы, других занятий. За работу нам выдавали кукурузную муку. Я ее видеть не могла. Обычная, пшеничная, тоже была, но из нее готовили по важным поводам. А на каждый день эта. Варили каши, соусы, лепили лепешки. Не было никаких деревьев. Только эта проклятая кукуруза. Маленькие девочки из нее кукол делали, отгибая листья. Мы ее ели с голодухи, поджаривая на костре. Поперек горла стояла.
– Но это же так вкусно! Кукурузные лепешки, шир, дзыкка! – чуть ли не кричала я.
Шир – это сладкая кукурузная каша, которую готовили для детей. А дзыкка – лакомство, кулинарный шедевр. В этом случае в кашу, больше похожую на соус, добавляли осетинский сыр. Вкус – умереть не встать. Лепешки – вариант грузинского мчади. Если сварить фасоль, то лучше, чем мчади, к ней ничего придумать невозможно.
Я сейчас пеку мчади, когда приходят гости, делаю лобио. Детей я все детство кормила именно кукурузной сладкой кашей. Когда мы с мамой ездили на юг, на море, я всегда просила купить мне вареную кукурузу, которую разносили по пляжу. Сверху посыпанную крупной серой солью. Кажется, я могла съесть сразу три как минимум. Мама покупала и отходила в сторону – покурить. Только недавно она призналась, что не выносит даже запаха вареной кукурузы. Смотреть на нее не может. В ее памяти кукуруза ассоциировалась лишь с голодом и тяжелым трудом. А в моей – початок, мука, из которой были приготовлены блюда, остались чуть ли не самым вкусным, что я ела в своей жизни.
– А тутовник? Поля орешника? Заросли гороха? – вспоминала я. – Черешневые и вишневые деревья в каждом огороде? Старая липа на улице? Соседская яблоня? Персиковое дерево! Неужели ты не помнишь?
– Нет, ничего этого не было, – твердила, как заевшая пластинка, мама.
Я же помнила, как собирала цветки липы, которые потом превращались в отвар или добавлялись в чай. Персиковое дерево, росшее так, что часть веток оказывалась на нашем огороде, а часть – на соседском. Но даже плоды располагались настолько равномерно, что хватало всем. Да и в голову никому не приходило делить дерево или считать персики. Сколько досталось нам, а сколько соседям. Наоборот, соседи утверждали, что на нашей стороне персики вызревают сочнее и вкуснее. Бабушка хохотала, приговаривая: «У соседа всегда трава зеленее, а каша вкуснее», и приносила наши персики соседям, а те выдавали свои. Вкус был одинаковый. Но этот ритуал повторялся из года в год. И соседи настаивали – на нашей стороне вкуснее. Дети съедали персики, не разбираясь, с чьей ветки они были сорваны.
В ореховой роще можно было наесться молодыми грецкими орехами, пока тошнить не начнет. Тутовник с хлебом – идеальные завтрак, обед и ужин. Сырое яйцо, еще теплое, только из-под курицы. В каждом дворе любому ребенку чуть ли не насильно выдавали кусок пирога, конфеты, варенье, домашнее печенье, сладкий лаваш. Не могли выпустить из дома, не накормив перед этим на убой. Нет, я в селе никогда не голодала. Наоборот – превращалась в милую круглолицую девчушку с очаровательными ямочками на пухлых щеках. В Москве же снова становилась ходячим скелетом с высокими скулами и впалыми щеками. Есть хотелось все время, нестерпимо. Но… мне было невкусно. Нет, я не капризничала, ела, что было, что давали. Но все казалось картонным, ненастоящим. Курица не пахла курицей, а колбасу я вообще не понимала – в селе колбасы не было, никакой. Мама отправляла бабушке в посылках «палки», как их тогда называли, салями. Но бабушка использовала их для подарков. Сама никогда не ела. Когда мама с бабушкой ругались по поводу взяток – мама не скрывала, что использует связи и взятки, чтобы достать билет на самолет или поезд, дефицитную еду или одежду, – бабушка кричала, что так делать нельзя. И называла маму взяточницей.
– А колбаса, которую я тебе отправляю? Банки икры, паштетов, конфеты, которые ты не ешь, а раздаешь? Разве это не взяточничество? – возмущалась в ответ мама.
– Это другое! – отмахивалась бабушка. – Я не для себя взятки даю, для других!
Мама отправляла меня в булочную за хлебом, я возвращалась с пустыми руками. Хлеб был холодный, не горячий, даже не теплый. Значит, уже несвежий. Мама доставала для меня конфеты, финские, с яркими фантиками. Я аккуратно разворачивала их и конфеты оставляла на тарелке. Меня интересовали лишь фантики. Они были настоящей ценностью, которую можно было обменять на что угодно. Конфеты я не ела. Сладкий лаваш из абрикосов и сливы мне казался в сто раз вкуснее. Мама злилась, звонила бабушке и кричала, что больше не отправит меня к ней. Она всеми силами пыталась вывезти меня из деревни, но потерпела полное фиаско. Деревня до сих пор остается во мне.
– Ты себе это придумала, – говорит сейчас мама. – Ты была маленькой и многого не замечала. Бабушка точно так же доставала сливочное масло, я отправляла ей огромные посылки, в которых были и мука, и шоколад, и банальная гречка. Ты не представляешь, как я пыталась приучить тебя к нормальной еде! А для тебя главное лакомство – кусок хлеба, намазанный маслом и посыпанный сверху сахаром. Я чай достану, заварю, а ты пьешь кипяток.
До сих пор, кстати, я пью пустой кипяток. Мне вкусно. Без лимона, сахара и меда. Почему? В нашем селе не было пасечников, и мед в детстве я не ела, а лимоны не росли, хотя вполне могли прижиться.
Незабываемый, неповторимый вкус? Кипяток с мушмулой. Бабушке привозили ее в ноябре из Адыгеи, где у нее были друзья, которым она однажды помогла. С тех пор каждый год она получала посылку. Бабушка называла мушмулу «вареньем на палочке». Съесть мушмулу и запить кипятком – это то самое счастье, мало с чем сравнимое. То, которое остается на вкусовых рецепторах на всю жизнь. Сладость мушмулы и горячая вода – сразу становится тепло и хорошо. Никакая конфета не сравнится с этим вкусом. Я так и осталась равнодушна к сладостям во всех видах. На всю жизнь. Конфет или тортов со вкусом мушмулы я не встречала.
Прекрасно помню Военно-Грузинскую дорогу. В этом воспоминании мы с мамой совпали впервые. И в ее, и в моей жизни, то есть в нескольких поколениях, эта дорога занимала значимое место. Там устраивались встречи важных делегаций. Детей в национальных костюмах привозили для торжественного приема – мы или танцевали, или пели. Гостей встречали или ансамбль национального танца, или местный хор, исполнявший песни на осетинском языке. Многие девочки, как и я, состояли сразу в двух коллективах, что было удобно. Иногда мы сначала пели, вручали цветы и пироги, а спустя несколько часов – танцевали. Или наоборот – сначала встреча делегации танцами, а после уже хором. Нас трепали за щеки важные гости. Детям устраивали отдельный стол – с «Буратино» или «Ситро», тортом с кремовыми розочками. Можно было есть сколько влезет. Но нам было нельзя. Если напьешься газировки – не сможешь петь, если съешь торт – не сможешь танцевать. Так что в те дни мы голодали. Но можно было взять бутылку «Буратино» домой и обменять ее на билет в кино или на два кулька семечек. Или на одного петушка на палочке.
Мама тоже ездила встречать гостей на Военно-Грузинской дороге. Она в детстве танцевала в национальном ансамбле.
– Там, в этом месте, будто ничего нет и никогда не будет. Ни растений, ни деревьев, голая земля, – рассказывала она мне. – На окраине стоит хижина из самана. Ты ведь знаешь, что такое саман? Глина, смешанная с водой. Хижина низкая, грязная. Перед ней – скамейка, на которой сидят мужчины. Из хижины вьется густой дым – там варится арака. На продажу. Нельзя подойти и попросить воды. Женщин нет, а просить у мужчин – неприлично, позора не оберешься. Ни одного туалета. Умыться? Тоже нет. Автобус останавливается. Мы выходим и видим, что буквально через сто метров от этого домика стоит огромный дом на сваях. Перед ним сад и огород. Цветы, большие деревья создают тень. Из шлангов льется вода. Женщина машет нам рукой: мол, заходите, мы вам рады. Запахи доносятся такие, что варящуюся араку перебивают. А это почти невозможно вынести. Хочется туда, в этот оазис. Дорога тяжелая, выезжали рано утром, не успев ни поесть, ни попить. Кажется, что сейчас упадешь в обморок. Хорошо, если тучи, а если солнечный день – совсем плохо. Мы переодеваемся в автобусе в костюмы. Они тяжеленные. Пот льется градом. Мы все голодные, измотанные. Всех тошнит. Кого – от серпантина, кого – от голода. Дзера, Дзерасса, наша солистка, совсем бледная. Но пить и есть нельзя. Дзера танцует так, что вот-вот грохнется в обморок. Делегация хлопает в ладоши. Дзера считается восходящей звездой. Тонкая, бледная, ходит, будто над землей плывет. После выступления женщина из того дома опять машет нам рукой. Мол, заходите. Но нам туда нельзя – чужая территория. Там начинается Грузия. Женщина эта потом выносила нам тайно воду, еду – хачапури, лобио. Все было настолько вкусно, что мы забывали о запретах. Сколько раз она откачивала Дзеру, отпаивая ее кофе или сладким крепким чаем? Сколько раз спасала нас от обезвоживания и голодного обморока? Женщина передавала графин с домашним вином для нашей руководительницы. Мне однажды стало плохо, я упала в обморок. Мы часа четыре стояли в костюмах на дороге, на самом солнцепеке – гостей важных ждали, а те никак не ехали. Вот я и грохнулась. Очнулась в тени дерева. Подумала, что попала в рай. Женщина меня и напоила, и накормила. Кофе сварила такой вкусный, какой я никогда не пила. Кто-то из начальников-мужчин с нашей стороны прибежал, кричал, что не положено, мол, пусть в автобусе сидит, если встречать не может. А та женщина так на него посмотрела, что он сразу замолчал. Пока я в себя не пришла, она меня не отпустила. Вот это я запомнила на всю жизнь. Здесь – саманная хижина без воды и уличного туалета. Ничего нельзя. Дышать нельзя, подходить нельзя. А через сто метров уже все можно. Там тебе рады. Другой свет, краски, эмоции. И удобства – вода, туалет. Там тебя всегда накормят. И защитят. Любого мужчину на место поставят одним взглядом. Та женщина ничего не боялась. А наши – боялись своей тени. Я не хочу вспоминать страх, который вдалбливался в женщин с самого рождения. Страх не выйти замуж, опозорить семью, не угодить мужу, не родить сына-первенца, не поладить со свекровью, не родить еще детей. Каждый день – новый страх. Каждый день как испытание и преодоление. Ты хочешь, чтобы я это вспоминала?
Что я могла ответить маме? Страхи по-разному влияют на людей. Маму он заставил бежать, выходить замуж столько раз, сколько захочется, жить той жизнью, какую выбираешь. Я же из-за этих же страхов вышла замуж один раз и, надеюсь, на всю жизнь. Я кормлю, убираю, отмываю. «Дую в попу» детям, как говорит моя подруга-грузинка. Кстати, это именно грузинское выражение. Как это объяснить? Пока обычная мать будет ждать, когда на ребенке просохнут трусы после купания в море, грузинская будет стоять на берегу с полотенцем, и у нее в запасе окажется еще трое трусов. Как минимум. Ребенок плохо пообедал? Обычая мать решит, что ничего страшного, проголодается – поест. Грузинская будет заламывать руки и причитать, будто случилась вселенская трагедия. И все соседи будут знать, что ребенок совсем не ест. И прямо на глазах похудел на десять килограммов. И как матери такое выдержать? Сердце сейчас остановится! Что тебе, дорогой, приготовить? Все что хочешь сделаю! Только поешь, чтобы я уже была спокойна.
Если у ребенка появились сопли, обычная мать закапает в нос. Грузинская созовет консилиум из врачей и добавит народные средства. И даже если кто-то посоветует использовать для лечения ребенка толченый зуб анаконды, грузинская мать поймает эту самую анаконду, где бы та ни находилась, лично вырвет у нее зуб, а заодно и жало – так, на всякий случай, вдруг пригодится, – и растолчет в порошок.
Та же моя подруга-грузинка рассказывала, что как-то в детстве заболела воспалением среднего уха. И ее маме посоветовали лечить ухо авиационным керосином. Именно авиационным, никаким другим. И мать моей подруги готова была остановить самолет прямо на взлетной полосе и слить керосин. К счастью, подключились родственники и через знакомых достали этот самый керосин. Просили лишь не спрашивать зачем. Вопрос жизни и смерти. Чьей? Жизни ребенка и смерти всех родственников, если они не помогут.
Кто-то усомнился в том, что сын – не абсолютный гений, талантливейший из талантливых, а дочь – не красивейшая из красивейших девочек, которые когда-либо появлялись на свет? Тут сразу туши свет. Грузинская мать будет мстить беспощадно в нескольких поколениях. Нашлет все известные проклятия на голову того, кто так посмел сказать про ее ребенка. Впрочем, надо признать, так ведут себя не только грузинские матери, а матери любой национальности. Но только если они, как это называется на современном языке, тревожные или заполошные, что считается плохим диагнозом. В моем детстве все было наоборот – моя совершенно не тревожная и не заполошная мать считалась горем для ребенка.
Мама сбегала от традиций, принятых норм поведения. Я их культивирую. Пела своей дочери песни на осетинском, которые когда-то исполняла в хоре. Рассказывала сыну про буквы осетинского алфавита, которые удивительным образом похожи на кириллицу, но не имеют с ней ничего общего. Когда А, слитая с Е, имеет другое написание и отображает другой звук. В детстве я умела читать на осетинском, сейчас нет. Навык ушел. Лет до пяти я вообще лучше и чаще говорила на осетинском, чем на русском, и доводила этим до белого каления свою мать. Она говорила по-русски, я отвечала по-осетински. Прекрасно понимала язык. Сейчас на слух могу отличить осетинский от всех других кавказских языков, но понимаю лишь самые простые слова.
* * *
После смерти бабушки ее муж, став вдовцом, женился снова. И месяца после похорон не прошло. Новая жена вынесла все бабушкины вещи на свалку и сожгла. Чтобы даже духу ее не осталось. Не со зла, нет. За ненадобностью. Ни его, ни ее никто не осудил. Мужчине, понятно, в доме нужна женщина для хозяйства. А ей – надо строить свой дом, под себя. Зачем ей перед глазами напоминания о бывшей жене? И так хватает с избытком. О смерти бабушки хоть и написали в газете, но нет-нет, а в дом приезжали люди из дальних сел, которые не знали, что бабушка скончалась, и кричали, стоя у ворот: «Мария!» Какая женщина выдержит такое? Была бы умной, поняла. Но новая жена деда оказалась не очень умной женщиной. Соседи потом звонили маме и рассказывали, что новая жена выкорчевала весь палисадник. Все любимые бабушкины цветы уничтожила с корнем. Есть поговорка – «чтобы и духу не осталось». Мне кажется, это как раз тот случай. Дух в значении запаха, аромата. Чтобы даже запах не напоминал о прошлой хозяйке дома.
А тогда… Я была счастлива в том доме. Со двора можно было выбраться несколькими способами – через калитку в воротах, которая запиралась на здоровенный замок и с усилиями, поэтому практически никогда не закрывалась, через рабочий сарай, в котором отодвигались деревяшки и образовывался выход, и через дырку в сетке-заборе на огороде, которая вела на железную дорогу. В сарае тогда было принято запирать детей за плохое поведение. Если я чувствовала, что бабушка сердита, сама отправлялась в сарай, хотя она никогда в жизни меня не наказывала сидением в сарае. Ей даже в голову такое не могло прийти. Она считала, что лучшее наказание – труд, причем непременно общественно полезный. Могла отправить меня натаскать воды из колонки для пожилой соседки, велеть прополоть палисадник перед зданием редакции или отправить стричь баранов. Бабушка считала, что время – бесценно и каждая минута должна быть занята делом и проведена с пользой для общества. Так что в сарай я отправлялась по собственной инициативе, объявив бабушке, что пошла думать о своем плохом поведении. Естественно, тут же выбиралась оттуда и убегала играть с подружками. Бабушка об этом, конечно же, прекрасно знала. И даже радовалась, что я не сижу в сарае.
От повинностей на огороде – прополоть грядки, собрать колорадских жуков с картошки, полить – я сбегала через сетку, а от обязательного подметания двора уходила через калитку, подпирая дверь с обратной стороны веником. Закрыть по-другому не получалось. Калитка была старая и не поддавалась, хоть всем телом на нее дави снаружи. Нужно было непременно изнутри. Бабушка хохотала и уже сама сбегала в редакцию или через сетку в заборе, или через доски, держащиеся на одном гвозде в стене сарая, или точно так же, подпирая веником калитку. Почему она не могла просто выйти из дома и пойти на работу? Не знаю. Я спрашивала много раз. Бабушка отшучивалась, мама молчала.
Вернувшись от бабушки к маме в Москву, я каждый вечер мысленно проделывала путь по сельской дороге. Чтобы не забыть. Вернуться, будто никуда не уезжала. Выбежать из ворот и свернуть налево. Дорога пыльная. Во дворах, чтобы «прибить пыль», ее поливали из шланга, зажав большим пальцем струю, создавая брызги. Забежать к соседям, позвать гулять лучшую подружку Фатимку. У них всегда весело и шумно. Фатимка носится по двору, выполняя поручения матери – снять высохшее белье, развесить только что постиранное, присмотреть за младшими сестрой и братом, перемыть посуду после завтрака, оттереть до скрипящего блеска сковородки.
Моющих средств тогда, конечно же, не было. Чем мыли посуду? Я говорила, что самое страшное – это стирка пуха? Беру свои слова назад. Самое страшное хозяйственное дело – перемыть посуду после празднования. Этим занимались именно младшие девочки, то есть мы. Гарь со сковородок и кастрюль оттиралась золой и песком. Тарелки мылись содой или горчичным порошком. А вот детскую посуду мыли исключительно крапивой. Не дай бог поставить тарелки с детского стола в общую стопку – детям всегда готовили и накрывали отдельно. Для мытья посуды брали старую крапиву, жесткую, колючую. Считалось, что она убивает все микробы и дает защиту – если мыть детскую посуду крапивой, ребенок не будет страдать животиком, у него не случится поноса или запора. После оттирания крапивой, полоскания в тазах с чистой водой детскую посуду обязательно ошпаривали отваром картофеля, благо картошку варили чуть ли не каждый день и отвар никогда не выливали. Его доводили до кипения и ошпаривали детские чашки, ложки, тарелки. Этот отвар, как считалось, защищал от болезней горла и насморка. А вот хозяйственным мылом посуду не мыли никогда, хотя многие думают, что в селах именно так и делали. Нет, ни при каких обстоятельствах, из-за запаха, который остается на тарелке, сколько ее потом ни перемывай, и еда, положенная на эту тарелку, не будет вкусной.
Сейчас повара натирают тарелку чесноком, чтобы придать еде его запах и вкус, но не добавляют в блюдо. Хозяйственное мыло, которым была вымыта тарелка, тоже отдавало свой запах.
Пока перемоешь всю посуду, с ума сойдешь. На сковородах не должно остаться ни малейшего следа. Они должны были сверкать так, чтобы в них можно было смотреться, как в зеркало. Единственное исключение – чугунные сковороды, которые передавались из поколения в поколение по женской линии. Так передаются драгоценности – фамильное кольцо, серьги. Сковороды, пожалуй, ценились даже больше. К мытью чугунных сковородок допускались только взрослые девушки. Мы, девочки, могли и содой их оттереть, что делать категорически запрещалось. Я видела, как мыла сковороды Фатимкина мама. Ей они достались еще от мамы свекрови и уже поэтому представляли немыслимую ценность. Когда тетя Лаура, наша соседка, потеряла фамильное кольцо, она не так убивалась и горевала, как мама моей подруги, обнаружившая на фамильной сковороде трещину.
В еще теплую, но лишь слегка, чугунную сковороду засыпалась крупная соль – не мелкая, именно крупная – и оставлялась на некоторое время. После сковороду чистили или чистым кухонным полотенцем – ни в коем случае не новым, а старым, мягким. После проходились половинкой разрезанного клубня картофеля. И уже в самом конце, когда сковорода становилась сухой, на нее аккуратно, ровным слоем наносился слой подсолнечного масла.
Это был целый ритуал, который по-настоящему завораживал. К чугунным сковородам относились с такой же заботой, как к младенцам. Их осматривали – не дай бог появились скол или трещина. Мытье не предполагало спешки. Нужно было аккуратно промыть ручку, дно, не забыть про стенки. Чистить и протирать – по часовой стрелке, никак иначе. С чем связан этот ритуал, я так и не узнала. Возможно, с помешиванием каши – только по часовой стрелке. Для чистки выделялись самое мягкое полотенце и лучший картофельный клубень. Протирать аккуратно, медленно. И после промазать маслом, как ребенка кремом после ванночки. Не забыть ни одну складочку. Нежно, бережно, со всей любовью. Неудивительно, что еда, приготовленная именно на этих сковородах, была невероятно вкусной. Там даже в ручке хранилась память предков, их рук, их любви, заботы, защиты.
Если к мытью кухонной утвари относились с маниакальным трепетом, то к мытью грязных детей – спокойно. Все то же главное правило вечера: «Помой ноги». Мы прибегали все в пыли, грязи, в волосах застревали репейник, ветки, насекомые. Лица и руки были измазаны ягодами – от черешни до тутовника. Но главное – помыть ноги. Остальное вообще не важно. Не помоешь ноги – будешь завтра стирать грязную простыню. Для мытья во дворе стояло специальное ведро, внутри которого лежал ковшик. Вода, еще днем почти горячая, к вечеру становилась теплой. И, казалось бы, нет ничего приятнее, чем полить на ноги теплой водой, смывая дневную грязь и пыль. Но так не хотелось! Побыстрее бы оказаться в кровати под периной. Рухнуть и тут же уснуть беспробудным сном без сновидений. В деревне мне никогда сны не снились. В Москве же я часто просыпалась от кошмаров – ярких, цветных, с сюжетом.
Еще миллион дел по хозяйству. Я помогаю Фатимке справиться с поручениями, и мы наконец убегаем. Пулей мчимся мимо следующего дома. Там живет семья Ф., одинокие муж с женой. Они редко выходят за ворота. Продукты им приносит тетя Зара, их дальняя родственница. Говорят, что она им невестка, жена покойного сына. Но тетя Зара уже «взрослая», как говорят про пожилых женщин. Седые волосы выбиваются из-под вдовьего черного платка. А невестки ведь обычно молодые. Тетя Зара хорошая, добрая, но пугливая. От любого громкого звука вздрагивает. И плачет часто, вытирая слезы концом платка. Черный платок носят год, держа траур, потом меняют на обычный. Тетя Зара же всегда в черном платке, не снимает, никто не может вспомнить, сколько лет она его носит. Никто из старших про тетю Зару не рассказывает, лишь отмахиваются: «Не дай бог тебе такую судьбу». Маленькие дети, имеющие право забежать в любой двор, стремглав пробегают мимо этих ворот. На колядки, которые всегда в селе проходили весело и шумно, тетя Зара выносила на улицу сладости. Иногда появлялась и хозяйка дома. Они стояли рядом, смотрели, как в соседние дворы забегают визжащие дети… Но вокруг их дома сам собой возникал какой-то вакуум, запретная зона. Будто дом с привидениями, где жили духи умерших детей, внуков, которые так и не появились на свет. Об этом как-то обмолвилась моя бабушка. Тетя Зара не могла родить ребенка, несмотря на усилия врачей. Потеряла пятерых на разных сроках беременности или почти сразу после рождения. Бабушка сказала, что из-за этого тетя Зара выглядит как пожилая, а на самом деле ей всего тридцать пять лет. Ее могли выдать замуж, когда она овдовела, даже сватались, но она решила, что больше не хочет ни семьи, ни детей. Заботилась о свекрови и свекре и лишь в этом находила смысл жизни.
– А отчего умер сын Ф.? – спросила я.
– Несчастный случай, – ответила бабушка. – Иногда так бывает… что никто не виноват…
– Это когда кирпич на голову вдруг упадет?
Так говорила мама. Она считала, что если верить в несчастные случаи, в тот самый пресловутый кирпич, который в любой момент может упасть на голову, то лучше вообще не жить.
Мама всегда находила разумное и логичное оправдание несчастным случаям, произошедшим в селе, о которых я ей рассказывала.
– Дядю Артура сбил поезд на железнодорожном переезде, – говорила я.
– Да, потому что дядя Артур на мотоцикле проехал за опущенный шлагбаум, решив, что успеет проскочить. Мотоцикл заглох, дядя Артур пытался его завести, не желая бросать на путях, поэтому его сбил поезд. Бросил бы мотоцикл, был бы жив, – пожимала плечами мама.
– Дядя Зорик умер от удара электричеством.
– А зачем он полез на столб чинить оборванные провода? Голыми руками! Решил, будто он птичка? Хоть бы физику в школе учил.
– Дядя Жорик утонул в реке.
– Так нечего было пьяным на спор пытаться переплыть на другой берег.
А вот смерть мужа тети Зары мама не объясняла.
– Не помню подробностей, – неизменно отвечала она.
Но, становясь взрослее, мы, дети, конечно, жадно ловили слухи и домыслы, ходившие по селу. Возможно, трагическая история обросла новыми деталями, уже додуманными. Но кому надо искать правду?
На Валерика – так звали покойного мужа тети Зары – упало дерево. В тот день был сильный ветер, чуть ли не ураганный. Дерево было старым и крепким, само оно на самом деле не упало, обломилась лишь одна ветвь. Острый сук пробил голову Валерика. Он умер сразу же.
В селе ходили слухи, что это расплата за грехи, совершенные его отцом. Какие именно – история умалчивает. Сам Валерик, как потом припоминали старожилы, с раннего детства находился на грани жизни и смерти. Он тяжело болел – врачи не могли поставить верный диагноз, лечили не от того и не так. Несколько раз чуть не утонул в реке, падал с дерева, получая сотрясение мозга. И вот наконец долг был уплачен. Сначала страданиями Зары, которая теряла детей в утробе и при рождении. Потом судьба забрала жизнь Валерика. Означало ли это, что Зара могла начать новую жизнь? Возможно. Наверное, если отмести слухи и руководствоваться медицинскими анализами, муж с женой не совпадали генами или резусами. А с другим мужчиной Зара вполне могла родить здорового ребенка. Но она сделала свой выбор. Судьба лишь предлагает варианты, дороги, сюжеты, но только от человека зависит, какой дорогой он последует, что примет, а что отвергнет.









































