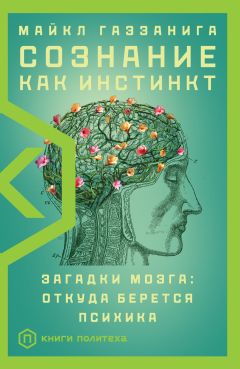
Автор книги: Майкл Газзанига
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 3
XX век: рывок вперед и готовность к современному мышлению
Тем не менее есть люди – и я один из них, – которые считают, что даже с практической точки зрения самым важным для человека является его видение Вселенной… Мы полагаем, что вопрос не в том, как теория мироздания влияет на деяния людей, а в том, влияет ли на них в целом что-нибудь еще.
В начале двадцатого столетия в философии психики и мозга все еще враждовали два лагеря – рационалистов и эмпириков. Впрочем, как мы скоро увидим, в конце того же века дела обстояли не намного лучше. Можно подумать, будто в человеческом мозгу умещается ограниченный набор идей и та или иная из них начинает звучать громче в зависимости от популярных на данный момент научных данных и модных настроений. Но вернемся в начало века. Пришло время бесцеремонно вмешаться в разговор самонадеянным американцам, и первым из них обратил пристальное внимание на проблему сознания Уильям Джеймс. Свой цикл лекций в Гарварде, в 1907 году, он начал с приведенной выше цитаты из Г. К. Честертона, в которой очень точно схвачена суть великого вопроса философии: может ли состояние психики – нематериальные убеждения, идеи – влиять на материю, то есть на состояние мозга?
Джеймс был согласен с Честертоном, считавшим этот вопрос очень важным. Темой его лекций был новый философский метод – прагматизм, детище Чарльза Пирса, друга Джеймса, родившееся в их спорах с другими философами и юристами, членами основанного ими в Кембридже (Массачусетс) в 1870-х годах недолго прожившего, но влиятельного интеллектуального Метафизического клуба. Прагматизм ни у кого не вызывал большого интереса, пока Джеймс спустя двадцать лет не стал его развивать и пропагандировать. В своей первой лекции Джеймс обратил внимание аудитории на неочевидный факт – влияние темперамента философов на их научные воззрения:
История философии является в значительной мере историей определенного столкновения человеческих темпераментов… Какого бы темперамента ни был профессиональный философ, он старается заглушить его. Общепринято, что темперамент не есть аргумент; поэтому философ для своих выводов ищет лишь безличных доводов. В действительности же темперамент влияет на ход мыслей философа несравненно сильнее, чем любая из его безукоризненно объективных предпосылок. От темперамента зависит убедительность тех или иных аргументов философа, темперамент влияет, подобно фактам или принципам, побуждая выбирать более мягкую или более строгую точку зрения на мир. Философ доверяет своему темпераменту. Философ ищет мира, который подходил бы к его темпераменту, и поэтому верит в любую картину мира, которая к нему подходит[1].
В этом и заключалась великая роль дерзких американских мыслителей. Американских философов Джеймс делит на две группы по их темпераменту – «мягких бостонцев» и «жестких обитателей Криппл-Крика в Скалистых горах». Подобное деление по темпераменту он видит не только в философии, но и в литературе, искусстве, государственном управлении и манере поведения. Те и другие, конечно же, не слишком высокого мнения о своих антиподах: «Их взаимные отношения похожи на те, которые наблюдаются, когда туристы из Бостона приходят в столкновение с людьми, подобными обитателям Криппл-Крика. Каждый тип считает другой ниже себя. Только в одном случае презрение смешано с удовольствием, а в другом к нему примешивается чувство страха». Далее он дает примерные характеристики обеим группам: мягкие, осторожные бостонцы – рационалисты (придерживаются объективных и устоявшихся правил), интеллектуалисты, идеалисты (то есть верят, что все происходит от разума), оптимисты, монисты (их рационализм исходит из единого целого и общего, единству всего придается большое значение), догматики, и они верят в Бога и свободу воли. Декарт в глубине души был мягким и осторожным человеком!
Суровый народ Скалистых гор – их полная противоположность; эти люди – эмпирики (уважают факты, даже самые жестокие), сенсуалисты, материалисты (все вокруг – материя, идеализму – нет), пессимисты, неверующие, фаталисты, плюралисты (имеется в виду, что эмпирики начинают с частных деталей и создают из набора деталей целое) и скептики (стало быть, не против дискуссий). Перед вами Юм, непреклонный характер!
Но Джеймс понимал, что большинство из нас не вписывается четко ни в одну из этих крайностей:
Большинство из нас желает извлечь хорошее из тех и из других. Конечно, факты вещь отличная – давайте нам кучи фактов. Принципы тоже хорошо – дайте нам пригоршни принципов. Мир, несомненно, един, если смотреть на него с одной стороны, но он также несомненно и множествен, если взглянуть на него с другой. Он в одно и то же время и единое, и многое, поэтому примем некий плюралистический монизм. Разумеется, все необходимо определено, но так же несомненно и то, что наша воля свободна: своего рода детерминистическая свободная воля – такова истинная философия. Нельзя отрицать, что в отдельных частях мира царит зло, но целое не может быть злом: таким образом практический пессимизм объединяется с метафизическим оптимизмом. И т. д. и т. п. Обыкновенный непрофессионал в философии отнюдь не радикал, он не заботится о последовательности своей системы, он использует то одну ее часть, то другую, как этого требуют меняющиеся запросы времени[2].
При этом тех, кто увлекается философией, «тревожит чрезмерная несвязность и неопределенность [наших] воззрений. Наша интеллектуальная совесть не может быть спокойной, пока мы придерживаемся несоединимых между собою противоположных взглядов».
Итак, у Джеймса обычному дилетанту нужны факты, научные данные и религия. А философия дает ему «эмпирическую философию, которая недостаточно религиозна, и религиозную философию, которая недостаточно эмпирична»[3]. Чтобы ориентироваться в мире, обитатели которого с интересом реагируют на град научных фактов и одновременно чувствуют себя комфортно в религии и романтизме, требуется практическая помощь. Джеймс полагал, что такую помощь мог бы обеспечить прагматический подход. Базовые принципы прагматизма основаны на той идее, что наши действия определяются нашими убеждениями – если у нас формируются какие-то убеждения, то вырабатывается и склонность поступать определенным образом. Чтобы понять значение того или иного убеждения, достаточно знать, какое действие им мотивировано. Если два разных убеждения заставляют вас действовать одинаково, то и ладно:
Прагматистский метод – это прежде всего метод улаживания метафизических споров, которые без него могли бы тянуться без конца. Представляет ли собою мир единое или многое, царит ли в нем свобода или необходимость, является ли он материальным или духовным?.. Если мы не в состоянии найти никакой практической разницы, то оба противоположных мнения означают по существу одно и то же, и всякий дальнейший спор здесь бесполезен. Серьезный спор возникает только в том случае, когда мы можем указать на какую-нибудь практическую разницу, вытекающую из допущения, что права какая-нибудь одна из сторон[4].
Хотя прагматизм основан на том, что действия могут быть спровоцированы ментальным состоянием, это всего лишь метод, который ничего не говорит о каких-либо конкретных результатах. Прагматизм допускает и другие методы, работающие в различных сферах науки. Однако бездоказательная метафизика и нескончаемые интеллектуалистские потоки сознания в расчет не принимаются. Прагматизм подходил психологам, изучавшим связь стимулов с реакциями, последователям теории ассоциаций Юма – основному контингенту новой области экспериментальной психологии, созданной Вильгельмом Вундтом, а позднее развитой в Нью-Йорке его харизматическим учеником, психологом Эдвардом Титченером. Большим авторитетом пользовался и Эдвард Торндайк. В своей монографии 1898 года «Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных» он вывел первое общее правило для природы ассоциаций – закон эффекта. Торндайк заметил, что реакция закрепляется в организме и становится привычной, если за ней следует вознаграждение, и забывается, если вознаграждения не давать. Вероятно, закрепление адаптивной реакции происходит по механизму связи стимула и ответа.
Психология связи стимула и реакции, иначе говоря, бихевиоризм, быстро вышла на первое место в американских исследованиях ассоциативных процессов. С точки зрения бихевиоризма, предметом изучения психологии должен быть не умственный или субъективный опыт, а поведение, изучать которое следует не методом самонаблюдения, а примерно так же, как естественные науки. Бихевиористы считали, что поведение всех животных, включая людей, можно объяснить закономерной реакцией определенного типа на тот или иной стимул, возникший в окружающей среде.
В этой области особенно выделялся Джон Б. Уотсон, человек весьма энергичный. Он был убежден в том, что объективности в психологии можно добиться, только если оценивать доступное для наблюдения поведение; он не желал ничего слышать о процессах, не видимых наблюдателю, поскольку заглянуть в черный ящик мозга невозможно. Уотсон не принимал во внимание дарвиновскую теорию о врожденных психических процессах, а придерживался гипотезы об одинаковом неврологическом оснащении организма у всех людей; разум представляет собой чистую доску, и любого ребенка можно научить чему угодно методом поощрений и определенных реакций на определенные стимулы. Эта теория отвечала американской идее равноправия. Вскоре большинство руководителей кафедр психологии в Америке встали на те же позиции, пустив побоку тезис учения Дарвина о том, что в ходе эволюции и естественного отбора сформировался достаточно сложный человеческий организм. Бихевиоризм воцарился в США еще на полвека, и в течение многих лет на этом направлении лидировал его убежденный пропагандист, профессор психологии из Гарварда Б. Ф. Скиннер.
В научном мире всегда существовали противоположные настроения, даже если и доминировала какая-то одна теория. Появлялись новые способы изучения «психических» процессов, которые прочно вошли в практику экспериментальной психологии, да и в наши дни остаются главными исследовательскими инструментами[5]. Тем не менее до середины века – до когнитивной революции, возглавляемой Джорджем Миллером в Гарварде, и работ по теме ментализма под руководством Роджера У. Сперри в Калифорнийском технологическом институте – вопросы психического состояния и сознания в Америке почти не обсуждались.
Канадское движение сопротивления и подъем современной нейробиологии
По счастью, к победившей партии бихевиористов не примкнули канадские ученые. Собственно, самые потрясающие открытия, касающиеся изнуряющих судорожных припадков, принадлежали первому канадскому нейрохирургу Уайлдеру Пенфилду; помочь таким пациентам можно было, только удалив ту часть коры головного мозга, что инициировала приступы. Чтобы локализовать судорожные очаги, Пенфилд стимулировал разные зоны коры электродами и наблюдал за реакцией пациента. Во время операции под местной анестезией пациенты бодрствовали, поэтому могли сказать, что они чувствовали и чего не чувствовали. Пенфилд составил карты сенсорной и двигательной областей коры, соответствующих частям тела, – иначе говоря, физическую репрезентацию человеческого тела в мозге[5]5
В дальнейшем наличие и отсутствие подобных репрезентаций послужило основой для описания явления фантомных болей (репрезентация есть при отсутствии конечности) и синдрома невосприятия целостности собственного тела (отсутствие репрезентации конечности при ее наличии, когда пациент воспринимает конечность как чужеродную и хочет, чтобы ее убрали).
[Закрыть]. Однако изображенное на картинке тело было непропорциональным. Пропорции отражали степень иннервации определенного органа и части тела – чем выше иннервация, тем более обширная область мозга ей отводилась. Когда Пенфилд и его ближайший помощник, физиолог Герберт Джаспер, поняли, где локализуется мозговая деятельность, процесс пошел. «Независимо от удаления той или иной части коры мозга, сознание сохраняется. С другой стороны, если травма, давление, болезнь или очаговый эпилептический разряд нарушат функцию верхнего отдела ствола мозга (промежуточного мозга[6]6
Промежуточный мозг (диэнцефалон) включает в себя эпиталамус, таламус, гипоталамус, субталамус и третий желудочек.
[Закрыть]), сознание неминуемо пострадает», – писал Пенфилд. Вместе с тем он тут же уточнил, что «гипотеза о существовании такого отдела мозга, где концентрируется сознание, могла бы стать приглашением Декарту переместить туда душу из шишковидной железы»[6].
Далее Пенфилд описывает двусторонний обмен информацией между подкоркой и разными зонами коры, притом что сенсорная информация обрабатывается в промежуточном мозге: «Таким образом, различные психические процессы становятся возможны не только в пределах промежуточного мозга, а и благодаря сочетанию функциональной деятельности промежуточного мозга и коры»[7]. Он утверждает также, что завершающий процесс, без которого не может быть сознательного опыта, сводится к концентрации внимания на вызывающем этот опыт психическом состоянии. Пенфилд предполагает, что этот процесс входит в сферу деятельности промежуточного мозга. По его работам видно, что он вкладывает в слово «сознание» двойной смысл. В первую очередь это психический статус бодрствования и осознавания, то есть не коматозное состояние. Во втором значении имеется в виду сознание по Декарту – мышление, или размышления о мышлении, причем Пенфилд добавляет обязательное условие концентрации внимания.
Чтобы изучать влияние мозговых травм на состояние пациентов и результатов хирургических операций на деятельность мозга, Пенфилд пригласил в свою группу психолога Дональда Хебба. Хебб, как и многие другие, кто занимался пациентами с повреждениями головного мозга, в конце концов пришел к заключению, что поведение объясняется работой мозга. Это было понятно Галену много сотен лет назад, да и нам сейчас тоже очевидно, но в 1949 году, когда вышла книга Хебба «Организация поведения: нейропсихологическая теория», идея дуализма души и тела все еще владела многими умами. В те времена, когда психологию крепко сжимали тиски бихевиоризма, Хебб демонстративно проигнорировал «строжайшие» запреты, наложенные на эту сферу как эмпириком Юмом, так и бихевиористами, и, вызвав восхищение психологического сообщества, отважно заглянул в черный ящик мозга. Он исходил из предположения о способности многих нейронов кооперироваться с образованием единого процессорного элемента. Схемы объединения могут меняться и задавать алгоритмы, которые определяют реакцию мозга на раздражители; алгоритмы тоже могут меняться в зависимости от изменения нейронных групп. Из этой концепции родилась мантра «нейроны, возбуждающиеся вместе, связаны». По этой теории, схемы «объединения» нейронов составляют биологическую основу обучения. Хебб отметил, что мозг активен не только под действием раздражителей, а всегда, и внешние сигналы могут лишь влиять на характер его постоянной активности. Гипотеза Хебба представляла интерес для создателей искусственных нейронных сетей и нашла применение в программировании. Кроме того, открыв черный ящик мозга и заглянув внутрь, Хебб произвел первый залп, ознаменовавший начало революционной борьбы с бихевиоризмом.
Когнитивная революция в Америке
В 1950-х годах, особенно когда славная когорта молодых исследователей мозга и психики – в том числе Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон, Ноам Хомский и Джордж Миллер – заложила основы когнитивной психологии, бихевиоризм в Америке стал сдавать позиции. Например, Миллер поступил так, как и должно поступать ученому, оказавшемуся перед новыми фактами, – он изменил собственное мышление. Миллер писал свою первую книгу, «Язык и общение», изучая проблемы речи и слуха в Гарварде. Уильяму Джеймсу пришлось бы по душе не оставляющее вопросов предисловие, где Миллер не скрывал своего пристрастия: «Моя позиция – бихевиористская». В части, посвященной психологии и тому, как по-разному люди пользуются языком, его вероятностная модель выбора слов основывалась на бихевиористском характере обучения по ассоциациям. Через одиннадцать лет он написал учебник, название которого – «Психология: наука об умственной деятельности» – говорило о полном отказе автора от своей прежней уверенности в единственно правильном бихевиористском подходе к изучению психологии. К такому повороту Миллера подтолкнуло развитие теории информации – внедрение языка программирования IPL, повлекшее за собой несколько первых разработок искусственного интеллекта, и идеи гения информатики Джона фон Неймана о том, что организация нервной системы предполагает способность мозга функционировать наподобие ЭВМ с массовым параллелизмом. В отличие от последовательной обработки данных, когда в каждый момент времени работает только одна программа, при параллельной схеме одновременно может выполняться много программ.
Наверное, для Миллера последний гвоздь в крышку гроба бихевиоризма был вбит, когда он познакомился с блестящим лингвистом Ноамом Хомским. Хомский показал, что последовательное предугадывание речи подчиняется не законам вероятности, а правилам грамматики. И, что удивительно, эти правила оказались врожденными и универсальными – то есть уже от рождения вписанными в мозг и известными каждому человеку. Таким образом, понятие tabula rasa следовало решительно упразднить, хотя нет-нет, да и услышишь еще эти слова.
В первом приближении тезисы своей теории синтаксиса Хомский изложил в книге «Три модели описания языка», вышедшей в сентябре 1956 года. Он взял лингвистику штурмом и одним махом преобразовал всю науку о языке. Из этой работы Миллер усвоил, что механизм усвоения языка не объясняется положениями ассоцианизма – любимой теории бихевиористов и, в частности, яркого их представителя Б. Ф. Скиннера. Хотя бихевиористы и прояснили некоторые аспекты поведения, в этой загадочной сфере происходило нечто такое, что им трактовать никак не удавалось – и не удастся. Пришла пора им попытаться в это вникнуть.
Задавшись целью понять принципы единого функционирования мозга и психики, Миллер стал анализировать психологические следствия концепций Хомского. Впрочем, к одному из аспектов психики Миллер тогда относился настороженно. В книге «Психология: наука об умственной деятельности» он писал, что пока изучение сознания надо отложить до лучших времен: «Само слово сознание затерто миллионами языков. В зависимости от выбранного метафорического смысла под ним подразумевается общее состояние, сущность, процесс, пространство, эпифеномен, эмерджентное (внезапно возникающее) свойство материи и единственно правдивая реальность. Возможно, мы должны лет на десять-двадцать наложить табу на это слово, пока не придумаем более точные термины для многих понятий, которые сейчас завуалированы под сознанием»[8].
Слово «сознание», которым Декарт обозначал мышление или размышления о мыслях, за много лет активного использования приобрело самые разные дополнительные значения. Помимо перечисленных Миллером оно стало смешиваться с осознанием, самосознанием, самопознанием, информированностью и субъективным опытом. Большинство ученых вняли совету Миллера и на время закрыли тему сознания, но одна группа неустрашимых исследователей не сдавалась. Они решили собрать все имеющиеся на тот момент в науке сведения о сознании.
В Ватикан за истиной
В то время как Миллер постарался вычеркнуть из лексикона слово «сознание», Pontificia Academia Scientiarum (Папская академия наук) внесла его в центральную повестку научной недели 1964 года. Корни этого учреждения уходят к Академии деи Линчеи («Академии рысьеглазых»), основанной в 1603 году восемнадцатилетним римским аристократом и натуралистом Федерико Чези, племянником весьма влиятельного кардинала. Чези основал Академию, чтобы изучать естественные науки методами наблюдения, эксперимента и индуктивных рассуждений. Эмблемой академии он выбрал зоркую рысь, что символизировало такой подход к науке. В 1610 году главой Академии был избран Галилей.
Тогда был не самый подходящий момент для такого проекта, и после кончины Чези в возрасте всего лишь сорока пяти лет это учреждение прекратило свое существование. Возродил его – под названием Academia Pontificia dei Nuovi Lincei (Академия деи Нуово Линчеи) – папа Пий IX в 1847 году. Затем, после объединения Италии и отделения в 1870 году Ватикана, новая «Академия рысьеглазых» разделилась на два института – Национальную академию деи Линчеи и другое заведение, которое в 1936 году при папе Пие XI модифицировалось в Папскую академию наук с президиумом в Ватикане. Несмотря на роль папы в создании последней и ее местонахождение в Ватиканских садах, научная работа в Папской академии ведется без каких-либо ограничений. Она собрала ученых разных специальностей из многих стран, а своей главной задачей видит «содействие прогрессу математики, физики и естественных наук, а также исследованию связанных с ними эпистемологических вопросов и проблем». В сентябре 1964 года Папская академия провела недельную научную школу по теме «Мозг и сознательный опыт» под председательством известного врача и физиолога сэра Джона Экклса.
Экклс родился в Австралии. В Медицинском университете он проявлял горячий интерес не только к учебе, но и к прыжкам с шестом. Штудируя «Происхождение видов» по программе зоологии, он увлекся классическими и современными философскими книгами о взаимосвязи психики и мозга[9]. Но медицина не давала ответов на вопросы об их взаимодействии, поэтому он взял курс на нейробиологию[10]. Также он решил добиться стипендии Родса и поступить в Оксфорд, чтобы поработать с известным нейрофизиологом Чарльзом Шеррингтоном. Сказано – сделано. В 1925 году он отправился в путь через полмира, в Англию.
Экклс стал изучать способ передачи нервного сигнала в синапсе. Поначалу он был уверен, что этот процесс имеет электрическую природу. В то время он познакомился с философом Карлом Поппером, считавшим, что о справедливости гипотезы говорят не доказательства, вроде бы ее подтверждающие, а неудавшиеся попытки ее опровергнуть при детальном разборе, и решил тщательно все проверить. Всесторонне проанализировав свою гипотезу, Экклс поменял свое первоначальное мнение, поскольку пришел к выводу, что синаптическая передача – это химический процесс. Сэр Генри Дейл, его старинный друг, написал в связи со столь резким поворотом мысли: «Поразительная перемена взглядов! Как тут не вспомнить Савла, идущего в Дамаск: осиял его свет, и чешуя спала с его глаз»[11]. В течение следующего десятилетия Экклс исследовал механизмы возбуждения и торможения синапсов двигательных нейронов в спинном мозге, после чего переключился на таламус, гиппокамп и мозжечок. За год до папской конференции Экклсу присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. А несколькими годами ранее он за ту же работу удостоился рыцарского звания. Экклс стал тогда живой легендой, и те из нас, кому довелось знать его, видели в нем великого ученого, человека блестящего ума и неиссякаемой энергии. Плюс ко всему он был воспитан в католической вере и твердо стоял на позиции дуализма. Прагматист Уильям Джеймс нимало не удивился бы, узнав, что руководством к действию Экклсу служила вера и что он посвятил жизнь изучению механизмов, с помощью которых разум управляет телом.
В 1951 году в эссе под названием «Гипотезы, связанные с психофизиологической проблемой», опубликованном в Nature, Экклс утверждал, что «многие ученые рассматривают дуализм и взаимодействие как наиболее приемлемые исходные положения научного подхода к проблеме соотношения мозга и психики. Такая трактовка влечет за собой вопрос: какие можно было бы выдвинуть научные гипотезы, имеющие какое-либо отношение к не поддающейся до сих пор решению проблеме взаимосвязи мозга и психической деятельности?»[12] И далее предлагает собственную гипотезу. Хотя Экклс и считал, что любой перцептивный опыт является результатом особого паттерна активации нейронов, а память зависит от повышения эффективности синапсов, он почему-то думал, что опыт и память «не укладываются в систему материя-энергия». Ученый предположил, что активированная кора мозга «обладает чувствительностью иного рода, не свойственной ни одному физическому инструменту» и что «взаимодействие разума и мозга становится возможным благодаря возникновению пространственно-временных полей влияния, действенность которых обусловлена этой уникальной… функцией активной коры». Ничего себе! Звучит, как камлание шамана на профессиональном сленге ученых! Декартовскую шишковидную железу он заменил активированной корой мозга с какой-то загадочной чувствительностью. Вот так, спустя целых двести лет, Экклс продолжил дело Декарта и поддержал его учение о дуализме – вопреки тому, что шестьдесят часов в неделю изучал и регистрировал функции нейронов, да и во всем прочем полностью принимал детерминизм. Уму непостижимо.
В председательские обязанности Экклса входил отбор участников и публикация материалов, что в итоге вылилось в написание выдающейся книги «Мозг и сознательный опыт». Пожалуй, Экклс лишь в одном проявил необъективность – на конференции оказалось слишком много физиологов; впрочем, как правило, они совмещали специализации. Ему удалось привлечь самых лучших представителей каждой области науки, включая нейрофизиологию, нейроанатомию, психологию, фармакологию, клиническую диагностику и патологическую анатомию, биопсихологию, нейрохирургию, химию, передачу информации, кибернетику, биофизику и этологию. Поставив своей целью изучение физики, математики и естественных наук, Академия наложила единственное ограничение – не приглашать философов. Экклсу это не нравилось, хотя среди приглашенных участников и были, как выразился один обозреватель, «весьма незаурядные философы-дилетанты». Этот комментатор отметил также, что «наверное, нет другого такого однотомника [имелся в виду «Мозг и сознательный опыт»], посвященного последним достижениям в исследованиях коры мозга»[13].
До начала конференции Академия устроила короткую встречу для участников, где была описана концепция сознания – «психофизиологическая способность к восприятию, осознанию этого восприятия и к соответствующим действиям и реакциям». Как сказал мне мой учитель и будущий нобелевский лауреат Роджер Сперри по возвращении в Калифорнийский технологический институт, «папа заявил: «Мозг ваш, а душа наша»». Дискуссия о сознании шла примерно по трем направлениям – восприятие, действие и волеизъявление.
Вот как растолковал это присутствовавший на конференции зоолог Уильям Торп:
На мой взгляд, при всех бесчисленных смысловых обертонах термин «сознание» включает в себя три основных компонента. Первый – внутреннее осознание чувственного восприятия, можно сказать, способность к духовному восприятию. Второй – самосознание, осознание собственной сущности. Третий заключается в том, что идея сознания предполагает идею единства, то есть имеется плохо поддающийся описанию сплав всей совокупности впечатлений, мыслей и ощущений, который превращает сознание человека в нечто цельное[14].
В ходе дискуссии о связанных с сознательным опытом мозговых явлениях Экклс задал вопрос: «Каким образом нейронная активность в коре мозга с каким-либо специфическим пространственно-временным паттерном провоцирует определенное чувственное переживание?»[15] Ответа на этот вопрос нет до сих пор.
Листая те отчеты, я не мог не рассмеяться над реакцией слушателей на сообщение Роджера Сперри о наших исследованиях расщепленного мозга, тогда еще только начинавшихся. Сперри написал в кратком обзоре: «Все факты, которые мы до сих пор наблюдали, указывают на то, что после операции у этих людей образовалось два отдельных разума, то есть две отдельные области сознания»[16]. Судя по тому, как оживилась дискуссия, наши открытия произвели фурор, это был настоящий шок для аудитории. Сперри пытался объяснить Ватикану и своим коллегам, что психику можно разрезать пополам хирургическим скальпелем.
В тот период Сперри и сам находился на перепутье: менялись – отчасти из-за работ по расщеплению мозга – его базовые представления о функционировании мозга. Он отрекся от материализма и редукционизма в их тогдашнем виде и стал называть себя менталистом. Ранее в том же году, готовясь к просветительской лекции об эволюции мозга, он и сам поразился, когда написал в заключение, что «по логике вещей, развитие умственных способностей должно обуславливать и контролировать сверху электрофизиологические мозговые процессы»[17]. В те годы предположение о возможности влияния психического состояния на состояние мозга выглядело безусловной нейробиологической ересью – да и сейчас в немалой степени выглядит именно так. Я пришел к тем же выводам, что и Сперри, и в 2009 году, в Эдинбурге, повторил в Гиффордской лекции мысль о причинном воздействии психических процессов на процессы более низкого уровня – и вновь не встретил горячего отклика у детерминистов всех мастей. Как бихевиоризм, так и материализм стоят на том, что реальный физический мозговой процесс являет собой полноценную сеть стимулов и реакций, где все можно объяснить физическими причинами и куда не поступают внешние сигналы от сознания и психических факторов, да в них и нет нужды. Книгу, которая сейчас перед вами, можно считать очередной попыткой разобраться в этом вопросе.
На ватиканской конференции Сперри несколько смягчил свою менталистскую позицию, сказав под конец, что «возможно, сознание имеет немалую оперативную ценность, это не просто некий рефлекс, побочный продукт, эпифеномен или метафизическая параллель реального объективного процесса»[18]. В другой раз он выразился чуть иначе: «Вероятно, сознание может быть использовано для управления и причинного обоснования физических процессов»[19].
Как материалист Экклс признался: «Могу подтвердить, что нам, нейрофизиологам, нет нужды думать о сознании, когда мы пытаемся объяснить работу нервной системы»[20]. Также он добавил: «Эта история, безусловно, не вызывает у меня доверия, но и логичных возражений я также не нахожу»[21]. Он остался на дуалистской позиции.
Когда неделя подошла к концу, психолога из Массачусетского технологического института, одного из отцов-основателей нейропсихологии, Ганса-Лукаса Тойбера попросили подвести итоги. Он славился своими великолепными финальными выступлениями на конференциях и научных совещаниях, сопровождавшимися к тому же виртуозной игрой бровей[22]. Тойбер четко, как умел только он, представил картину общих и отличающихся точек зрения, отметил белые пятна в знаниях и представил краткий и емкий отчет о состоянии дел в этой области науки. Все остальные согласились в том, что многое поняли о переработке чувственной и зрительной информации в коре мозга и что если бы удалось в такой же мере понять механизмы двигательной деятельности, запоминания и осознания (чего пока сделать не удалось), это означало бы большой шаг вперед в изучении процесса сознания. «Когда мы пытались обрисовать вероятные системы и механизмы, без которых не было бы сознания, мнения высказывались самые разные и противоречивые. Не было даже уверенности… касательно понимания, зачем нужно сознание»[23], – посетовал Тойбер.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































