Текст книги "Галаад"
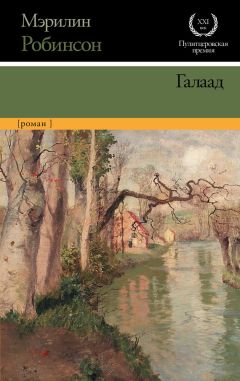
Автор книги: Мэрилин Робинсон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ты знаешь «Отче наш» и Двадцать третий псалом, а также Сотый псалом. И я слышал, как вчера вечером мама учила тебя Заповедям. Похоже, ей хочется, чтобы я знал: она вырастит тебя человеком верующим, и с ее стороны это удивительно смелое решение. Честно говоря, я в жизни не встречал человека, менее осведомленного в вопросах религии, чем она, когда с ней познакомился. Замечательная женщина, но совершено не образованная в части Священного Писания, как и многого другого, если верить ей самой и, вероятно, это правда. И я говорю это с доподлинным уважением.
И все же в ней всегда была эта удивительная серьезность. Впервые придя в церковь, она села в углу в задней части святилища, а мне все равно казалось, как будто из всех только она меня слушает. Однажды мне приснилось, будто я проповедую самому Иисусу и говорю все глупости, которые мне приходят на ум, а Он сидит там в белом-белом одеянии и терпеливо ждет, взирая на меня с грустью и изумлением. Именно такое возникало ощущение. Потом я думал: все, мне конец, она никогда не вернется, а в следующее воскресенье она появлялась снова. И снова служба, к которой я готовился целую неделю, проходила из рук вон плохо. Это было еще до того, как я узнал ее имя.
Сегодня утром у меня состоялся интересный разговор с мистером Шмидтом, отцом Т. Похоже, последний подхватил где-то пару нехороших слов. На самом деле я тоже их слышал, потому что вы оба только на эту тему и шутили последнюю неделю. Признаю: я не видел причин для беспокойства. Мы в детстве говорили то же самое, и нам это сходило с рук, я полагаю. Один из вас произносит нараспев наивным голоском: «ВДШТ золотую рыбку?» А другой отвечает самым низким тоном, который только может изобразить, и в голосе его сквозят злость и презрение: «ЧРТС2 тут золотая рыбка!»[11]11
ВДШТ… ЧРСТ2 – известная английская и американская детская игра-скороговорка, основанная на звучании названий букв и цифр: если их произнести быстро, можно различить определенные слова.
[Закрыть] А потом раздается неистовый бе-зудержный хохот. (Должен сказать, больше всего мистера Шмидта беспокоили ЧРТ.) Этот молодой человек был настроен весьма серьезно, и я с трудом сдерживался от смеха, когда слушал его. Я с мрачным видом сообщил, что по опыту знаю: лучше не пытаться изолировать детей строжайшим образом, ибо запрет теряет силу, если налагается на все и вся. Наконец, он уступил, поддавшись авторитету моих седин и призвания, хотя и спросил пару раз, не унитарий ли я.
Я рассказал об этом Боутону, а он заявил: «Я уже давно думаю, что эти буквы надо исключить из алфавита». Потом он рассмеялся, сам себе забавляясь. Он был в приподнятом расположении духа, с тех пор как пришли вести от Джека. «Скоро он будет дома», – говорил он. Когда я поинтересовался, откуда прислано письмо, Боутон сказал: «Ну, судя по почтовой отметке, – из Сент-Луиса».
Я не стану рассказывать маме о нашем разговоре с мистером Шмидтом. Она очень хочет, чтобы ты сохранил эту дружбу. Она переживала, когда ты ни с кем не общался. Она переживает за тебя гораздо сильнее, чем следовало бы. Она вечно воображает, как будто это она во всем виновата, хотя мне кажется, что ничьей вины в этом нет.
На днях она сказала мне, что хочет почитать старые проповеди, которые скопились на чердаке, и, думаю, она так и поступит, я правда так думаю. Не все – на это ушли бы годы. Что ж, наверное, лучше спустить одну коробку вниз и разобрать их. Я немного успокоился бы, почувствовав, что оставляю после себя более положительное впечатление. Как часто уже на кафедре, произнося слова, я осознавал, как сильно они расходятся с надеждами, которые я возлагал на них. А ведь речи были главным делом моей жизни, с определенной точкой зрения. Удивительно, как я с этим жил.
Сегодня я проводил причастие и произносил проповедь по Евангелию от Марка, четырнадцатая глава, стих двадцать второй: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое». Обычно я не ссылаюсь на Слово Божие, когда его суть гораздо лучше передается в самом таинстве причастия. Но в последнее время я много думал о Теле. Благословенном и Преломленном. Я обратился к Книге Бытия, глава тридцать вторая, стихи с двадцать третьего по тридцать второй, в соответствии с текстом Ветхого Завета, где Иаков боролся с Богом. Я хотел рассказать о даре в виде отдельной физической сущности и о том, как благословение и таинство причастия осуществляются через нее. В последнее время я много думал о том, как сильно люблю жизнь физическую.
Как бы там ни было, быть может, ты это помнишь: когда почти все ушли, а святые дары еще лежали на столе и горели свечи, мама пронесла тебя по коридору ко мне и сказала: «Ты должен и ему дать». Конечно, ты еще слишком мал, но она была абсолютно права. Тело Христово, преломленное для тебя. Кровь Христова, пролитая за тебя. Твое серьезное и прекрасное детское лицо поднялось ко мне, чтобы прикоснуться к этим величайшим тайнам, которые я держал в руках. И это самые чудесные тайны – Тело и Кровь.
Это было удивительное событие, которое могло вообще не случиться. Теперь я боюсь лишь одного: у меня недостаточно времени, чтобы насладиться воспоминаниями о нем.
Сегодня утром свет изумительным образом залил помещение, как это часто бывает. Это обычная старая церковь, и ей не повредил бы новый слой краски. Но в темные времена я приходил туда до рассвета лишь для того, чтобы посидеть и полюбоваться тем, как свет украшает придел. Не знаю, может ли это зрелище показаться прекрасным кому-то еще. Я ощущал такое умиротворение в те дни, хотя молился о самом страшном – о Великой депрессии, о войнах. Местных людей много десятков лет окружал ореол страданий. Но молитва приносит успокоение, как, смею надеяться, известно и тебе.
В эти дни, как я уже говорил, я мог провести за чтением большую часть ночи. Потом, если я просыпался в кресле, а на часах было четыре или пять, я думал, как же приятно пройтись по улицам в темноте, зайти в церковь и наблюдать за рассветом в святилище. Мне нравился звук, с которым открывалась щеколда. В здании царило уединение, так что, когда ты шел по коридору, слышалось, как он прогибается под бременем твоего веса. Это более приятный звук, чем эхо, обязывающий и успокаивающий. Нужно находиться там одному, чтобы его услышать. Хотя, быть может, удастся это сделать и в обществе ребенка, ведь он весит так мало. Если церковь еще стоит на месте, когда ты будешь это читать, и ты не уехал отсюда за тысячи миль, сходи туда как-нибудь в одиночестве – и ты поймешь, что я имею в виду. Через какое-то время я начал недоумевать, не нравится ли мне церковь больше, когда внутри пусто.
Я знаю, ее планируют снести. И ждут только того момента, когда я освобожу ее, что довольно мило с их стороны.
Ночью всегда бодрствуют люди, дети которых мучаются коликами или болеют, или те люди, которые борются с собой или переживают из-за чувства вины. А еще, разумеется, молочники и все те, кто работает в раннюю или позднюю смену. Порой, проходя мимо дома какой-нибудь семьи из числа моих прихожан и видя в окнах свет, я думал, что, быть может, стоит остановиться и проверить, не случилось ли у них чего и не требуется ли им помощь. Но потом мне приходило на ум, что это будет слишком навязчиво, и я шел мимо. Как и мимо дома Боутонов. Лишь много лет спустя я узнал, что на самом деле их беспокоило, хотя мы всегда были близки. Именно по ночам я не спал, да и читать не хотелось, поэтому я прогуливался по городку в два или три часа ночи. Тогда я мог пройтись по всем улочкам, мимо каждого дома примерно за час. Я пытался вспомнить людей, которые жили в этих домах, и все, что я знаю о них, – в большинстве случаев довольно много, поскольку те, кто не входил в мою паству, были прихожанами Боутона. И я молился за них. И представлял умиротворение на их лицах, на которое они не рассчитывали, и переживания из-за обрушившейся болезни или борьбу с ночными кошмарами. Потом я шел в церковь, и молился еще немного, и ждал, пока наступит день. Часто я испытывал сожаление, когда ночь сменялась утром, хотя мне и нравилось наблюдать, как наступает рассвет.
Деревья ночью звучат по-другому и пахнут иначе.
Если ты меня хоть немного помнишь, возможно, тебе будет легче меня понять благодаря тому, что я сейчас рассказываю тебе. Если бы ты мог увидеть меня не глазами ребенка, а как взрослый человек, ты, разумеется, различил бы во мне натуру, склонную к ночным скитаниям. Надеюсь, что, читая эти строки, ты поймешь: когда я говорю о долгой ночи, предшествовавшей моим счастливым дням, то чаще вспоминаю не горе и одиночество, а умиротворение и покой. Горе не без утешения, одиночество не без умиротворения. Они почти всегда шли рука об руку.
Однажды мы с Боутоном провели целый вечер, просматривая тексты, и, когда закончили обсуждать их, я проводил его до дома. Я в жизни не видел столько светлячков: они тысячами вылетали из травы, вспыхивая в воздухе. Мы довольно долго сидели на ступеньках в темноте и в тишине и наблюдали за ними. Наконец Боутон сказал: «Человек рождается для мирских сует, равно как и искры летят вверх». И на самом деле это была именно такая ночь, когда вся земля тлела. Что ж, так оно было и есть до сих пор. Старый огонь найдет себе темное укрытие и приживется в его глубине, как и вся наша планета. Я верю, что при помощи той же метафоры можно описать и отдельного человека. Вероятно, и Галаад тоже. Вероятно, всю цивилизацию. Только ткни – и полетят искры. Не знаю, благословил ли я этими строками светлячков, или светлячки благословили эти строки, или они все вместе благословили нас, избавив от всех злоключений, но с тех пор я сильно люблю и тех, и других.
Недавно звонил Джек Боутон, то есть Джон Эймс Боутон, которого назвали в мою честь. Он пока в Сент-Луисе и все еще собирается приехать домой. Глори пришла рассказать мне об этом, взбудораженная и обеспокоенная. Она произнесла: «Папа пришел в восторг, когда услышал его голос». Полагаю, рано или поздно он появится. Не понимаю, как один сын из всех мог вызвать такое разочарование, при том, что он никогда не давал повода возлагать на него большие надежды. Подумать только, ведь ему хорошо за тридцать. Нет, сейчас ему, должно быть, уже сорок. Он не самый старший, и не самый младший, и не самый лучший, и не самый храбрый, зато самый любимый. Полагаю, я и о нем могу поведать тебе одну историю, но в том объеме, который будет в рамках приличия. Как-нибудь в другой раз. Сначала я должен поразмыслить над этим. Поскольку у меня почти не было возможности поговорить с ним, я мог бы решить, что все несчастья давно забыты, и ничего об этом не писать.
Старый Боутон так хотел его увидеть. Быть может, он волновался так же сильно, как жаждал встречи. Он воспитал замечательных детей, и все же казалось, что именно ему он отдал свое сердце. Заблудшая овца, оброненная монета. Расточительный сын, если это не слишком изящно сказано. На протяжении всей моей взрослой жизни я по крайней мере раз в неделю говорил, что любовь Отца нашего никак не соответствует тому, чего мы заслуживаем. И все же, когда вижу то же несоответствие в миру между родителями и детьми, я всегда немного раздражаюсь. (Я знаю, ты будешь хорошим человеком, и надеюсь, что ты уже им стал, хотя все равно буду любить тебя безгранично, если нет.)
Сегодня утром я сделал одну глупость. Я проснулся в темноте, и мне захотелось прогуляться к церкви, как раньше. Я оставил записку, и твоя мать нашла ее, поэтому все обернулось не так плохо, как могло бы, я полагаю. (Мысль о записке пришла довольно поздно, я признаю.) Видимо, она подумала, что я ушел в одиночестве в последний раз глотнуть свежего воздуха. По мне, так это неплохая мысль. Я испытывал беспокойство в последние часы. Из-за того, что знаешь ты, но не знаю я – как все закончится. То есть как закончилась моя жизнь в твоих глазах. Это сильно тревожит твою мать, да и меня тоже. И мне приходится нелегко, памятуя о том, что я не могу доверять своему телу, полагая, что оно не подведет меня внезапно. Зачастую я чувствую себя не так уж плохо. Боли посещают меня достаточно редко, чтобы я периодически мог забывать о них.
Врач сказал мне, что нужно осторожно вставать со стула. Еще он запретил мне подниматься по лестнице, а это означало бы, что я должен отказаться от работы в кабинете. Я не могу заставить себя это сделать. Еще он посоветовал выпивать мне по глотку бренди каждый день, что я и делаю по утрам, стоя в кладовой с задернутыми ради твоего блага шторами. Твоя мама думает, что это очень смешно. Она говорит: «Было бы куда полезнее, если бы ты испытывал хоть какое-то удовольствие». Но так пила моя мать, а я привержен традициям. В последний раз, когда мама водила тебя к врачу, он сказал, что ты был бы здоровее, если бы тебе удалили миндалины. Она пришла домой такая расстроенная, из-за того что врач нашел, к чему придраться, что я выдал ей дозу моего лечебного бренди.
Она хочет перенести мои книги вниз, в гостиную, и обустроить для меня место там. И, быть может, я соглашусь, чтобы она не нервничала. Я сказал ей, что не могу добавить и минуты к отведенному мне сроку, а она ответила: «Что ж, я не хочу, чтобы ты отнимал эти минуты». Год назад она сказала бы «не хочу, чтобы ты не отнимал». Мне всегда нравилось, как она говорит, но она думает, что ей нужно совершенствоваться ради твоего блага.
Я подошел к церкви в темноте, как уже говорил. На небе сияла яркая луна. Странно, что человек никогда не может привыкнуть к ночному миру. Я видел лунный свет такой силы, что предметы начинали отбрасывать тени. А еще ветер – тот самый ветер, который шуршит меж листвы ночью и днем. Когда я был еще мальчиком, то вставал до рассвета, чтобы принести в дом воды и дров. Тогда у меня была совсем другая жизнь. Я помню, как ступал во тьму и мне казалось, что тьма – это огромное прохладное море, а дома, сараи и леса дрейфуют на его поверхности и вот-вот сорвутся с опор. Я всегда чувствовал себя как незваный гость и чувствую до сих пор, как будто тьма имеет власть над всем и я потревожил ее лишь тем, что переступил порог. Сегодня утром мир в лунном свете напомнил мне давнего знакомого, с которым я всегда собирался подружиться. Если у меня и был такой шанс, я его упустил. Как ни странно, по отношению к самому себе я испытываю примерно те же ощущения.
Как бы там ни было, я почувствовал острую необходимость дойти до церкви, отпереть дверь и посидеть там в темноте, пока не наступит рассвет. Желание было настолько сильным, что я забыл, как сильно могу расстроить твою мать. На самом деле в последнее время я с трудом удерживаю в голове мысль о том, насколько я смертен. Меня посещают боли, как я говорил, но они не настолько частые и мучительные, так что я не тревожусь по этому поводу, как следовало бы.
Мне нужно научиться более осознанно относиться к своему состоянию. Я на днях попытался взять тебя на руки, как делал раньше, когда ты был не такой большой, а я – не такой старый. Потом увидел, что твоя мать смотрит на меня с явным осуждением, и понял, как глупо поступил. Просто мне всегда нравилось ощущать, как крепко ты за меня держишься, словно обезьянка за дерево. Мальчишеская худощавость и мальчишеская сила.
Но я немного отклонился от темы, то есть от твоей родословной. А я еще много должен тебе рассказать. Мой дед служил в союзных войсках, как, думаю, я уже говорил. Он хотел отправиться на войну рядовым, но ему сказали, что он слишком стар. Ему сообщили, что в Айове есть седобородый полк, специально для стариков, которые не участвовали в боевых действиях, а охраняли припасы, железнодорожные пути и так далее. Эта перспектива его не порадовала. Наконец ему удалось уговорить их взять его на должность армейского капеллана. Он не взял с собой документов, подтверждающих его знания и сан, но отец рассказывал, что дед показал им Новый Завет на греческом и этого оказалось более чем достаточно. Эта книга до сих пор у меня где-то лежит, точнее то, что от нее осталось. Она упала в реку, как мне поведали, и к тому моменту, как высохла, уже была основательно испорчена. Если я все помню правильно, книгу выловили из воды в ходе неорганизованного отступления. Это та самая Библия, которую прислали моему отцу из Канзаса, после чего мы отправились на поиски могилы старика.
Мой отец родился в Канзасе, как и я, потому что старик приехал туда из штата Мэн, чтобы помочь сторонникам «свободных земель» реализовать право на голосование. Тогда как раз проводилось голосование по поводу документа, который определял, войдет ли Канзас в Рабовладельческий союз или будет свободным. Довольно много людей приехали в Канзас по той же причине. Разумеется, прибыли люди и из Миссури, которые хотели, чтобы Канзас присоединился к Югу. Так что на какое-то время все вышло из-под контроля. Лучше о таком и не вспоминать, как говорил отец. Он не любил распространяться о тех временах, и они часто ругались с дедом по этому поводу. Я много читал об упомянутых событиях и решил, что отец был прав. Тем более что люди тоже обо всем забыли. Удивительные происшествия продолжались, разумеется, но с тех пор в мире было так много несчастий, что мне сложно найти время на размышления о Канзасе.
Мы переехали в этот дом, когда я был еще маленьким мальчиком. Долгие годы мы жили без электричества, при керосиновых лампах. Никакого радио. Я вспоминал, как моя мать любила кухню. Разумеется, тогда она выглядела иначе – вантуз, старый кухонный шкаф и печка-буржуйка. Остались тут, пожалуй, только старый стол и кладовая. Мать придвигала кресло-качалку так близко к печке, что могла открывать дверцу, не вставая. Она говорила, что так у нее ничего не подгорит. Она утверждала, что мы не можем позволить себе попусту переводить продукты, и здесь она не ошибалась. Как бы там ни было, у нее довольно часто подгорали блюда, по мере того как шли годы, это случалось все чаще, но мы все равно их съедали, так что напрасно продукты не переводились. Ей нравилось тепло очага, но оно усыпляло ее, особенно если до этого она стирала или закрывала банки с домашними консервами. Упокой Господь ее душу, ибо ее мучили и люмбаго, и ревматизм, и она могла выпить виски, чтобы унять боль. Мать всегда плохо спала по ночам. Видимо, я унаследовал это от нее. Она тут же поднималась, если чихала кошка, как она говорила, но при этом могла проспать ритуальное сожжение целого воскресного ужина, которое происходило всего в двух футах от нее. Точнее, это происходило в субботу, потому что наша семья строго соблюдала традицию воскресного отдыха. Итак, мы уже за день знали, чего следует предвкушать. Особенно хорошо я помню обу-гленные бобы и подгоревшее яблочное пюре.
Твоя мама изумилась, когда я впервые сказал ей, что необязательно гладить белье в воскресенье вечером. Самая сложная задача для нее – это прекратить хлопотать по дому, поэтому не уверен, что мои призывы отдохнуть хоть один денек возымели какое-то действие. Тем не менее она хочет знать обычаи и принимает их близко к сердцу, Господь все видит. Она с таким облегчением обнаружила, что учеба работой не считается. Хотя я никогда так и не думал. И теперь она сидит за обеденным столом и переписывает стихи и фразы, которые ей нравятся, и самые разные факты. Главным образом она делает это для тебя. Все потому, что я покину вас и лишь она одна будет подавать тебе пример. Она сказала: «Ты должен показать мне, какие книги надо читать». И я достал старого Джона Донна, который на протяжении долгого времени действительно много для меня значил. «Заснуть лишь стоит, и навеки мы проснемся / И смерти больше нет, смерть, ты умрешь сама». У Донна есть великолепные строки. Надеюсь, ты их прочитаешь, если еще не прочитал. Твоя мама пытается его полюбить. А я жалею, что не смог позволить себе еще новых книг. В основном мою библиотеку составляют книги по теологии и кое-какие старые книги о путешествиях еще довоенного времени. Почти уверен: многие сокровища и памятники, о которых я то и дело люблю читать, больше не существуют.
Твоя мать ходит в общественную библиотеку, которая давно уже переживает не лучшие времена, как и другие заведения в округе. В последний раз она принесла затертый до дыр экземпляр «Тропинки одинокой сосны», который не рассыпался лишь потому, что его замотали скотчем. Едва погрузившись в чтение, она увлеклась книгой. И я готовил яичницу и бутерброды с расплавленным сыром на ужин, чтобы ей не приходилось отвлекаться от книги. Я читал ее много лет назад тогда же, когда и все остальные. Не помню, чтобы она сильно меня вдохновила.
Еще маленьким мальчиком я слышал историю об убийстве в наших краях, когда орудие убийства, длинный охотничий нож, по слухам, утопили в реке. Все дети только об этом и говорили. На старого фермера набросились из-за сарая, когда он доил корову. Все знали, что у главного подозреваемого был охотничий нож, потому что он им гордился и всем показывал. Дело дошло до того, что его чуть не повесили, если не ошибаюсь, потому что он не мог показать этот нож и никто не мог его найти. Думали, что он выбросил его в реку. Но его адвокат объяснил, что другой человек – быть может, какой-то чужак – имел возможность украсть его, совершить преступление и выбросить нож в реку или просто скрыться с ним, что казалось вполне правдоподобным. К тому же на всем белом свете такой нож явно был не только у него одного. Да и мотив никто найти не мог. Так что в итоге подозреваемого отпустили.
Потом все недоумевали, кого бояться, и это было ужасно. Человек, которому принадлежал нож, просто уехал. Периодически появлялись слухи, что его видели по соседству, и это могло быть правдой, так как сестра бедняги осталась жить здесь, а в целом мире у него не осталось ни одной близкой души. Обычно слухи распространялись под Рождество.
Я сильно переживал из-за этого, потому что однажды отец взял меня с собой, когда выбрасывал пистолет в реку. У деда осталось оружие, которое он подобрал в Канзасе еще до войны. Уезжая на Запад, он оставил в доме отца старое армейское одеяло – сверток, перевязанный бечевкой. Когда мы узнали, что дед там умер, мы развернули его. Там оказалось несколько старых рубашек, которые когда-то были белыми, несколько дюжин проповедей, кое-какие другие бумаги, тоже перевязанные бечевкой, и пистолет. Разумеется, меня больше всего интересовал пистолет. И я был намного старше, чем ты сейчас. А вот в моего отца это вселяло отвращение. Вещи, оставленные дедом, оскорбляли его. И он похоронил их.
Яма, которую он выкопал, должно быть, была глубиной фута четыре. Я поразился, каких усилий ему это стоило. Потом он швырнул сверток в яму и принялся забрасывать ее землей. Я спросил, почему он закапывает и проповеди. В то время я, разумеется, думал, что любой текст, написанный от руки, вероятно, представлял собой проповедь, и оказалось, что в этом случае все именно так. Там были и письма. Я это знаю, потому что через час после символического захоронения отец явился и выкопал все назад. Он отложил рубашки и бумаги и закопал пистолет. Потом, через месяц или около того, он достал его и выбросил в реку. Если бы он оставил пистолет в земле, то сейчас он лежал бы под задним забором, быть может, на глубине одного-двух футов.
Мне он ничего не сказал. Хотя произнес: «Да будет так», – когда бросал большой старый пистолет обратно в яму. Потом он дал мне подержать проповеди, пока отряхивал и складывал рубашки. Бумаги он велел мне отнести в дом. Я так и сделал, а отец снова засыпал яму, все утаптывая и утаптывая землю. Примерно через месяц он снова выкопал пистолет, положил его на пень и разломал, как только мог, кувалдой, которую взял взаймы. Обломки он обернул мешковиной, а потом мы вместе направились к реке и прошли довольно много до того места, где обычно рыбачим, и он забросил останки оружия в воду как можно дальше. У меня возникло такое впечатление, что он хотел, чтобы их не существовало в принципе, что он не успокоился бы, даже утопив их в океане, что он достал бы их с любой глубины, если бы знал способ уничтожить окончательно. Это был большой старый пистолет, как я уже говорил, с украшениями на ручке примерно такого вида, как узоры на батареях из кованого железа. Мне кажется, я помню холод и тяжесть, и запах железа, который он оставил у меня на руках. Но я знаю, что на самом деле отец не позволил мне даже прикасаться к нему. В любом случае, думаю, пистолет был сделан из никеля. Откровенно говоря, я считал, что он поучаствовал в каком-то ужасном преступлении, потому что отец никогда не рассказывал мне об истинных причинах ссоры с дедом.
Он прополоскал те две старые рубашки в раковине и повесил их за полы на бельевой веревке матери, прежде чем сжечь, как я полагал. Они были все желтые, в пятнах и выглядели ужасно, а ветер трепал их рукава. Они казались побитыми и униженными, свисая с веревки головой вниз, если можно так выразиться. Примерно так же подвешивают оленью тушу для разделки. Моя мать вышла и тут же их сняла. В те времена женщины гордились тем, как выглядит свежевыстиранное белье на веревке, особенно белое. Это стоило больших усилий. Моя мама и мечтать не смела об электрическом приборе для отжима или взбивания мыла. Он дочиста оттирала белье на стиральной доске. После этого оно становилось таким красивым и белым. Это воистину выглядело замечательно. И это по понедельникам делали все женщины на всем белом свете. Когда впервые стали подавать электричество, они пользовались им до рассвета и во время ужина, чтобы облегчить домашние дела, и включали еще на пару часов в понедельник, чтобы справиться со стиркой.
Что ж, мать просто не могла вынести вид этих жалких рубашек. Она была твердо убеждена, что большая часть местных жителей судит ее по тому, что появляется у нее на бельевой веревке, и я не могу утверждать, что она заблуждалась. Однако дело было не только в этом. Отец больше всего любил эти строки из Священного Писания: «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровию, будут отданы на сожжение, в пищу огню». Это Книга пророка Исайи, глава девятая, стих пятый. Моя мать, должно быть, почувствовала, будто знает, что он собирается сделать, и узрела в этом некую непочтительность. Как бы там ни было, она сняла эти рубашки, оттерла их, замочила на ночь, отбелила и прополоскала с синькой, так что в итоге они приняли приличный вид. Осталось лишь несколько черных пятен, которые, по ее словам, были индийскими чернилами, и пара коричневых пятен от крови. Она повесила рубашки под аркой из виноградной лозы, где никто не мог их увидеть. Потом она принесла их и выгладила с невероятным старанием, напевая, а когда закончила, они выглядели настолько достойно, насколько позволяли пятна и боевые раны. Потом она сложила их – они были такие белые и чистые, что походили на мраморные бюсты, – затолкала в мешок из-под муки и похоронила у забора под розами. Мои родители не всегда приходили к единому мнению.
Нужно покопаться там и взглянуть, осталось ли что-то от этих рубашек. Жаль, если когда-нибудь они разложатся, как обычный мусор, после таких трудов. Лично я думаю, было бы лучше сжечь их.
Однажды я набрался смелости и спросил отца, не совершил ли дед какой-то плохой поступок, и он ответил: «Это решит милостивый Господь». И я пришел к мысли, что он наверняка совершил какое-то преступление. Где-то в доме есть фотография деда, сделанная уже в старости, она могла бы помочь тебе понять, почему я так думал. На этом снимке он очень похож на себя настоящего. На фото навечно застыл одноглазый костлявый старик с всклокоченными волосами и кривой бородой, похожей на кисть, которую так и оставили засыхать, не очистив от лака. Дед презрительно смотрит в объектив, как будто его внезапно обвинили в чем-то ужасном и он еще размышляет, как ответить. При этом он отметает вопрос одним лишь свирепым взглядом. Разумеется, нужно испытывать чувство вины в земной жизни, чтобы смотреть подобным образом.
В общем, я был предрасположен верить, что дед совершил нечто ужасное, а отец скрывал доказательства, и я тоже был посвящен в эту тайну, вовлечен, не зная о том, во что именно вовлечен. Что ж, это обычное состояние для человека, полагаю. Я считаю, что был вовлечен, и продолжаю так считать, и считал бы, даже если бы никогда не видел этого пистолета. Я по опыту знаю, что вина может прорваться через малейшее нарушение, и заполонить весь пейзаж, и поселиться в прудах и болотах, ибо она подобна воде. Я полагаю, отец до известной степени пытался прикрыть грехи Каина. Событие, имевшее место в Канзасе, скрывалось за всем этим, как мне было известно в то время.
После того как убили того фермера, все дети, которых я знал, стали бояться доить коров. Они делали это, заставляя корову становиться между собой и дверью, если корова благоволила слушаться. Но коровы щепетильны в таких мелочах и часто не подчинялись. Младших сестер, братьев и собак выставляли у коровника в темноте, чтобы выслеживать незнакомцев. Это продолжалось годами, история передавалась из уст в уста новым поколениям, до тех пор, пока убийца, кто бы он ни был, не состарился. Моему отцу пришлось взять на себя обязанность доить корову, потому что брат слишком торопился, облегчая вымя, и корова стала давать меньше молока. Потом пошли слухи, как будто кто-то прятался в курятнике, и дети стали бояться собирать яйца и не замечали их или разбивали, потому что торопились. Потом кого-то заметили в сарае для дров, в погребе и на чердаке. Удивительно, как изменилось это место и как настойчиво слухи циркулировали среди детей, особенно маленьких, которые не помнили, как все было до убийства, и думали, что бояться естественно. В те дни домашние обязанности действительно много значили, и если каждая ферма в трех-четырех округах теряла по пинте молока и паре яиц через день на протяжении двадцати лет, то, можно сказать, эти лишения были весьма существенны. Не знаю, быть может, дети до сих пор слышат эту старую историю и боятся выполнять домашние обязанности, продолжая подрывать местное благоденствие.
Любой из нас пулей вылетал из сарая или коровника, когда мелькала хоть какая-то тень или слышался топот, так что слухи плодились и множились. Я помню, Луиза как-то сказала, что нам стоит помолиться о том, чтобы этот человек встал на путь истинный. Она полагала, лучше обратиться к корню проблемы, нежели молиться о чудесном спасении каждого из нас в случае возможной опасности. А еще это должно было защитить людей, которые никогда о нем не слышали и не подумали о том, чтобы помолиться, перед тем как подоить корову. Это предложение показалось нам по-взрослому разумным, и мы на самом деле все вместе помолились за него, а вот насколько успешно – одному Богу известно. Но если ты или Тобиас услышите эту историю, могу обе-щать: этому извергу уже около ста лет и он больше не представляет угрозы для кого бы то ни было.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































