Текст книги "Евангелие от Дон Кихота. Трагическое чувство жизни"
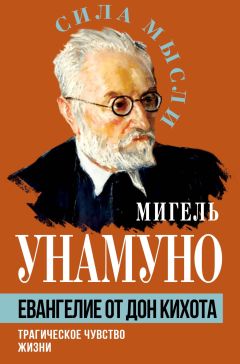
Автор книги: Мигель Унамуно
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Исходный пункт
Возможно, кому-то мои рассуждения покажутся болезненными. Болезненными? Но что такое болезнь? И что такое здоровье?
Быть может, именно болезнь была главным условием так называемого прогресса, и прогресс как таковой есть не что иное, как болезнь.
Кто не знает библейского предания о трагедии, разыгравшейся в Раю? В Раю наши прародители жили в состоянии абсолютного здоровья и абсолютной невинности. Яхве дозволил им вкушать плоды от древа жизни, и все творение было предназначено для них; только одно Он запретил им: вкушать плоды от древа познания добра и зла. Но они, поддавшись искушению змея, который является символом мудрости без Христа, вкусили от плода древа познания добра и зла, и с этого момента они стали подвластны всем болезням, в конце концов ведущим к смерти, их уделом стали смерть, труд и прогресс. Ибо прогресс, согласно этому преданию, возникает в результате первородного греха.
Причем именно любопытство женщины, Евы, любопытство, которое вышло за границы естественной необходимости и потребностей самосохранения, стало причиной грехопадения, а вместе с ним и искупления, которое указало нам путь к Богу, открыло перед нами возможность вернуться к Нему и пребывать в Нем.
Вам хотелось бы услышать версию нашего происхождения? Пожалуйста. Согласно ей, некое существо, которое, строго говоря, было еще не человеком, а разновидностью гориллы, орангутанга, шимпанзе или чего-то в этом роде, страдало водянкой головного мозга или чем-то вроде того. Однажды человекообразная обезьяна произвела на свет детеныша, который, с точки зрения животного или с сугубо зоологической точки зрения, был больным, действительно больным, и эта болезнь оказалась не только недостатком, но и преимуществом в борьбе за существование. В результате появилось единственное в своем роде прямоходящее млекопитающее: человек. Вертикальное положение тела сделало его руки свободными от необходимости опираться на них при ходьбе, благодаря чему могла развиться рука с большим пальцем, противостоящим остальным четырем, приспособленная к манипулированию с предметами и орудиями, а руки, как известно, были великими зачинателями интеллекта.
Все то же вертикальное положение тела дало ему легкие, трахею и рот, способный к артикулированной речи, а слово – это интеллект. И благодаря все тому же вертикальному положению тела, голова оказалась расположенной вертикально поверх туловища, что способствовало увеличению веса и развитию головы, в которой поселилось мышление. Но для этого нужны были кости скелета более крепкие и упругие, чем у видов животных, туловище и голова которых имели четыре точки опоры, и женщина, согласно книге Бытия, виновница грехопадения, вынуждена была, рожая младенца с большой головой, проталкивать ее между более крепких костей. Яхве в наказание за совершенный грех осудил ее рожать своих детей в муках.
Горилла, шимпанзе, орангутанг и их сородичи должны относиться к человеку как к несчастному больному животному, которое к тому же хоронит своих мертвецов. Для чего?
И разве не являются эта первая болезнь и все те болезни, которым она положила начало, самым главным элементом прогресса? К примеру, подагра заражает кровь, занося в нее отходы незавершенного процесса органического сгорания; однако не оказывает ли то же самое заражение крови благоприятное, возбуждающее действие? Разве не способствует эта нечистая кровь, и именно в силу своей нечистоты, более интенсивной мозговой деятельности? Химически чистая вода не годится для питья. И разве не является точно так же физиологически чистая кровь непригодной для мозга вертикально ходящего млекопитающего, которое должно жить за счет мышления?
С другой стороны, история медицины говорит о том, что прогресс состоял не столько в уничтожении возбудителей наших болезней, или, точнее, самих этих болезней, сколько в приспособлении их к нашему организму, возможно, обогащавшим его, в мацерации их в нашей крови. Разве не в этом смысл всех этих прививок и сывороток, разве не в этом смысл иммунизации в течение определенного времени?
Если бы здоровье не было абстрактной категорией, то есть тем, чего, строго говоря, не бывает, то мы могли бы сказать, что абсолютно здоровый человек уже не был бы человеком, а был бы неразумным животным. Неразумным за неимением какой бы то ни было болезни, которая разжигала бы в нем огонь разума. Истинной болезнью, и болезнью трагической, является то, что пробуждает в нас жажду познания ради наслаждения самим познанием, ради удовольствия вкусить от плода древа познания добра и зла.
«Все люди от природы стремятся к знанию». Так начинает Аристотель свою Meтафизику, и с тех пор тысячи раз было повторено, что любопытство, или желание знать то, что, согласно книге Бытия, ввело нашу праматерь в грех, есть первопричина науки.
Но необходимо различать между желанием, или жаждой, знать, по-видимому и на первый взгляд, из любви к познанию самому по себе, между неодолимым желанием вкусить от плода древа познания, с одной стороны, и необходимостью познавать для того, чтобы жить, с другой. Это последнее, дающее нам прямое и непосредственное знание, которое в строгом смысле, хоть это и может показаться парадоксальным, можно было бы назвать познанием бессознательным, является общим для человека и животных, в то время как то, что нас отличает от животных, есть познание рефлексивное, познание самого познания.
Люди много спорили и по сей день, когда мир уже устал от их споров, продолжают спорить о происхождении познания; но пока, оставляя в стороне все то, что будет сказано ниже о глубинных основах существования, остается несомненным и достоверным по крайней мере то, что в сфере явлений, в жизни существ, которые в той или иной мере способны к какому-либо – более или менее смутному – познанию или восприятию или, судя по их действиям, кажутся наделенными такого рода способностями, познание проявляется в связи с потребностью жить и добывать необходимое для жизни пропитание. Оно представляет собой следствие той самой сущности бытия, которая, согласно Спинозе, состоит в стремлении бесконечно пребывать в споем бытии. В терминах, более грубо выражающих эту зависимость, можно сказать, что мозг во всем том, что касается осуществления его функций, зависит от желудка. В существах, которые располагаются на низших ступенях лестницы живых существ, все проявления, связанные с более или менее ясным сознанием, сводятся к действиям, направленным на добывание средств к существованию.
Происхождение познания, которое мы можем назвать историческим, относится к явлениям иного рода. Существа, которые кажутся наделенными восприятием, воспринимают для того, чтобы жить, и они способны воспринимать только то и только в той мере, что и в какой мере необходимо воспринимать для поддержания жизни. Но, может быть, накапливаясь, эти познания, поначалу чисто утилитарные, в конце концов перестают быть таковыми, составив такой капитал, который оказывается гораздо большим, чем это необходимо для жизни.
* * *
Итак, первоначально существует потребность познавать, чтобы жить, а уже из нее развивается познание иного рода, которое мы могли бы назвать избыточным или чрезмерным, которое, в свою очередь, способно создать некую новую потребность. Любопытство, так называемое врожденное стремление к познанию, пробуждается и вступает в действие лишь после того, как удовлетворена потребность познавать, чтобы жить; и хотя иногда в реальных условиях существования человеческого рода это происходит не так, и любопытство выходит за границы потребности познавать, чтобы жить, а наука – за границы потребности утолить голод, тем не менее принципиальным фактом является то, что любопытство выросло из потребности жить, в этом и состоит мертвый груз и грубая материя, которую несет в своем сердце наука; как бы ни стремилась она быть знанием ради знания, знанием истины ради самой истины, потребности жизни остаются в силе, и наука вынуждена служить им, и если люди думают, что ищут истину ради нее самой, то фактически они ищут жизнь в истине.
Многообразие наук обусловлено многообразием человеческих потребностей, и люди науки – все равно, хотят они того или нет, отдают они себе в этом отчет или нет, – как правило работают либо на сильных мира сего, либо на народ, который требует от них удовлетворения своих желаний.
Но разве этот мертвый груз и грубая материя науки не является в действительности, как раз наоборот, внутренним источником ее существования? Фактически дело обстоит именно так, и было бы великой глупостью восставать против самого условия нашей жизни.
Познание служит потребности жить и прежде всею инстинкту самосохранения. Эта потребность и этот инстинкт создали в человеке органы познания и определили границы их возможностей. Человек видит, слышит, осязает, обоняет и ощущает на вкус только то, что ему необходимо видеть, слышать, осязать, обонять и ощущать на вкус для того, чтобы сохранить свою жизнь; в случае ослабления или утраты одного из этих чувств возрастают опасности, со всех сторон окружающие его жизнь, и если, поскольку мы живем в обществе, в условиях общественного состояния эти опасности возрастают не столь значительно, то только лишь по той причине, что одни из нас видят, слышат, осязают, обоняют и ощущают на вкус вместо других. Слепой в одиночку, без поводыря, долго не проживет. Потребность в другом человеке – вот еще одно, поистине общественное, чувство.
В состоянии изолированного индивида человек не видит, не слышит, не осязает, не обоняет и не ощущает на вкус больше, чем это необходимо для того, чтобы жить и сохранять себя. Если он не различает оттенков цвета ниже красного и выше фиолетового, то наверное по той причине, что для сохранения своей жизни ему достаточно тех оттенков, которые он различает. Наши чувства суть не что иное, как аппараты упрощения, устраняющие из объективной реальности все то, что нам нет необходимости познавать для того, чтобы использовать объекты для сохранения своей жизни. В абсолютной темноте животное, если оно не погибает, в конце концов становится слепым. Паразиты живут во внутренностях других животных за счет уже готовых внутренних соков, вырабатываемых организмом этих животных, и поскольку тем самым у них нет необходимости видеть и слышать, постольку они ничего не видят и не слышат, а, превратившись в своеобразный мешочек, существуют, присосавшись к бытию того, за счет кого они живут. Для этих паразитов не должен существовать ни мир видимый, ни мир звучащий. Для их существования достаточно того, что видят и слышат те, которые содержат их в своих внутренностях.
Следовательно, изначально познание служит инстинкту самосохранения, или скорее, как мы уже сказали, сославшись на Спинозу, самой сущности бытия всякой вещи. И здесь следует отметить, что именно инстинкт самосохранения делает для нас реальным и истинным чувственновоспринимаемый мир, ибо из беззвучной и беспредельной области возможного этот инстинкт отбирает и выделяет то, что для нас существует. В действительности для нас существует все то нам так или иначе необходимо познавать, чтобы существовать; следовательно, объективное существование, как мы его познаем, есть нечто обусловленное нашим собственным личным существованием. И никто не может отрицать, что для нас не могли бы существовать и едва ли существуют непознанные – по крайней мере на сегодняшний день, – а может быть, и непознаваемые аспекты реальности, если они совсем не нужны нам для реального сохранения нашего собственного существования.
* * *
Но человек не живет один и является не изолированным индивидом, а членом общества; совершенно справедлив тезис о том, что индивид, подобный атому, есть абстракция. Да, атом вне вселенной – такая же абстракция, как и вселенная без атомов. И если индивид сохраняет свое существование, то только благодаря инстинкту увековечения, присущего ему как члену общества. Из этого инстинкта, а лучше сказать – из общества, произрастает разум.
Разум, то самое рефлексивное и рефлексирующее познание, которое отличает человека от животных и зовется разумом, является продуктом общества.
Своим происхождением разум, по всей вероятности, обязан речи. Мы мыслим членораздельно, или, если угодно, рефлексивно, благодаря членораздельной речи, а эта речь произрастает из потребности передавать свои мысли нашим ближним. Мыслить – это значит беседовать с самим собой, а с самим собой каждый из беседует только благодаря потребности общаться с другими людьми, и в нашей повседневной жизни часто бывает так, что кто-то находит идею, которую долго искал, находит для нее подходящую форму, то есть извлекает ее из тумана смутных ощущении, именно благодаря усилиям, направленным на то, чтобы представить ее другим. Мышление это внутренняя речь, а внутренняя речь произрастает из внешней. Отсюда следует, что разум – способность общественная и коллективная. Факт, чреватый, как нам предстоит увидеть, далеко идущими последствиями.
И если существует реальность, которая, поскольку она познаваема, является творением инстинкта самосохранения и служащих ему чувств, то разве не должна существовать и другая реальность, ничуть не менее реальная, чем первая, реальность, которая, поскольку она познаваема, является творением инстинкта увековечения и особого рода чувств, служащих этому инстинкту. Инстинкт самосохранения, голод, есть основа человеческого индивида; инстинкт увековечивания, любовь в ее самой рудиментарной и физиологической форме, есть основа человеческого общества. И если человек познает то, что ему необходимо познавать ради самосохранения, то точно так же и общество, или человек как существо общественное, познает то, что ему необходимо познавать для того, чтобы увековечить себя в обществе.
Есть один мир, мир чувственный, дитя голода, и есть другой мир, мир идеальный, дитя любви. И так же как есть чувства, служащие познанию чувственного мира, существуют чувства – в наше время большей частью спящие, потому что едва ли уже забрезжил рассвет социального сознания, – служащие познанию мира идеального. Так почему же должны мы отрицать объективную реальность творений любви, инстинкта увековечения, в то время как признаем объективную реальность творений голода, или инстинкта самосохранения? Если про них говорят, что они – не более, чем наши фантазии, не имеющие статуса объективной реальности, то разве нельзя сказать то же самое о том, что является не более, чем продуктом творчества наших ощущений? Кто возьмется доказать, что не существует мира невидимого и неосязаемого, воспринимаемого нашим внутренним чувством, которое служит инстинкту увековечения?
Человеческое общество, как таковое, имеет чувства, которых индивид сам по себе, помимо общества, лишен, точно так же как этот индивид, человек, который, в свою очередь, тоже представляет собой своего рода общество, имеет такие чувства, которых лишены клетки, из которых он состоит. Например, слепые клетки слуха в своем смутном сознании должно быть не подозревают о существовании видимого мира, и если бы им сказали о нем, они наверняка расценили бы это как произвольное творчество глухих клеток зрения, которые, в свою очередь, будут считать иллюзией мир звуков, созданный слепыми клетками слуха.
Как мы уже говорили, паразиты, живя во внутренностях более высокоразвитых животных за счет внутренних соков, которые вырабатываются организмом этих животных, не нуждаются ни в зрении, ни в слухе, и тем самым для них не существует ни мир видимый, ни мир звучащий. Если бы у них было настоящее сознание и они могли отдавать себе отчет в том, что тот, в чьих внутренностях они живут, верит в существование иного мира, они бы наверняка сочли это бредом его воображения. Точно так же существуют и паразиты социальные; получая от общества, в котором они живут, мотивы своего морального поведения, они отрицают, что вера в Бога и в будущую жизнь необходимы для добропорядочного поведения и благопристойной жизни, и отрицают потому, что общество уже приготовило те духовные соки, за счет которых они живут. Отдельный индивид может переносить жизнь и прожить ее достойно и даже героически, никоим образом не веруя ни в бессмертие души, ни в Бога, но только лишь по той причине, что он прожил жизнь духовного паразита. То, что мы называем чувством чести, есть продукт христианства, даже у тех, кто христианство не исповедует. Я больше скажу, если в каком-нибудь человеке вера в Бога соединяется с моральной чистотой и высотой, то не столько потому, что вера в Бога делает его добрым, сколько потому, что будучи добрым, он, слава Богу, вынужден верить в Него. Доброта – прекраснейший источник духовной прозорливости.
Конечно, когда я говорю о том, что человек творит чувственный мир, а любовь творит мир идеальный, когда я говорю о слепых клетках слуха и глухих клетках зрения, о духовных паразитах и так далее, мне могут возразить, что все это лишь метафоры. Да, это так, мыслить при помощи метафор, – ни на что иное я и не претендую. Ведь это социальное чувство – дитя любви, отец членораздельной речи и разума, а также идеального мира, который из него возникает, – есть, в сущности, не что иное, как то, что мы называем фантазией и воображением. Из фантазии произрастает разум. И если она считается способностью, которая своевольно измышляет образы, то что означает это своеволие, спрашиваю я; во всяком случае наши чувства и разум тоже вводят нас в заблуждение.
Нам нужно понять, что такое эта внутренняя социальная способность, воображение, которое все персонализирует и, призванное служить инстинкту увековечения, открывает нам бессмертие души и Бога, так что в этом смысле Бог является продуктом общества.
Но об этом позже.
* * *
Итак, для чего люди философствуют? То есть для чего они спрашивают о первоначалах и последних целях вещей? Почему они стремятся к бескорыстному познанию истины? Потому, что псе люди по природе стремятся к знанию. Ладно, это понятно. Но для чего?
Философы ищут теоретический, или идеальный, исходный пункт для своей человеческой работы, для своего философствования; но, как правило, они пренебрегают своей обязанностью найти практический и реальный исходный пункт своей философии, ее цель. Какой смысл создавать философию, продумывать ее, а затем излагать ее своим ближним? Чего ищет в ней и чего хочет от нее философ? Истины ради самой истины? Истины ради того, чтобы положить ее в основу нашего поведения и определить в соответствии с нею нашу духовную позицию по отношению к жизни и вселенной?
Философия это человеческий продукт каждого философа, а каждый философ – человек из плоти и крови, который обращается к другим таким же, как и он, людям из плоти и крови. И хочет он того или нет, но философствует он не только разумом, но и волей, чувством, плотью и кровью, всею душой и всем телом. Философствует человек.
И мне не хочется употреблять здесь слово «я» и говорить, что философствует философское я, а не человек, чтобы не пугать это конкретное, определенное я, я из плоти и крови, которое страдает от зубной боли и находит жизнь невыносимой, если смерть означает уничтожение личного сознания, чтобы не путать его с совершенно другим я, с проникшим сюда контрабандой Я с большой буквы, с теоретическим Я, которое ввел в философию Фихте, так же как и с «Единственным» Макса Штирнера. Лучше было бы сказать не «я», а «мы». Но только мы конкретное, определенное в пространстве.
Знание ради знания! Истина ради истины! Это бесчеловечно. И если мы говорим, что теоретическая философия имеет свою цель в практике, истина – в пользе, наука – в морали, то я скажу: ну а польза, для чего она? Разве она – цель в себе? Полезное это то, что способствует сохранению, увековечению и обогащению сознания. Польза имеет свою цель в человеке, в сохранении и совершенствовании человеческого общества, которое состоит из людей. Ну а это последнее для чего? «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла служить нормой поведения для всех людей», – говорит нам Кант. Все верно. Но для чего? Во всем надо искать это самое для чего.
В исходном пункте, истинном – практическом, а не теоретическом – исходном пункте, всякой философии есть некое для чего. Философ философствует не только для того, чтобы философствовать: так как философ – сначала человек, а уж потом только философ, он должен жить, тогда только сможет он философствовать, и фактически философствует он для того, чтобы жить. Как правило, он философствует или для того, чтобы примириться с жизнью, или для того, чтобы найти в ней какой-то смысл, или чтобы отвлечься и позабыть о своих невзгодах, или из спортивного интереса и для забавы. Хорошим примером этого последнего служит Сократ, этот несносный афинский ироник, о котором поведал нам Ксенофонт в своих Воспоминаниях: он представил свою философию куртизанке Феодоте таким образом, что та попросила его помогать ей в ловле любовников и быть при ней другом дома, одним словом, сводником. Дело в том, что фактически философия нередко превращается в искусство сводничества, но только духовного. В иных же случаях она превращается в опий для утоления печалей.
Возьмите, к примеру, человека Спинозу, этого португальского еврея, которого судьба забросила в Голландию; прочтите его Этику, воспринимая ее такой, как она есть, читая ее как преисполненную отчаяния элегическую поэму, и скажите мне, разве не слышится в ней доносящееся из-под точных, и на первый взгляд, невозмутимых теорем, скорбное эхо пророческих псалмов? Это не философия смирения, но философия отчаяния.
Когда он писал, что человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни – когда он это писал, то, не менее чем кто-либо, чувствовал себя рабом, он думал о смерти и писал для того, чтобы освободиться от этой мысли, хотя желание освободиться от нее было тщетным. Точно так же, написав теорему XLII части V, согласно которой «счастье не есть награда за добродетель, но сама в себе добродетель», он не чувствовал уверенности в том, что писал. Ибо люди для того и философствуют, чтобы убедить самих себя, хоть и не достигают никогда этой цели. Это желание убедить себя, то есть превзойти свою собственную человеческую природу, и есть истинный внутренний исходный пункт большинства философских доктрин.
Откуда я и откуда мир, в котором и которым я живу? Куда я иду и куда движется все то, что меня окружает? И что все это означает? Вот о чем спрашивает человек по мере того, как он освобождается от отупляющей необходимости поддерживать свое материальное существование. И если мы присмотримся повнимательнее, то увидим, что за этими вопросами кроется желание знать не столько почему, сколько для чего желание знать не причину, но цель. Как известно, Цицерон определял философию как «знание вещей божественных и человеческих, и причин, в которых они содержатся», rerum dimiarum et humanarum, causarumque quibus hae res continentur, но в действительности, все эти вещи суть для нас цели. И что такое Первая Причина, Бог, если не Высшая Цель? Нас интересует почему только с точки зрения для чего; мы хотим знать, откуда мы пришли, только для того, чтобы как можно лучше понять, куда мы идем.
Эту дефиницию, сформулированную Цицероном, а значит стоицизмом, можно обнаружить также и у такого величайшего интеллектуалиста, как Климент Александрийский, канонизированый Католической церковью. Она сформулирована в главе V книги первой его Стромат. Но этот же самый христианский – христианский? – философ в главе XXII книги четвертой Стромат говорит, что для гностика, то есть интеллектуала, должно быть достаточно, познания, гнозиса, и добавляет: «И я беру на себя смелость сказать, что вовсе не из желания спастись избирает познание тот, кто занимается познанием самого Бога; познание стремиться – посредством опыта – познавать всегда; но такое бесконечное познание, представляющее сущность познания через нескончаемое заблуждение и как вечное созерцание, остается живой субстанцией; если бы кто-нибудь предложил интеллектуалу определить, чему отдал бы он предпочтение: познанию Бога или вечному спасению, и если бы эти вещи, по сути своей являющиеся скорее одним и тем же, можно было разделить, он без колебаний выбрал бы познание Бога». Так пусть же Он, тот самый Бог, которого мы страстно желаем обрести и иметь вечно, избавит нас от этого гностицизма, или клементова интеллектуализма!
Почему я хочу знать, откуда я пришел и куда иду, откуда и куда движется все, что меня окружает, и что все это значит? Потому что я не хочу умереть полностью и окончательно, и хочу знать наверняка, умру я или нет. А если не умру, то что со мною будет? Если же умру, то все бессмысленно. На этот вопрос есть три ответа: либо а) я знаю, что умру полностью и окончательно, и тогда – безысходное отчаяние, либо b) я знаю, что не умру, и тогда – смирение, либо с) я не могу знать ни того, ни другого, и тогда – смирение в отчаянии, или отчаяние в смирении, и борьба.
* * *
«Лучше бросить думать о том, чего все равно невозможно знать», – скажет какой-нибудь читатель. Но разве это возможно? В своей прекраснейшей поэме Древний мудрец (The ancient sage) Теннисон говорит: «Ты не можешь доказать неизреченное. Ах, сын мой, ты не можешь доказать и мир, в котором ты живешь; ты не можешь доказать, что ты только тело, и не можешь доказать, что ты только дух, так же как и то, что ты единство тела и духа; ты не можешь доказать, что ты бессмертен, но и того, что ты смертен тоже; да, сын мой, ты не можешь доказать, что я, беседующий с тобою, не есмь ты, беседующий с самим собой, ибо ничто достойное доказательства не может быть ни доказано, ни опровергнуто, а посему будь благоразумен, всегда держись той стороны, которая лучше освещена солнцем сомнения и восходи к Вере, оставляя в стороне формулы Веры!». Да, наверное, как сказал мудрец, ничто достойное доказательства не может быть ни доказано, ни опровергнуто.
Но разве можем мы обуздать этот инстинкт, заставляющий человека стремиться к познанию и особенно к познанию того, что побуждало бы нас жить и жить вечно? Вечно жить, а не вечно познавать, как александрийский гностик. Ибо жить и познавать – это разные вещи, и, как мы видели, между ними, наверное, есть такое противоречие, исходя из которого, мы могли бы сказать, что все живое антирационально, а не только нерационально, а все рациональное – антижизненно. Это и есть основа трагического чувства жизни.
Беда рассуждения Декарта о методе не в предварительном методическом сомнении; не в том, что он начинает с того, что хочет все подвергнуть сомнению, которое является всего лишь методом; беда в том, что он хотел начать, абстрагируясь от самого себя, Декарта, от реального человека, то есть человека из плоти и крови, который не хочет умирать, он хотел быть чистым мыслителем, то есть некоей абстракцией. Но реальный человек вернулся и контрабандой проник в его философию.
Человек Декарт не менее, чем кто-либо, надеялся обрести путь на небеса; «но узнав, – пишет он, – как вещь вполне достоверную, что путь этот открыт одинаково как для несведущих, так и для ученейших, и что полученные путем откровения истины, которые туда ведут, выше нашего разумения, я не осмеливался подвергать их моему слабому рассуждению и полагал, что для их успешного исследования надо получить особую помощь свыше и быть более, чем человеком». И тут он человек. Тут он человек, который, слава Богу, не был в гаком положении, чтобы делать из науки ремесло для обеспечения своего благосостояния, и который не считал себя обязанным презирать славу, как это делают циники.
И далее он повествует о том, как, находясь в Германии и оставшись один в теплой комнате, он начал философствовать о своем методе. В Германии, но оставшись один в теплой комнате! Дело в том, что это рассуждение человека из теплой комнаты, и к тому же из немецкой теплой комнаты, а между тем философ, оставшийся п ней один, был французом, который надеялся обрести путь на небеса.
И он приходит к cogito ergo sum, которое предвосхитил уже Блаженный Августин; но ego, подразумеваемое в этой энтимеме ego cogito, ergo ego sum, есть некое ego, некое ирреальное, или, если угодно, идеальное, я, и его sum, его существование, это тоже нечто ирреальное; «я мыслю, следовательно я существую» нельзя понять иначе, как «я мыслю, следовательно я есмь мыслящий»; бытие этого я еcмь, которое выводится из я мыслю, есть не более, чем мышление; это бытие есть мышление, а не жизнь. Изначальным же является не то, что я мыслю, а то, что я живу, ибо тс, кто мыслит, тоже живут. Хотя эта жизнь не есть подлинная жизнь. Боже мой, сколько же противоречий возникает, как только мы хотим соединить жизнь и разум узами брака!
Истина в том, что sum, ergo cogito, «я существую, следовательно, я мыслю», хотя не все то мыслит, что существует. Разве осознание мышления не должно быть в первую очередь осознанием бытия? Разве возможно чистое мышление без самосознания, без личности? Разве возможно чистое познание без чувства, без той специфической материальности, которую сообщает ему чувство? Разве мышление не чувствует, и разве тот, кто познает и хочет познать самого себя, одновременно с этим себя не чувствует? Разве не мог человек из теплой комнаты сказать: «Я чувствую, следовательно, я существую»; или: «Я хочу, следовательно я существую»? И не является ли это самочувствование – чувством непреходящим? Разве хотеть самого себя не значит хотеть существовать вечно, то есть не хотеть умирать? Разве не является то, что печальный еврей из Амстердама называл сущностью всякой вещи, стремление бесконечно пребывать в своем существовании, любовь, жажда бессмертия, первейшим и фундаментальным условием всякого рефлексивного, или человеческого, познания? И тем самым не будет ли это истинным основанием, истинным исходным пунктом всякой философии, несмотря на то, что философы, развращенные интеллектуализмом, этого не признают?
Кроме того именно cogito вводит одно различие, которое, будучи и в самом деле плодотворным, вместе с тем создавало путаницу. Это различие между объектом, cogito, и субъектом, sum. Едва ли вообще существует такое различие, благодаря которому не возникало бы путаницы. Но к этому мы еще вернемся.
А пока давайте остановимся при этом на предположении о том, что жажда не умирать, голод по личному бессмертию, наше усилие бесконечно пребывать в своем собственном существовании, которое, согласно трагическому еврею, является самой нашей сущностью, это есть аффективная основа всякого познания и внутренний, личный исходный пункт всякой человеческой философии, человеком созданной и для людей предназначенной. Мы увидим, что решение этой внутренней, аффективной проблемы, решение, которое может быть и отчаянным отказом от ее решения, оказывается тем, что окрашивает все остальное содержание философии. Даже под так называемой гносеологической проблемой кроется не что иное, как этот человеческий аффект, так же как под исследованием «почему», причины, кроется не что иное, как искание «для чего», цели. Все прочее – либо самообман, либо попытка обмануть других. И попытка обмануть других ради того, чтобы обмануть самого себя.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































