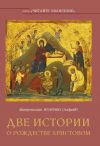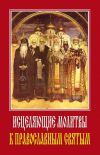Текст книги "Имя Твоё"

Автор книги: Михаил Богатов
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Часть вторая
в которой мы узнаем подробности о податливости девушек, изображаемых на винных этикетках, почему не надо баловаться фарами дальнего света, как возбудиться на линию разметки автодороги, о продуктивности тонального крема для утаивания недостатков лица, удалось ли свидание у кота – и кое-что еще
Это как же поле это бесконечное перейти-то можно, кто же сподобится на подвиг сей заведомо безвестный и неблагодарный, а стало быть, и не на подвиг вовсе, а так, на мытарства пустынные, кто же жизнь свою единственную, Господом на спасение души дарованную, а матерью и отцом, земными родителями, на что непонятно, но уж точно не для этого, и это определённо, кто же встанет на эту гладь, лишь издалека гладью выглядящую, а на самом деле всю изрытую котлованами и насыпями нанесённую, которую историей чужой жизни назвать можно только не понимаючи о чём говоришь и что называешь, кто же погрузится в эти бесконечные переходы, якобы любому открытого простора, да и не так притом, чтобы праздно шататься, а так, чтобы самому форму этих рытвин принять и полем этим самому стать, кто попробует в отношении чужой жизни, коль своя такое же поле, и лишь иногда, когда ко сну отходишь и из детства что-то знакомое всплывает, так ухватишься, дабы в сон протиснуться, а там, глядь, такие живописные пейзажи и живые натюрморты за портретами мёртвыми скрываются, что только диву даёшься, неужто всё это сам ты переживал и во всём этом участвовал, и понимаешь тогда, что жизнь тобой уже прожитая поле тобой же неперейдённое составляет, и ровного места на нём ни одного нет, и всегда уже всё заполнено и изрыто и насыпано и зарисовано и засказано так, что и за жизнь оставшуюся не перейти прожитого, даже если осталось дольше чем прожил жить, и находит до тебя разумение дивное о полном неведении того, что ты есть, и это при полном ведении того, кто ты в смысле как звать тебя, где родился и прочие подробности так называемые автобиографические, упомянуть кои в силах, а что это всё такое, и даже не в целости, а по частям неведомо, и неведомо даже, что за части у этого тебя разорванного были и не были даже, а всегда тут наготове пребывают, наготове да не для тебя, а ты в них исключительным дезертиром или же туристом непонимающим пребываешь, безвестным господином среди слуг, либо же даже подглядывающим, стало быть, за интимностью своей же любящим подсматривать и видеть при этом, что интимность эта сама собой пребывает и тебе нисколько не принадлежит, а кому принадлежит не ведаешь, и ужас уже овладевает, ибо не ведаешь никакого кого-то, кто всё это вынести сможет, ну не Господь же в самом деле, нельзя ведь всуе упоминать, хотя вовсе это не суя никакая, кто понимает поймёт, а кто нет нет, и суда, как говорится, нет, и туда, как не говорится, никак, кто же это в отношении другого на себя взять сможет, кто может быть настолько туп или самоуверенно силён, хотя почему или, здесь и обычное, кто жизнь отца Георгия так перейти сможет как свою он сам никогда, кто как не отец Дмитрий, и если не сможет даже, то должен наверное, и деться ему некуда, некуда, а он вон делся, и даже вроде замысла этого не наблюдает в величии оном, и занят всё житейскими делами да разговоры смутительные ведёт, и это в Пасхи-то канун, пятница Страстная ведь. Отец же Георгий, вместо службы церковной в день такой прискорбный, обязательна которая для всех служителей Господних, да и не для них одних, а для всех верующих вообще, предписывается небом самим и Писанием Священным, не на службе он, а рясу свою придерживая, через ограду невысокую переступает аккуратно, газон призванную от таких как он ограждать, дабы трава молодая, пока весна хотя бы, ещё зелениться могла, переступает отец Георгий через ограду, дабы путь себе скостить, и опять же не в дом Божий спешит он, а в магазин продуктовый путь держит, и что-то при этом себе под нос, вполголоса, приговаривает.
И, стало быть, вина покупает отец Дмитрий, и не церковного даже для причастия хотя бы предназначенного, и правильно, откуда в магазине для мирских нужд предназначенном, вино причащающее быть может, хотя ведь продают там вино с лицами монахов из кинематографа взятыми, в первую очередь, ибо кто же лицо настоящего монаха на бутылку спиртного напитка поместить осмелится, оную же никто после этого не купит, а вот с лицом актёра какого признанного, в капюшоне бенедитинском, непременно, а помимо лиц таких псевдомонашьих ещё и храмы часто на этикетках встречаются, а на дешёвых винах бывает даже говорится, и это независимо от выведенного на них в остальном, вино освещено церковью Православной или же самим патриархом, что одно и то же чаще всего, ибо ведь не может церквушка хоть какая убогонькая денежку зарабатывать, не отчисляя при этом тому, кто прикрывает её сверху, и притом Господом вовсе не являясь; ан нет, такого вина отец Дмитрий, хотя и в одежды церковные чёрные облаченный ныне, пятница Страстная ведь, и в магазин войдя, такого вина не покупает, а покупает бутылку вина испанского и другую бутылку вина французского, красного и белого, но сухого и не креплённого, не мадерного, непременно, куда дороже всех монахов кинематографических, патриархами неизвестных церквей освященных. А ежели кому интересно, в чём сомневаться без сомнения смело любому читателю и слушателю настоятельно требуется, что на них изображено, то изображено на них вот что было: на вине испанском, этикетки бежевого цвета, чёрным по ней очертания замка какого-то заграничного изображены, а ниже название неведомое было, будто от руки писанное, хотя понятно что никто не будет бесчисленное количество таковых этикеток от руки писать да так ещё, чтобы все одинаково выглядели и смотрелись притом, название будто от руки писанное то ли замка этого, то ли местности, этот замок в себя вмещающей, ведь известно что замки европейские именуются тремя способами различными, друг с другом иногда в себе сочетающимися, по имени владельца, по названию местности, каковое до всяких владельцев сложилось у земли тамошней или же по другим причинам, им имя дарующим, последние же весьма и весьма замысловатыми быть могут, то есть далеко-далеко от мысли находиться, так что мысль никакая вразумительная до них добраться не может, ведь понятно только почему Бог Бог, Адам Адам, и Ева Ева, а всё остальное неведомо вовсе, Каин исключение и то в бреду лишь, и даже наука особая алхимическая вполне на этот счёт есть средь искусств словесных, этимологией зовётся, хотя сама она приходит на помощь там, где по уму, как иногда могли бы говорить, уже не понять ничего в сказанном; да-да, красное с замком, и кабы глянул отец Дмитрий на этот замок, то мы бы призадуматься и вспомнить о замке Кафкином смогли бы, которого на картине никто и не видел ни в глаза, ни в другие органы тем паче, а всегда воочию издали лишь, по смутным очертаниям, и то Иосиф с К. инициалом, что означает не отца земного Иисуса, хотя какой он отец, если к Марии не притрагивался до, хотя зависит это всё от разночтений в слове дева, девственница или же просто баба молодая, ибо даже не плотничал этошний Иосиф, а лишь на словах землемерствовал и, стало быть, на земле, словобросался; Иосиф замок этот видел, да не попал туда, текст ведь не дописан, как Броды всякие полагали, не ведая, что писать дальше нельзя по написанному уже, даже будь написан полностью, вряд ли бы Иосиф в замок этот смутный попал, такова ведь судьба всякого, словами землю мерящего, да еще и с библейским именем, немецким языком на свой лад приспособленным; а этот вот замок всякий, вино такое пьющий, видит в весьма чётких очертаниях его, и видит его на горе стоящим также, но видит так, будто сам на соседней горе в таком же точно замке уже сидит и будто всё уже обо всех на свете замках знает, чего не скажешь об Иосифе К., и знает не смутно, а чётко, только от знания своего желания туда попасть уже не испытывающий, ибо никак не связана жизнь смотрящего на чёткость замковую с господами из замка этого, и любого другого, поскольку сам он уже от рождения господствует, по меньшей мере в своём пьяном состоянии, и с вином потому связана жизнь эта вполне, хотя и ненадолго: бутылка пусть и дорогая, да всё ж таки меньше литра, долго не разопьёшься, и не желает туда попадать ещё потому, что рисунок графический и весьма схематичный, да и придал ему художник намеренно черты небрежности некоторой, линией он будто одной выведен, да только рука неужто дрожала, хотя очень умело, сказать надо непременно, дрожала, так, что жизнью эту графику, насколько для графики это вообще возможно, насколько это для чёткого очертания неведомого, хотя вероятнее Иосифиного существующего замка, возможно; увидел бы это всё отец Дмитрий, если бы этикетку красного им сухого вина рассматривать и рассмысливать вздумал, но этого он не сделал, а мы за него смогли лишь в меру сил наших убогих, и не потому что наши силы сейчас у Бога, а потому, что никчемны мы для дела этого серьёзного; на второй бутылке вина, но не мокрее первой по сахара в нём содержанию, не слаще стало быть, хотя как известно действие иное оказывающее, нежели красное, другая картина предстать взору могла бы, если бы предстала, однако не предстала: цветная, с девушкой среди цветков различных лицом своим изображённой с частью грудей её обнажённых, причем упрятал кто-то барышню эту за набросанные сразу же по ту сторону этикетки, поближе к зрителю возможному расположенные, а в нашем случае невозможному, ибо не стал отец Дмитрий смотреть на неё так же, как не стал смотреть он на замок чёткою линией выведенный, лицо частично и соски ее полностью цветами заваленные, цветами полевыми, да столь радостное лицо, сколь и заваленные соски, что васильки прямо в рот заваливаются, а фиалки прямо из подмышек ее бритых растут, хотя вряд ли девушка эта неизвестная по имени столь ретиво в этикетку при жизни своей улыбалась, хотя что это мы о ней в прошедшем, как будто она вослед отцу Георгию уже отправилась; мы так только оттого, что теперь она себе не принадлежит, а всякому пьющему такое вино вот принадлежит, и то без части лица и с грудями без сосков, но, скорее всего, вообще такой девушки никогда и не существовало, ибо лицо её и груди такие усреднённые, не в пример лицу и груди Марфы нашей, нигде тип этот средний не существует и сам собой существовать не может, а потому именно большая часть девушек живых так походит на него, а ещё большая часть этой самой большей части стремится всячески походить на него, дабы что-то с лицом своим, Богом данным и с грудями своими, совершить; и ежели эта самая, в силу своего несуществования, никогда ни в какую этикетку и не улыбалась, то живые и посему существующие, в своём стремлении на эту несуществующую походить, ещё как в этикетки своими подправленными губами лыбятся, и к бутылкам своими подправленными грудями льнут, и ежели кто вино им такое купит, вкусное и дорогое, тем самым их единственно представимому благополучию замечательно способствует, за что так улыбаться они готовы, что не только васильки, кактусы готовы в рот себе и на грудь нацепить полностью, даже с иглами, с землёю, благо корни у кактусов не очень большие; и ежели поглядел бы отец Дмитрий на эту этикетку, то подумал бы о том, наверное, что о девушках нельзя как о почивших, а всегда лишь как о грядущих думать и говорить надобно, и подумал бы он так потому, что в гости вознамерился идти, для чего вино и сигареты разные покупает, и не иначе как к девушке какой, и это он-то, сигареты ведь дамские там среди прочего, и это священник-то в пятницу Страстную. А как сочеталась бы мысль о всегда грядущих девушках с замком Иосифа небиблейского, этого мы за отца Дмитрия сказать не можем даже предположительно, без того, чтобы он сам этого даже не подумал, и хотя бы подумать собрался, но он этого думать, судя по всему не желает, кладет аккуратно бутылки в портфель из кожи коричневый; а то, что это всё со Страстной пятницей не сочетается, ни девушки, ни замки, оплоты греха в различных прочтениях, ежели Августина блаженного здесь было бы к месту упомянуть, любил ведь он аллегории читать везде, то есть смыслы одинаковые в различных вещах видеть, и нельзя было сказать о замках и о девушках как о разных ипостасях греха, ибо нет у греха ипостасей, знает это всё отец Дмитрий, и об Августине, и о грехах различных, и знает, что не сочетается это всё вместе вообще никак, но и об этом он нахально не думает, а спрашивает о только что упомянутых сигаретах дамских, тонких с пониженным содержанием никотина, и о сигаретах обычных крепких, мужских стало быть, ведь мужчины обычны, крепки и сигаретны, продавщицу благодарит, визиту священника не удивившуюся нисколько, в день-то такой, ибо день какой она не помнит, причин у нее к этому нет никаких, знает и помнит лишь, что через два дня Пасха, стало быть Праздник Светлого Воскресения Господнего, стало быть, после смены уборку надо генеральную дома сотворять, ибо так принято, а назавтра, заутрене, куличи ставить, а то что Пасха не в куличах и в уборке, знает она превосходно, однако вовсе не в истине божественного Воскресения Пасха её заключается, не это она знает, и ежели кто-нибудь напомнит ей об этом, она и слышать ничего не пожелает, а потому отец Дмитрий ни о чём и не напоминает ей, скорее же всего, не потому не напоминает, что она не знает, а почему не напоминает, сам не ведает, ибо торопится; продавщицу не удивил бы визит священника, даже помни она о мученичестве и распятии, а также светлом Воскресении из мёртвых Христовом, ибо знает она неплохо, что все люди люди, и ничто человечье им не чуждо; плохо она это знает вообще-то, но для неё неплохо, выпить и покурить, вина то есть хорошего испить и сигарет дорогих выкурить, не просто человечьим, но ангельским для неё предстаёт ныне, это ведь помимо куличей и уборки о Пасхе она знает, что муж её опять исчез куда-то, хоть сегодня спокойно уберусь, а на утро тесто сумею поставить, здорово, что на Пасху поменялась, лишь бы как на прошлую из-за дурня этого драки с отцом не вышло, а ещё хуже стало бы, ежели сюда бы ко мне припёрся, на смену мою, перед людьми стыдно, лучше уж дома отсидеть и перетерпеть, перелюбить стало быть, глядишь на этот год пронесёт и будет Христос воистину Воскресе хоть раз в моей жизни, воскресе как миленький, думает продавщица и улыбается, говорит же вслух: не за что, и уходит отец Дмитрий тихо-тихо, а она ещё вослед долго смотрит, будто в лице и теле священника дарована была ей надежда на воскресение Господне в её взрослой жизни; и неведомо ей, что покупает священник вино в пятницу Страстную не потому, что ему ничто человечье не чуждо, но, напротив, потому что отцу Дмитрию давно уже, а ныне как нельзя более, чуждо всё человеческое. Иначе не выбрали бы его дела отца Георгия вести, иначе не намеревался бы он вино это в словоохотливом землемерии своем со всегда будущими девушками распивать в пятницу эту роковую.
А пока отец Дмитрий следует неизвестно нам куда, почти неизвестно, ибо отчасти нам из покупок, на которые внимание им должное обращено не было, пришлось нам отдуваться, вот мы и отдулись как смогли, мы же не стеклодувы, но своё теперь непременно обратно забрать хотим, частично известно, что к девушке какой-то вознамерился идти, а будут ли они наедине общаться, или же кто ещё там, обычно мужски и сигаретно обретётся, не ведаем, и к чему это вообще всё не ведаем, а ведаем, напротив, что ни к чему всё это, супротив ведомого ведаем стало быть, а самого ведомого не ведаем, хотя ведать очень даже хотели бы, клянемся, знаем нельзя клясться, но ведь и вино с сигаретами в пятницу эту нельзя, как и в любую другую, а в эту тем паче, что мы, хуже других что ли, нет, ничуть не хуже, да и сказать о нас что угодно можно, никаких ведь нас по сути нет вовсе, без сути имеемся лишь, да и зачем мы какие-то вообще нужны, ведь даже не имеясь, в сообществе нашем неподлинном отца Георгия пережить смогли, и кого хочешь переживём, а даст нам Господь, и отца Дмитрия переживём, а коли не даст, то пусть сначала найдет, чтобы не дать нам, несуществующим ещё крепче, чем та девушка с этикетки, пусть попробует найти, дабы сделать отца Дмитрия нас переживающим, ничего не выйдет, нас бумага прочно хранит, ведь редко Господь даже с бумажного листа библейского своплощаться в мир наш умеет, Иисус это случай единичный, хотя отнюдь и не случайный, а очень даже необходимый, а посредством снов мы уже наблюдали какие чёртовы выкрутасы проникают, ежели кто им всерьёз в жизни нашей взрослой доверится; и ежели имеется рассуждение Тертуллиана более к снам благоволящее, в трактате о душе именуемом, так там же опять слова только одни, латинские или в переводе каком, слова и не более, а более слов ничего и нет. Обезопасившись от Господа таким образом, на словах опять же, стало быть, надобно спросить о героях повести этой вялотекущей и ничтожной, спросить: что же мало так их, а те, что есть, что же они нас своими действиями не очень радуют, лишь повсеместно своей бездеятельностью печалят, в смысле разочарования развлекательного только, какая же иная печаль от буковок на бумаге исходить может, ведь не документ это о смерти, рождении, собственности или письмо о любви, ненависти или выгодном дельце, к нам обращённое, и не счёт нам за жилище наше скорбное, домовладельцем присланный, в общем, нет ничего от живого человека какого к нам и именно нам обращённого, ведь автор не является живым человеком для читателя, сидит в своем нигде летнем и пишет из ничейного ниоткуда, опровергая язычески творение христианское из ничего, ведь не может же это всё Всевышним быть вдохновлённым, или же берёт этот автор несуществующий сор всякий, да и то, когда стихи сочиняет, ещё чего не хватало, давайте ещё стишки здесь нарифмуйте или наверлибрируйте заметки свои незначительные о поездках на работу, лучше уж увольте, а поскольку увольнять некого, то с просьбой не просто считаться приходится, и на вопросы не просто отвечать, а чудесно и в крайней степени необычайно считаться, без правил арифметических считаться, да и отвечать за пределами слов человеческих, и это там-то, где ничего кроме слов и расчёта быть не может; ведь высчитано же на этом листе очередное окончательное раздражение среднего читателя и слушателя, словами лишь его неудовольствие и вызвано, у среднего несуществующего читателя автором, которого нет: будто два зеркала поставленных одно другого напротив, всё возможное и ничего из существующего враз отражающих и друг другу кажущих, пока никто не смотрит на них, а ежели кто башку свою любопытную сюда промеж них всунет, дабы хоть одним глазком взглянуть, что же тут творится такое, то мы и размножим голову его незадачливую в бесконечность одиночества его, и ничего кроме морды его любопытствующей не покажем ему, и это всё мы, которых нет вообще-то. Вот мы изловчились и приноровились друг к другу, чуть хотя бы, ушли раздражения, головы любопытствующие бесконечностью размозжили, и отчёт дать можем вполне: людей тут мало, да ничуть не меньше, чем людей живых за пределами буквенными, ведь тела и мясо, нами там видимые на улицах ещё очень далеки от того, чтобы человеками живыми и полными предстать могли, живыми и полными бывают редко, человек загадка ведь, это только и полно, и живо, а то что имеющиеся здесь не действуют, не делают ничего, не виноваты мы, давайте терпеливыми будем, хотя и нетерпеливым угождать надо время от времени, и выдавать изредка мелочи, ничего не значащие, выдавать за дела важнейшие необходимо уметь, это вполне мы умеем, а потому не надо голову свою в бесконечность двух зеркал интимную вмещать, головой ведь думать можно ещё. А вот перед одним зеркалом можно и безнаказанно лик свой заявить, особо если ты девушка и гостей к себе ждёшь, да не простых, а для тебя важных, даже ежели не понимаешь, что они важны и чем они важны именно, но коли перед зеркалом надолго задержалась, то это тебе и могло бы указать, что, выходит, важно это для тебя же, хотя сопротивляться отчаянно будешь и скажешь, что важно для себя исключительно хорошо выглядеть, а то, что эта важность возрастает неизмеримо как раз перед тем, как на твоё лицо другие, да еще и мужеского пола, взирать будут, коли не вертихвостка и не лесбиянка ты, умолчишь об этом и не заметишь, как вот это пятнышко над губой неожиданное, ну и смотри на свой прыщик, у нас нет сейчас желания тебя же тебе самой научать, против воли к тому же: хочешь верить, что ради себя всё делаешь исключительно, так и верь, нашла во что верить, и не дура ведь, обидно, право слово, хотя, помимо желания, уже и времени у нас не остаётся, ибо надо ещё одно место успеть посетить до гостей твоих долгожданных, а ты пока прыщ свой ничтожный замазывай, хотя красива ты воистину, и не о прыщах тебе сейчас думать надо, но, видимо, девушка умеет о прыщах помышляя, заодно с этим и вселенские вопросы решать, к коим у неё те в первую очередь относятся, что её жизнь непосредственно затрагивают; хорошие девушки в этом смысле от плохих неотличимы вполне, различие между ними в том лишь, что плохие пределы своей жизни непомерно суживают и полагают притом, что иных вопросов, кроме как к ним относящихся, не бывает вовсе, хорошие же помнят, что бывают, да и горизонт жизни их часто за пределы видимого непосредственно окрест выходит; бывают ещё и очень хорошие, которые могут даже на вопросах, за непомерно расширенный ими же горизонт их жизни выходящие, сконцентрироваться личностью всею, и даже слово веское сказать, но мы сами в данный миг не можем сказать и сконцентрироваться не в силах, какая же из этих трёх девушек ныне в зеркало смотрится, ведь в этом действии все три воедино очень даже могут сливаться, и если не три, то две уж точно, а какие именно рано нам ещё тут знать, не время стало быть, а пока крем тональный легко-легко на лицо накладывается, вселенские вопросы, для человека любого в вопрос о судьбе его легко сходящиеся, в любом случае, вопросы эти, если и не решаются, то замазываются хотя бы слоем тонального крема флиртового, мыслями девичьими, которые успокоить могут мужчину любого, и многих обмануть даже, ежели он в рясу отца Дмитрия не облачён только, и именно в его рясу, ни в чью более, тональной судьба становится, однотонной с лицом девичьим, банальным и манящим: вот тебе, отец Георгий, глаза её, вот тебе, отец Георгий, нос её, вот тебе, отец Георгий, губы её, вот тебе, отец Георгий, вся она, глаза, смотрел в которые дважды по-разному, благоговейно и изумленно, нос с горбинкой, очарован которым как мальчик был, губы, смеялись которые над тобой и шептали которые сокровенное своё, тело, ангелами хранимое бывши, и чертями оглумлено, вот это всё тебе твоё, отец Георгий, где бы ты ни был ныне, аминь; всё это перед зеркалом, а оно, как известно, никогда точным и не бывает, всегда ведь глядящая в него видит не ту, что в зеркало смотрится; и ежели зеркало этого не может сделать, слить их двоих воедино в силу несоизмеримости Богом сотворенной, так это потому, что ума оно не имеет, а ты, отец Георгий, ум имея, как раз глупее зеркала оказался, вместо того, чтобы различить что-то, слил воедино, и не потому, что ума не имел, а потому что умом чутким чрезвычайно наделён был, да от этого без ума совсем вознамерился под канкан бесовский судьбу решать, говорить и действовать, хотя и нельзя вещи эти различать, ведь Господь Сам и то Словом стал, да и Христос, Сын Его и Сам Он зараз, сегодня терзаем, а к этому вечернему часу уже и распят; служителю же Господнему ничего иного, окромя слова действующего и действия словесного не остаётся, да и не стоит забывать как Фауст текст Книги Священной с самого начала перевёл, и к чему это его привело, и ежели там девушка спастись помогла, то тут очень даже напротив, хотя какая тут девушка, их же две здесь как минимум: одна перед зеркалом, а другая в зеркале, зеркальное, почти зеркальное отражение её, стало быть, глядят друг на друга одинаково, одна не отличая другой, кремом обе лицо своё тонируют под цвет лица, которое кремом тонируют; а если кто желает бесконечность не человеческую или Господнюю получить, а физическую просто, то пусть зеркало сзади поднесёт, а девушку удалиться попросит, и будет ему бесконечность, но кривая, ибо одно зеркало точно не отражает, отчего бы это двум вдруг точно надо бы отразить, но этого никто, кроме Господа, не ведает, ибо нельзя заглядывать, никто, кроме Господа, не знает, что бесконечность воистину искажена, ибо сам Господь, как Фома из Аквината говорил, и есть бесконечность, а вот правильная или же искажённая, нам неведомо, ибо мыслить можем лишь то, что ничего мыслить, кроме простоты божественной нельзя, дабы в обман зеркального подобия не впасть: прост Господь и бесконечен, мыслить можем лишь то, что мыслить ничего не можем, и всё это просто донельзя, вот и мы усложнять не будем, кто мы такие, ведь нас и нет, ни в одном, читательском, ни в другом, авторском смысле или зеркале, если угодно. И, кроме того, некогда нам, сказали ведь уже, а повторять не будем, мы ничего не повторяем и потому повторять ничего не будем; умом мы за различие выступаем, а не за повторение, особенно ежели оно бездумное или к безумию привести очень даже умными путями способное; повторение ещё встретим, и ужасно близко уже повторение подбирается, главное не думать об этом вовсе, и, как Кьеркегор говорил, это есть верный рецепт точного повторения; мы ничего не опережаем, не опережаем и искусственно не повторяем, не повторяем, за нас природа, природа всё что можно сама, и самое скверное, что нельзя тоже, уж наповторяла; или Господь это, нам того не знать, не ведаем и ведать не желаем, а ведомое нами, как выяснилось, совсем нам не желанно по другим уже причинам, не даёт ибо с места тронуться, но ничего кроме понурого следования нашему понурому ведению нам не остаётся в надежде, что оно что-нибудь да сумеет; вот и теперь сказалось нечто в зеркалах, хоть и пустые они друг перед другом, ан нет: две девушки похожие явились, и хоть одна всего кажется перед зеркалом, да и то дело у неё не весьма возвышенное, прыщик какой-то себе кремом скрывает перед приходом гостей важных, но всё же две их, а за одну мы их сосчитали лишь по убогости своей вышеназванной; не верим слову, не верим Господу, давайте хоть в зеркало посмотрим, да так ещё, чтобы ничего кроме того, что в нём видеть, увидеть не смогли бы, и там уже бесконечность целая явлена, умом не вмещаемая, но простая-простая, как и всё, умом не вмещаемое, стало быть, есть ещё надежда, не совсем безнадежные мы, надежда, не хуже той, коей смог одарить отец Дмитрий продавщицу магазина продуктового в Пасхи канун, а потому мы тоже теперь улыбаемся, хотя и не существуем; такая чеширская улыбка ничуть не сложнее, чем понимание Господа Фомой из Аквината.
Дабы в простоте не прозябать до отупления изнемогающего, нашей лишь неспособностью простоту восприять вызванной, а не от Господней простоты исходящей, поторопимся туда, куда так скоро торопимся, что уже три раза об этом упомянули, а с места не двинулись вроде совсем, хотя тут-то мы и ошибаемся весьма, если полагаем, что ничего там не происходит, где никто никуда не торопится двигаться; как раз наоборот, всё по-видимому и невидимому свершается, где куда-нибудь спешат, там непременно любого движения подлинного страшатся более всего, страшнее коего из всех движение в душе собственной или даже движение души собственной; и не важно куда она движется, ввысь или пониже выси, в любом случае неуютно это для человека, ибо меняется он, а любое такое изменение действовать ему не позволяет и к бездвижности внешней приговаривает, а ежели он и действует, то по инерции лишь, и ничего путного из этой инерции выйти не осилится. И посему, коли в миру кто активен донельзя, то бежит он либо от движения души собственной, закостенел либо в неподвижности бездуховной, инерцией либо руководствуется, а потому даже нельзя сказать: в своих действиях, но аккуратно добавлять следует: в своих бывших действиях, но точнее: в действиях себя бывшего, а ныне кто эти действия свершает, никогда деятелю такому активному вдомёк не бывает. С такими людьми дела особенно иметь трудно, если дела эти спасения их души или души им близкой касаются, а иных дел подлинных на земле и не бывает вовсе, а бывает целая уйма дел неподлинных, с той долей решительности совершаемых, коей даже отец Дмитрий позавидовать бы мог, да только напрочь зависти лишён он, в первую очередь её лишался целенаправленно, душу свою к тому упражняя, разве что за этой усталостью некоторой расплачивается поныне, но ходу ей, усталости этой, равно как и зависти, не даёт он, ведь времени человеку весьма мало отмеряно даже своей душой озаботиться чтобы, а уж если по полю чужой жизни ходить при этом вздумается, так вообще всё невероятно усложняется и кажется нет той нехватки временной конца и края. Разве что Господь мудро со временем спасения души человеческой распорядился, как и со всем остальным впрочем, и ежели его, времени то есть, а не Господа конечно же, на себя не хватает, то стоит о другой душе заботу начать питать подлинную, как, тут же, и в своём деле нелёгком продвинешься, и другому поспособствуешь, а подлиннее этого пособничества ничего и нет, вот ведь чудо какое свершается непрестанно, что и говорить.
Но дабы не только простоты отупляющей избежать нам, но и слащавости душеспасительной, а слащавость эта, надо сказать, не делает дело души спасения неподлинным нисколько, но избегнуть её нам сейчас всё же требуется, и потому мы сейчас как раз обратному, к только что изложенному, обратиться намерены, не как другим помогая, о себе заботиться можно, но к тому, как от других, в твоей душе никчёмной поселившихся, избавить душу свою, и тело своё от наслаждений, телом другим ему предательски доставляемых. Здесь уже никакие слова помочь не могут вследствие всесилия чувств ощущаемого, и это не только у людей сентиментальных, но даже у черствых быстрее проявляться способно, ведь сентиментальный увлечения свои быстро менять способен, хотя никуда они не исчезают насовсем, и хлещут пошибче плети в самые даже беззаботные миги жизни их сентиментальной, чёрствые же постоянно, не под плетью конечно, но в нытии игольного уколения пребывают. Избавление от другого, прежде близкого человека, возможно любимого даже, откуда нам знать, лишь Господь знает, что есть любовь, ибо Он она Сама и есть, Себя стало быть только Он знает, а мы знать ни себя, ни Его до конца не можем, а можем себя пестовать, а в Господа веровать, ещё же лучше Господу веровать; избавление от другого, если уж об этом, а куда без этого, обстоятельствами случайными обусловленное, как, впрочем, и встреча с другим изначально, в нужду изгнания настоятельную обращаться с необходимостью может, когда плеть сентиментальная свистко по лицу хлещет, либо игольные уколения чёрствые к животу прикрепляются, до обоих оснований позвоночных окликая; и оборачивается тогда-то всякое избавление, обстоятельствам предоставленное, изгнанием активным души чужой, да и не из комнаты бездушной или тела больного какого, тоже чужого, а из себя самого экзорсизм творить надобно, безапелляционно, стало быть, себя комнатой бездушной представлять, и телом каким больным и чужим одновременно, да решительно и бесповоротно представление оное ставить следует, пока оно само тебя не свалило. А всякие бесповоротности решительные инерции есть, либо чёрствость, либо бегство, но чаще всего, одно, в трёх единое ипостасях неподлинное, и вся эта монстрица на изгнание активно направляется. Плеть хлещет иль игла колется, равно нудит особенно тогда, когда другой, может быть любимый, которой внешне по случайностям обстоятельно выставлен из жизни вроде уже, жить себе сам позволяет, да и не для того, чтобы доказать что, например, из чувства мести недостойного, ибо прощением руководствоваться требуется в жизни здешней, тем паче тамошней, а просто потому жить себе позволяет, что любимый бывший, из жизни тем вычеркнутый, кто любил его прежде, живым и далее остаётся, а не умирает вследствие оставления его нами. Ежели ребенок у кого случился, то сердце родительское знает чувство это с доброй стороны, не всё ж пеленки ему менять да за руку водить кушать, ан нет, характер и предпочтения всяческие от родителя неизвестно порождаемые дитя себе заводит, само изначально того не ведая, и родителей, соответственно, не оповещая, и свободным становится, можно сказать, в этих вещах тогда уже, когда взгляд свой несмышленный на лице материнском или же отцовском сдержать безуспешно пытается, или же когда заявляет, песочницу покинув впервые, что друзья у него новые появились, и это он серьёзно о детях тех людей, с которыми молодые родители ещё сами познакомиться не смогли, так дети малые уже заставляют себя всерьёз вкупе со сверстниками своими воспринимать и выставлять, даже если совочков и машинок дело касается изначально, но дело то серьезнее некуда; но то удары всё добрые и такие же уколы приятные тут ощущение себе находят, тешится ими родительское чутьё новое и необычное, этими самыми хлёстами и иглами зарождающееся. Но могут быть, и непременно случаются, до чувства родительского приятного ещё ранее, недобрые плети и уколы самостоятельной свободой чужой жизни вызванные, это когда любимый прежде человек оказывается другими, не назло, а сам по себе, и вполне возможно счастливо и тихо, любим, и даже взаимностью этим другим отвечает, и это после другого сердца отзывчивого и души гостеприимной, хотя ныне сердце к нему оглохло, и душа на порог не пускает, но и что ж, прежде же было иначе, и как это всё неблагодарный другой, любимый может, прежде, забыть мог, не ясно, и хлещет плеть, и иглы закалывают, и нет конца их ударам и уколам, и на избавление обстоятельствами полагаться уже никак нельзя, силы нет никакой, а стратегию изгнания активную применять надобно, и не к другому, ну не убивать же его, а к родному себе, и понимание тут случается, что себе не принадлежишь, а другому всецело, коего отпустил прежде, а ныне так и упустил бесповоротно, и себе уже сам не родня, если и был прежде братом себе, или сестрой, или отцом, или матерью, или сыном, или дочерью, теперь это уже совсем не так всё.