Текст книги "По ту сторону кожи (сборник)"
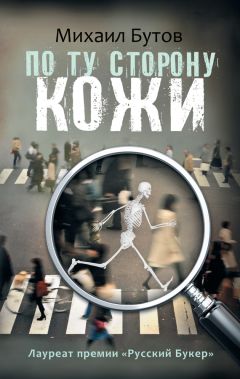
Автор книги: Михаил Бутов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Когда я нашел тебя, на коже у тебя не было никаких следов крови: ни подтеков, ни засохших ручейков. А я потом экспериментировал у Трубецкого, резал пальцы и выяснил, что смыть ее ой как непросто, уже через секунды, стоит чуть-чуть подпечься. Сознание ты должен был потерять раньше, чем кровь вышла из тебя вся. То есть если ты сидел, наклонившись, и только руки держал под струей, а потом откинулся в ту позу, в какой я тебя обнаружил, то она бы шла еще по крайней мере несколько минут, засыхала, и следы на руках остались бы неминуемо. Скорее всего, ты ванну наполнил, а сливное отверстие затыкал пяткой. Но если нога открыла слив в тот момент, когда ты начал засыпать, вода все равно ушла бы раньше, и дыры бы еще кровоточили по сухому. Кровь могла разбавиться и уйти бесследно, только если ногой ты дернул уже в агонии, когда почти ничего в тебе не оставалось. Бывает агония, когда вскрываешь вены? Врач по крайней мере мне ответить не мог.
Пожалуй, вот эти несоответствия и привязали меня к тебе так крепко на целый год. Со временем стали они для меня важнее любой метафизики – что-то такое угадывается за ними, от чего уже не откажешься. Ну а потом, это – способ избавиться от дешевой потусторонности, и довольно удачный.
Ты и приснился-то мне всего раз – спокойно так. Какая-то квартира, где в одной комнате собрались твои друзья, в другой – вроде бы жила твоя мать. Ты пришел в обычной своей одежде, без всяких следов тления, и появление твое никого не испугало и не удивило, хотя все знали, что ты – мертвый. Кажется, ты даже ел что-то, но слов не было. Все ждали, когда выйдет мать, и я в конце концов отправился позвать ее. Она сидела на кровати: не то шила, не то читала. «Сева пришел», – сказал я.
А она ответила испуганно, что не хочет тебя видеть таким, что вообще – как ты не можешь понять, что на все это (помню жест: ладонью вокруг лица) просто неприятно смотреть, тем более что с каждым разом вид твой будет становиться все хуже и хуже. Ты должен был оставить ее в покое.
Я вернулся и передал тебе это. И только уже за порогом ты оглянулся и сказал, как-то растерянно, что не знаешь, как тебе быть, потому что не приходить – не можешь.
Это не сравнишь с широковскими надрывами, которые он пересказывал с расширенными от ужаса зрачками и обхватив стакан дрожащими пальцами. Один был уж совсем особый – хоть в фильм ужасов.
Он видел кладбище, где должен был поправить твою могилу: роскошный деревянный крест, который соорудили тебе наши самоделкины, не то подгнил, не то просел в ваганьковском песке. (Стоп! Тело же в песке – мумифицируется! Стало быть, ты и нетление умудрился себе стяжать – так, походя?!)
Сон был очень подробным, он помнил все, что делал там, даже куда лопату убрал потом: рядом, над могилой, устроено что-то вроде беседки. Но когда оборачивается, уходя, – позади ты, в черном своем тренировочном костюме и с обычной улыбочкой на лице. Только улыбка, говорит, та же, а вот лицо – как гипсовое, и глаза не движутся. Тогда он бросается бежать по аллее, причем старается не убежать вообще, но хотя бы оказаться у церкви раньше, чем ты его настигнешь. Бежать тяжело – воздух будто уплотнился. И всякий раз, оглядываясь, он видит, что так и не смог от тебя оторваться, что ты здесь, за спиной. «Понимаешь, – рассказывал он, – я-то рвусь изо всех сил, уже легкие вот-вот лопнут, а он просто идет – походка такая механическая – и все равно догоняет. Чувствую: еще шаг – и он меня возьмет. И улыбочка эта!»
Лихо, ничего не скажешь. Не очень-то веря, что ты все еще существовал тогда в каких-либо мыслимых для нас пространствах, а уж тем более что способен был проникать из них сюда, назад (да еще и таким путем – безвкуснее не придумаешь), отдаю здесь должное даже не тебе, но самому твоему образу, подсознательной кукле. Должно быть, всех нас корежит все-таки комплекс вины. Представляю, как орал Широков во сне.
Теперь март. Первый этаж. Машины под окном газуют всю ночь, какие-то убийцы в них присосались к пивным банкам. Спать бессмысленно. Последняя вещь здесь, которая еще работает, – магнитофон. «Аи фол ин лав со изили, аи фол ин лав со фаст». Хэлен Меррил и Рон Картер, «Дуэты», 1989 год. Безделушка миллионеров. Вот уж не предполагал, что допишу это до какого-то конца.
Теперь и годовщина твоя позади. Прошла чин по чину, но как-то незаметно – впрочем, я рано уснул. Зато на следующий день меня здорово отмудохали в Бибирево. Теперь правая рука почти не действует, и огромный шрам на щеке от кастета, ловко спаренного с лезвием. Вдобавок отшибли что-то внутри: до сих пор все, что выходит из меня, – красного цвета. Били шестеро, прямо в рейсовом автобусе, но запомнил я одного: и лицом, и глазками он напоминал бультерьера – существо запрещенной породы. Ночью в Склифе, пока мальчик-хирург пытался пришить друг к другу две половины моей щеки, я обнаружил, что даже боль не мешает какому-то необычному покою, во мне разлившемуся. Оказывается – я освободился от тебя.
Я неожиданно все понял и все расставил по местам. Вот эти – живые: едят, пьют, спят с бабами. Ты – мертвый. Я – к тебе ближе, но не рядом, ибо ни с тобой, ни со мной быть рядом больше нельзя. Север духа. Вот что ты мне объяснил: скудность выбора. Есть смерть: абсолютная причина и единственная тайна, освящающая любую вещь, любой шаг и любое слово, ставшие к ней причастными. Есть небольшой набор готовых траекторий, из которых выбирают одну и пытаются проработать. Ты попробовал прямую и показал мне, как это бывает. Теперь не отправишься за тобой – незачем. Окольным же путям цена сбита, и на долю остается всего ничего. Миф о Сизифе. Ты не читал.
Поэтому я лежу здесь. Иногда беру книгу – одну и ту же. Но знаешь, оказалось, что именно в ней изложено все о том, кто мы и что с нами будет. Между строк проглядывает огромный кукиш. И все-таки иногда я еще надеюсь. Иногда мне кажется, что кто-то очень тонкий с непредсказуемым лицом появится рядом и вернет меня, разучившегося глотать и испражняющегося кровью, в холод, кристальную ясность и белое одиночество той ночи и того дня. Оставит на аллее в Сокольниках – от метро к парку. Первыми исчезнут машины. Потом прохожие. Дома. Останутся дорога под снегом, два темных ряда голых деревьев вдоль. Деревья растекаются, уходят в белесый туман. И снег – уже не снег. Белые пространства. Бледно-серые пятна, смутные и бесформенные, появляются и пропадают.
Я поднимаю руки.
– Я здесь, – кричу я. – Сева, я узнал тебя!
Чины совершаемые
Днем Бекетов вымыл повсюду полы и отдраил с порошком ванну и раковины. Потом, собираясь, имел случай удивиться, как незаметно, непостижимо быстро способен обрастать вещами. Меньше месяца он здесь прожил – а столько всего должен был увозить теперь, что уже не хватало двух сумок, с которыми, полупустыми, он пришел сюда. Книги топорщились углами из ячеек хозяйственной авоськи, напоминая гигантский многопорядковый ставролит. Бекетов стягивал ручки авоськи веревкой, когда зазвонил телефон. Сквозь трески и шумы такие, будто пытались выйти на связь не из подмосковной Малеевки, а по меньшей мере с Луны, хозяева квартиры сообщили ему, что останутся в доме творчества еще на неделю.
Потом он пребывал в том особом возвышенном состоянии, что возникает, когда неожиданно отменяются не одно или два намеченных накануне дела, но целая цепь заранее рассчитанных событий, которым предстояло быть связанными друг с другом и заполнять время. Осев на кровати среди рассыпающихся сумок, Бекетов ощущал себя в провале бытия и не находил ни вещи, ни действия, значимых настолько, чтобы предпочесть их другим и именно с них запускать жизнь вновь.
Но сладостным было само сознание вновь обретаемой прочности положения. Бекетов приближался к столу с робостью изгнанника, возвращающегося к родному порогу. Потертые ручки кресла, где сквозь дырявую материю проглядывал железный скелет, безымянные фотографии на стене, царапины на полировке, складывающиеся в пентакль, – он боялся верить, что все это опять принадлежит ему. Удостоверяясь, провел по столешнице рукой, касаясь едва, как касался бы травы. И подумал: вот сейчас и позвонит Лиза.
Она никогда не верила, что такое возможно, но за эти годы он действительно научился предугадывать с точностью до минут ее появления и звонки.
Лиза, Лиза! Вечная невеста. Неужели ты до сих пор не понимаешь, что мне известно все о твоих обманах, о том, куда и на что толкает тебя твое обостренное до сумасшествия осязание скользящей между пальцами жизни, что так простодушно (слово, может, и неуместное, но до смешного точно отмечающее суть) и так нелепо ты тщишься от меня скрывать. А я уже забыл, как давно впервые догадался, что, сидя со мной рядом среди все тех же, тысячи раз повторенных людей, часто представляющихся мне всего лишь воплотившимися страницами одной-единственной телефонной книжки, ты вспоминаешь другие лица и другие тела – когда-то мне было больно воображать, как ты обнимаешь их, а теперь – скучно. Как и задаваться вопросом, отчего я никак не соберусь развязаться с тобой.
– Ага, это ты, – сказала Лиза. – Я думала, ты уже уехал…
– Тогда зачем звонишь?
– Ну, так… проверить.
– Они решили остаться.
– Очень хорошо. Надолго?
– Может, недели на полторы.
– Значит, сегодня мы можем туда вернуться?
– Откуда вернуться? – спросил Бекетов.
– Ты не собираешься на службу?
– А ты собиралась? Куда?
Знакомые ферматки в словах – своеобразное ее кокетство.
– Ну, хочешь – туда, на Пресню? Или в Обыденскую… Вообще-то лучше в Обыденскую. Как раз и прогуляемся обратно. Постоим часиков до двух… – И протянула особенно: – Пост, между прочим, кончается. А то вдруг ты забыл.
Бекетов представил себе веселый и властный взмах головы, с каким она могла бы сказать это прежде. И подумал, как многое в ее манере держать себя, когда-то обезоружившей его своей натуральностью, стало теперь всего лишь намертво заученными приемами, тяжеловесными и наигранными. Жаль. Наверное, это закономерности в старении: когда начинаешь задумываться о сроках, потребность в любви делается потребностью того же рода, что сон или еда. Но как-то все не по силам отказаться от тех арабесок, что должны обозначать особое ее положение. Хочется верить, что они способны магическим путем возвращать молодость. Год от года нужно все больше вранья, чтобы поддерживать в себе надежду на чудо.
– Я не хочу идти. В центре давка, в церквях – я задыхаюсь. А с окраины не доберешься назад.
– Ну хорошо – тогда давай я сразу к тебе. Я привезу что-нибудь…
– Нет, – сказал Бекетов.
Она помолчала.
– Я не понимаю. Что-нибудь случилось?
Бекетов не ответил. Действительно не знал – что.
– Ты предлагаешь мне свободу на эти дни?
А были ли вообще, подумал Бекетов, дни, когда ты не считала себя свободной?
Только почему тогда, зачем ты сама цепляешься за меня так отчаянно? Или знаешь все-таки, чувствуешь, чувствовала всегда в глубине души, что, пытаясь заставить время обгонять тебя, ты лишь дробила его: в пыль, в атомы, в ничто – ведь похоть не имеет продолженности; что в конце концов я останусь единственным, что еще будет стоять между тобой и тем, от чего ты так бежишь? Ты ошиблась, Лиза. Не в первый раз. Но я уже ничего не могу для тебя сделать.
Каждую нужную ему вещь, даже мелочи, он переносил на стол отдельно. Ему нравилось следить, как, подобно железным опилкам, распределяющимся на листе, накрывшем магнит, на столе постепенно, в порядке, обусловленном существующим между ними напряжением, для него ощутимым и понятным, располагаются словари, готовые листы рукописи, ручка, спички и пепельница… Бекетов дополнил незаконченную страницу давно сложившейся в уме фразой: «Ничто из того, что понято верно, нас не лишит благоуханья цветов».
Потом набрал номер матери.
– Я не приеду.
– Отчего, Коля? У нас кулич…
– Мне нужно заниматься.
– Ты ведь изголодался, наверное, там.
– Да я постился только Страстную. Всего неделя!
– Все равно. Сходи хоть сегодня купи себе что-нибудь.
– Не знаю. Суббота, вечер – тут поблизости ничего уже на найдешь.
– Тогда приезжай! Не валяй дурака!
– Да нет, мама, – сказал Бекетов. – Мне хорошо.
Но о еде все-таки следовало позаботиться. Проинспектировав на кухне шкафы, Бекетов обнаружил в запасе только полкило риса. И тогда все же прикинул: может, действительно – в гости? В хороший дом, тароватую семью, где сладко чавкает дверца холодильника, где блюд на столе по числу постных дней – сорок восемь, а за столом приятные люди обсуждают интересные и легкие вещи? К кому бы? Но нынешнее одиночество, в которое некому ворваться против его воли, обещавшее спокойную работу, тихий разговор с собой, а после полуночи – приятную борьбу со сном над каким-нибудь романом из библиотеки хозяев, вдруг показалось таким желанным, что Бекетов некоторое время возбужденно шагал по комнате, снова и снова дотрагиваясь внутренним касанием до неожиданного своего счастья, как до зарубцевавшейся раны, прикосновение к которой приятно именно вследствие памяти о минувшей боли.
Еще вчера он бродил по городу в одном пиджаке, а тут пришлось снова напяливать шапку: ветер носил мокрый снег, лупивший в лицо и набивавшийся за воротник. Прячась за стеклянной стеной троллейбусной остановки, Бекетов размышлял о том, почему из двух праздников, связанных с самыми значимыми (если какая-то градация вообще здесь возможна) и уж наверняка самыми чудесными событиями священной истории, для него всегда была более сокровенной таинственность Рождества. Как будто затушеванной казалась ему глубина тайны Пасхальной – ликованием, вздохом облегчения, испускаемым после семи недель замирания и скорби. Но ведь постятся и под Рождество, и так же ликующи рождественские песнопения. А настоящая причина, наверно, всего лишь в том, что на Пасху он всегда оставался в Москве, всегда с головой в тех опостылевших житейских попечениях, которые и требуется отложить – да кто сумеет сейчас. Рождество же случалось праздновать в маленьких дальних городках, стоять службы в полузанесенных снегом деревенских храмах. Да и в Москве в рождественские дни все совсем по-другому. Сколько он помнил, никогда не бывало в эту ночь ветра. А главное – особое чувство снега: тихо падающего, ложащегося ласково, укрывающего…
Вопреки обыкновению на вокзале почти не оказалось торговцев. Но Бекетов остался доволен, купив банку голландских сосисок, которые ценил за содержащийся в них соус. Денег хватило еще на пакет с овсяным печеньем, и он уже направлялся прочь, когда под рукой образовалась старушка при муфте и в шляпке.
– Молодой человек! – она с веселой требовательностью подергала его за куртку. – Будьте добры – на хлебушек! Ради праздника.
Чуть заметный прононс наводил на мысли о дамском пансионе.
Бекетов удивился: казалось бы, попрошайничество должно развивать интуицию. Неужели она не чувствует, что с него не возьмешь многого?
Но печенье пришлось отдать.
А однажды, когда, почти еще не знакомый с Диной, Бекетов был неожиданно приглашен в Рождество к ней, блуждая вечером в поисках нужной улицы по окраинному району, он очутился возле какого-то строения без окон, откуда светил вниз и чуть вбок мощный желтый прожектор. Тогда, глядя на отчетливую, напоминающую в резком боковом свете миниатюрный горный ландшафт, фактуру утоптанного снега, проявлявшего словно бы и необычную свою, аморфную, изменчивую природу, и истинную неподвижную сущность, Бекетов совершенно отчетливо почувствовал, что сейчас это действительно может произойти. Что пастухи, волхвы, вол с осликом, сами ясли и вертеп уже выступили из-за завесы, скрывавшей их на протяжении то ли долгой цепи реинкарнаций, то ли некоего отстраненного тайного пребывания; уже соединились где-то и снова ждут, исполнившись надежды. И после все пытался представить себе, как, не ведая чисел и сроков, сходятся они так раз, быть может, в триста, быть может, в тысячу или пятьсот лет, как проводят в молчании ночь и потом снова отступают в неизвестность, чтобы возвращаться опять и опять. Но знают, что упование их не ложно, и сколько ждать – не имеет значения.
Вот, вот тело, – писал Бекетов, —
Выкрикивает свои порядки,
Учит само себя.
Отрываясь, подолгу курил у окна, вглядываясь в мокрый асфальт перед домом, в мокрую кошку под козырьком подъезда, в движение красных огней, отмечающее эволюции пытавшегося припарковаться в узкую щель между другими автомобилями, – и переживал, оставаясь всецело в пространстве слов и просодии, разрыв с существенностью.
Так совпало, но, едва вселившись сюда, он тут же и вычитал в письмах Пушкина, что именно на углу Тишинского и Малых Грузин жил и сходил с ума Батюшков. И порой вполне готов был поверить, что тень безумного поэта покровительствует его труду. Строки перевода ложились здесь на бумагу так легко, будто он всего лишь следовал чужому внятному голосу.
Отныне спокоен,
Отныне я жду откровенья.
Дорога ли, утро однажды
Станут мне знаком?
Было почти одиннадцать, когда телефон ожил снова.
– Ты поселился там навсегда? – спросила Дина.
– Нет, – сказал Бекетов. – Но хотел бы.
– Останешься дома?
– Дома. Ты тоже?
– Конечно. Здесь ведь ребенок.
– А что твой муж?
– Объелся груш, – сказала Дина. – Зачем ты… – Потом добавила: – Ветер стих.
– Любишь его?
– Кого, ветер? Тебя люблю.
– Тогда позвони еще. Ночью.
– Зачем это?
– Ну как зачем? Я скажу тебе, что Христос воскрес.
– Нет уж, – засмеялась она. – Это я скажу: воскрес.
А тебе отвечать: воистину! А его уже увлекла идея, что череда церковных праздников, даты которых он тут же и взялся выписывать из десятилетней давности календаря, найденного на полках, должна воспроизводить евангельские события не просто сами по себе, но непременно, пусть в некотором условном времени, и их последовательность. И тогда получалось, что нынешняя Пасха связана не с этого года Рождеством, но как раз с тем, позапрошлогодним, с которого и началось их с Диной сближение.
Рис Бекетов поставил вариться заранее, чтобы поужинать сразу после двенадцати. За пять минут до полуночи прочел про себя короткое правило и включил разбитый приемник, батарейка к которому была прикручена клейкой бумагой. В доступном ему диапазоне духовную музыку передавала почему-то только станция, обычно специализирующаяся на рок-н-ролле. В полночь они закончили: прошли позывные и наступила тишина.
Бекетов открыл форточку. Словно гадающая в полнолуние девушка, он вдруг уверил себя, что первый звук, дошедший сейчас извне, непременно должен что-то сказать ему о том, чего он ждал и на что надеялся всем своим существом: о перемене участи, какой бы она ни была. Но долго, несколько полных минут, тишина оставалась абсолютной: он не слышал ни речи, ни машин, ни звука шагов. И тогда Бекетов понял, что на самом деле готов уже, давным-давно готов смириться с тем, что вот так и будет, с каждым годом молчание все глубже, а приступы тоски все глуше и безысходнее. Может, это и есть тот главный приговор, который каждый рано или поздно оказывается вынужден произнести самому себе? Но пока что – пока что, оглядываясь назад, хотя бы несколько разрозненных дней мог он еще различить отчетливо. Прожитые иногда с Диной, чаще в одиночестве, всегда внешне пустые, но отмеченные, подобно сегодняшнему, какой-то особой ясностью и чистотой, только они и составили в эти два года подвесной мостик для его души. И помнить о них – даже если когда-нибудь все еще станет иначе, даже если смятение и хаос все-таки отступят, дав ему воздух, необходимый, чтобы осуществить себя, – он всегда будет с гордостью и благодарностью.
А потом, как песня из рожка Мюнхгаузена, что-то наконец оттаяло в воздухе. Но не определить было ни природы этого звука, непредставимой в городе, ни сути искомого в нем обещания. Далеко, за домами, что-то заухало, тяжело, торжественно и протяжно. Словно большая птица, подумал Бекетов.
И повторил вслух:
– Словно большая болотная птица.
Музыка для посвященных
Повесть
В целях воспитательных Александру Васильевичу следовало бы, конечно, напомнить Маше, что такой вот, наперед не допускающий возражений тон, каким она взялась вдруг говорить с ним, неуместен в отношении не только собственного отца, а кого бы то ни было вообще. Но когда, не без оснований предполагая возможность отпора с его стороны и поспешив поэтому обидеться заранее, она стала яростно отмахивать кулачком и пустилась в доказательства некоей необходимости, в силу которой непременно должна была пригласить сегодня вечером троих подружек, Александр Васильевич внезапно догадался, что ведь салат с кальмарами появился за ужином вовсе не случайно. Похоже, жена и дочь взяли теперь за правило: если намечалось что-то, ломающее обычный размеренный порядок жизни и способное вызвать его неудовольствие, – попросту размягчать его предварительно, подавая к столу какое-нибудь из немногих блюд, к которым был он неравнодушен. И правда, все сходилось: на прошлой неделе, когда пришлось тащиться к двоюродной Нининой сестре на именины, было смородиновое желе. А прежде так давно его не готовили, что даже странно, откуда Нина помнит, что любит он именно смородиновое. Еще раньше – Александр Васильевич забыл уже, чего от него потребовали в тот раз, – маленькие эклеры с заварным кремом… Растерявшись перед наивностью такого подкупа, еще не зная, рассердило его это открытие, рассмешило или растрогало, он не сдержал себя и слишком откровенно перевел глаза с пустой салатницы на Машу, потом обратно. А встретившись взглядом с женой, уже разгадавшей ход его мысли и прикрывшей ладонью рот, чтобы спрятать готовый вырваться смех, – все-таки улыбнулся и сам, против воли. И сразу сделалось поздно протестовать.
Рассудив в конце концов, что и действительно нет здесь ничего, что мешало бы принять это с улыбкой, он поднялся из-за стола и передразнил дочь, встав в такую же петушиную позу, из какой минуту назад она готова была затопать на него ногами. Дождавшись все-таки повода оскорбиться – хотя бы притворно, – Маша, прихватив телефон на длинном шнуре, удалилась в свою комнату распространять весть об одержанной виктории. В сущности, подумал Александр Васильевич, довольно глупо было с ее стороны что-то ему доказывать. И не потому даже, что обязательные в ее возрасте манерные недоговаривания только запутывают дело. Скорее, наоборот: это ему стоило бы объяснить ей, что всякая, даже совсем ничтожная, тайна куда прихотливее к условиям содержания, чем самые экзотические из дражайших Нининых рыб в аквариуме. Так что подслушанные ненароком половинки телефонных бесед, выпадающие из Машиных карманов записки и какие-то раскрашенные фломастерами общие тетради, которые она то и дело забывала на кухне или в прихожей, а он также рассеянно пролистывал, не сразу понимая, что имеет перед собой не просто упражнения по русскому языку («русъяз» – называет Маша; пожалуй, можно уже попытаться подсунуть ей Орвелла – вдруг станет серьезнее относиться к собственной речи), давным-давно выдали ему, что дочь с одноклассницами разыгрывают светскую жизнь в манере пушкинского века. И разыгрывают, похоже, всерьез: с титулами, именами, выдуманными судьбами и массой прочей мишуры, сопутствующей детскому, но местами удивительно точному представлению об аристократизме.
Маша бы наверняка здорово удивилась, узнай она, что вот к этому-то как раз он вполне способен отнестись благосклонно и даже с уважением. А почему бы и нет, если здесь сам выбор его радовал. Что ни говори, но и самое салонное дворянство – не худшее, что нынешний подросток может взять образцом для подражания. Кроме того, Александр Васильевич и вообще считал, что большой игре, не имеющей целей вне себя самой, не откажешь в своеобразной эстетической привлекательности. Не откажешь, правда, и в другой: в качестве варианта, на что может человек разменять жизнь и с чем ее перепутать. Но Маша, конечно, во многом еще ребенок, и ее, слава богу, рано еще ставить на одну доску с теми, кто, удерживая в уме тезис и антитезис, шел на такой размен. Однако особенное, внешне бессмысленное упорство, с каким и нужно, чтобы игра чего-то стоила, следовать во что бы то ни стало ее условиям – и особенно тем, которые устанавливаешь для себя сам, – Александр Васильевич подмечал в дочери уже сейчас и считал достоинством характера. Так что понимал прекрасно: если в прошлую пятницу, когда она пропадала полдня в гостях у той долговязой, с которой делит в классе парту, было положено, что очередному рауту состояться должно именно сегодня и именно здесь, то никакие форс-мажоры вроде родителей с их непламенными заботами и привычками в счет уже не идут. Поскольку отказ, не вписываясь в контекст жизни придуманной, сразу же разрушит шаткое, а потому изящное и поэтическое равновесие с действительностью, в котором, собственно, и заключается суть.
Само собой, нечего было и заикаться, чтобы гостей Маша принимала в своей, дальней комнате. А оттуда их болтовня если и проникала бы к Александру Васильевичу, то уже достаточно приглушенной – оставался бы какой-то шанс сосредоточиться и набросать план рецензии, заканчивать которую кровь из носу придется за выходные. Но Нина уже раздвигала стол в гостиной – сразу за тонкой стеной его кабинета. Александр Васильевич прикинул, может ли его положение заведующего отделом прозы толстого литературного журнала, все еще числившегося (больше, правда, по старой памяти) одним из самых передовых, предоставить этим ученицам восьмого класса гуманитарной спецшколы ту же счастливую возможность, какую когда-то давало ему самому знакомство его семьи с известным критиком: при случае запросто ввернуть в разговоре, что вчера, мол, пили чай у таких-то… Главным здесь удовольствием было – делать брови домиком, если собеседник обнаруживал вдруг незнание имени. Но констатировал разницу в весе: своем и критика, у которого вышло по смерти четырехтомное собрание, а также удельном литературы тогда и сейчас. Да и Маше, насколько он ее знал, вряд ли вообще бы пришло в голову хвастаться вхожестью к кому-то в дом. Даже к певцу какому-нибудь или телеведущему.
Тоскливое, сосущее чувство в груди Александр Васильевич постарался на сей раз приписать тому, что не знает теперь, совершенно не представляет, чем будет заполнять вечер. Но не отважился признать, что и тут дело вовсе не в Маше с ее подругами: сегодня ему наверняка все равно не удалось бы засадить себя за работу. Правда, отправься они все-таки туда, в Машину комнату, можно было бы хоть почитать попробовать… Хорошо еще, что нынче обойдется без мальчишек. Будет по крайней мере поменьше поводов для той сумасшедшей и в высшей степени вульгарной веселости напоказ, в которую уже начинает впадать Маша в компании сверстников. Александр Васильевич и раньше считал, что ни в каких годах не бывает человек так неизмеримо пошл, как в якобы романтический период, именуемый взрослением. У него самого до сих пор проступала краска на щеках, если он вспоминал кое-какие из своих подростковых выходок. К дочери хотелось бы относиться мягче. Просто неадекватная оценка, пытался он объяснить, они неправильно представляют себе, как выглядят со стороны. Но не мог забыть, как прошлой осенью, когда на Машин день рождения – первый по-настоящему отмечавшийся и потому особенно для нее важный, – куда, после долгого обсуждения кандидатур, собрали все-таки чуть не полкласса, в какую-то минуту он совершенно отчетливо ощутил, что произошел обман, подмена; потому что не могла, не должна была его дочь превращаться в эту вот, вполне уже сформировавшуюся, наверняка уже вызывающую у кого-то похотливые мысли девицу, ерзавшую по правую руку от него и поминутно отпускавшую напыщенные и неимоверно глупые замечания. Потом долго, почти неделю, ему приходилось делать над собой усилие, чтобы в разговоре с ней не выдать все еще не рассеившихся брезгливости и неприязни.
Он часто вспоминал, какой чужой чувствовала себя среди Машиных одноклассников приглашенная из вежливости ее подруга детства: девочка из семьи не то чтобы совсем простой, но крайне неблагополучной – подарившая нелепую какую-то книжку, а потом просидевшая весь вечер, так и не открыв рта. Такой она и осталась в памяти: уткнувшей в блюдце глаза и безразлично ковыряющей ложкой кусок торта. Маше, слишком увлеченной новой ролью хозяйки дома, попросту не хватало времени уделять внимание каждому в отдельности. А всей компании, спаянной общим знанием всяческих, значимых только для узкого круга происшествий и событий, тем более не было дела до человека внешнего. Александр Васильевич попробовал тогда поступить благородно и на правах давнего знакомого пригласил ее на кухню выпить с ним кофе. Видимо, она была рада, что хоть кто-то проявил к ней интерес, но выразила свою благодарность способом довольно обременительным: неожиданно разоткровенничалась и поведала ему (вот уж чего он меньше всего желал в тот момент!) несколько не самых благовидных историй из жизни своих родителей. И он подумал тогда: а ведь они ни в чем не виноваты, эти юнцы. Какими бы они ни были – а, пережив такой острый приступ нелюбви к дочери, наблюдал за ними Александр Васильевич с неприязнью уже осознанной, – все-таки они достаточно развиты и знают, пусть не из своего, пусть пока из книжного только опыта, что праздник – штука специальная: предназначен, чтобы выпаривать из всего на свете то, что делает это серьезным, и тем самым хоть ненадолго выставить жизнь за дверь. Элементарная невежливость – втискивать ее обратно через окно. Если от чего-то в себе не можешь почувствовать себя свободным даже на несколько часов – нельзя рассчитывать, что будешь к месту на чужом веселье. Так что напрасно ты пришла сегодня. В конце концов, не так уж трудно найти предлог, чтобы отказаться от приглашения. И не стоило рассказывать мне об этом. Может быть, когда-нибудь ты и поймешь, что есть вещи, говорить о которых можно только языком искусства. А речь обыденная тут же превращает их в предметы, на которые посторонний – даже принуждающий себя сострадать – на самом деле смотреть способен только свысока. Поэтому несчастье требует одиночества.
Не было бы, наверное, ничего плохого, выскажи Александр Васильевич ей все это вслух. Он не решился. Кажется, вообще не сумел найти каких-либо подходящих слов…
Но с того дня он стал задумываться, верно ли поступил, устроив дочь в известную на весь город школу с литературным уклоном, и не проглядел ли чего-то, чем окажется она обделена там, так что нехватка эта перевесит в конечном счете многие очевидные и бросающиеся в глаза стороны положительные.
А все-таки девятнадцатый век, сказал себе Александр Васильевич, не худшее и так далее… Маша будет обижена, если я не выйду поздороваться с ее гостями…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































