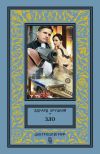Текст книги "Челюскин. В плену ледяной пустыни"

Автор книги: Михаил Калашников
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
7
Минул очередной день похода. И снова Промов и его друзья маялись от предстоящего вечернего безделья. Борис знал, куда пойдет, если вдруг Семин не устроит очередного комсомольского заседания или не соберет лекторий. Дружба с Яшкой открывала ему непринужденный путь в плотницкий кубрик.
Журналист не мог позвать туда всю компанию, это выглядело бы неловко, вроде экскурсии: вот спустились цивилизованные люди в пещеру поглядеть на морлоков. Во всяком случае, Промов опасался, что плотники именно так и подумают, если их творческая ватага завалится всем составом.
Яшка сразу понравился журналисту: типичный молодчик, родившийся перед самой Германской войной, старого режима почти не помнивший, для него Страна Советов – вечная и незыблемая родина, а не молодая, едва оперившаяся республика. Веселила Бориса крестьянская непосредственность Яшки и его прямота. В первый день на судне плотник, заметив Шмидта, вполголоса произнес:
– Гляди какой, башка наверняка умная.
– С чего вы взяли? – расслышал проницательный Шмидт и приостановил свой бег.
– Ну, как, – замялся Яшка, – по обличию.
– А, вы про бороду? – схватился обеими руками за густую растительность на своем лице Отто Юльевич. – Так в том нет моей заслуги, она сама по себе растет, – и скрылся в надстройках корабля.
Промову случилось в тот момент быть рядом, он едва удержался от смеха. Шмидт хоть и был породистым интеллигентом, славился своей демократичностью. Он знал народ, любил его и никогда бы не обиделся на слово «башка» или что-то подобное. Борис тут же познакомился с Яшкой, без укора стал объяснять некоторые нормы приличия.
В другой раз Шмидт снова попался Яшке на пути, и тот приостановил его заготовленным вопросом:
– Отто Юльевич, я вот давно спросить хочу, вы не родственник Кольке Шмидту из нашей Вохмы?
Шмидт быстро нашелся:
– Самый прямой родственник, я его племянник.
Шмидт шутил над Яшкой без всякого издевательства. Он вполне понимал, что сосед Яшки – Колька Шмидт – для него ближе, нежели далекий Отто Юльевич, со всей своей всемирной известностью. Для Яшки так выглядел мир: есть Колька Шмидт, радиолюбитель из соседней Вохмы, с кем он встречался на Первомай и видел его на других праздниках; и есть Отто Юльевич, полярник и исследователь, однофамилец знаменитого Николая Шмидта.
По журналистской своей специальности Промову приходилось знать о Шмидте многое. Яшка сошелся с ним еще и на этой почве, расспрашивал про начальника экспедиции:
– А кто ж он по крови? Немец, небось?
– Кажется, все-таки латыш, – неуверенно отвечал Борис. – Образованнейший человек, ты с ним поаккуратней, Яков: две гимназии с золотой медалью за плечами и университет, приват-доцентом в Киеве был.
Яшка в научных степенях и званиях ничего не понимал, но приятелю своему новому верил – раз Борька добавляет в голосе значительности, значит, за Шмидтом сила. Промов старался поделиться с плотником понятной для него информацией:
– С восемнадцатого года Шмидт в партии, два года членом ЦК был.
Промов хотел заметить, что с первых дней революции Шмидт возглавлял Управление по продуктообмену Наркомата продовольствия, но умолчал, зная, что у крестьян природная ненависть к хлебным должностям, принимавшим решения о продразверстке, даже у таких молодых, как Яшка, годы военного коммунизма почти не помнивших. Сказал вместо этого очередную вещь, добавившую Шмидту Яшкиной симпатии:
– В то лето, когда твой сосед из Вохмы принимал сигнал с потерпевшей крушение «Италии», Отто Юльевич совместно с немцами в горы лазил, была такая советско-германская экспедиция на Памир от Академии наук СССР. Выше облаков люди взбирались…
Взор Яшки горел, авторитет полярника-Шмидта явно перевешивал авторитет Шмидта-радиолюбителя:
– А как у него в семейной жизни? Женка там, детвора? Тут небось он тоже – парень без прома`ха?
– Угадал. Две жены у него было, и от каждой по мальчугану родилось.
– Ух, орел! – одобрительно вскрикивал Яшка.
– Если говорить о Шмидте, то тут надо знать не о количестве его жен или женщин вообще. Одной из его подружек была Евгения Соломоновна Хаютина. С первым своим мужем она переехала из Гомеля в Одессу, там познакомилась с Бабелем, Катаевым, Олешей. Слыхал про таких творцов?
Яшка почти обиженно кивнул:
– Само собой, – но Промов успел уловить в его глазах: «Не читал никого из них, даже если и слышал фамилии вскользь».
– Вторым ее мужем был директор крупного московского издательства – Гладун. С ним она уехала в Лондон, оба работали в советском полпредстве. Когда англичане порвали с нами связи, Гладун вернулся в Москву, и Евгения Соломоновна завела у себя дома что-то типа литературного салона, всплыли одесские привычки и знакомства. С Бабелем на этот раз она закрутила настоящий роман. В гостях у них бывали Эйзенштейн и Утесов, Михаил Кольцов, Шолохов и, внимание, – Отто Шмидт. С ним у нее тоже случилась короткая любовная связь. Женщина она интересная, любит танцевать фокстрот, ярко смеется, неглупа, чувственна. Друзья зовут ее Суламифь, а самые близкие – стервь глазастая. Раскрывая номер свежей «Правды», Евгения Соломоновна на одной странице может увидеть сразу нескольких своих мужчин. А недавно ее поздравляли с третьим браком. На этот раз мужем Хаютиной-Гладун стал глава Орграспредотдела – товарищ Ежов. Теперь же он возглавляет Центральную комиссию ВКП(б) по «чистке».
Яшка от растерянности прикрыл рот рукой:
– И не боится Отто Юльевич гоголем ходить, после того как знает, чью жену охаживал…
– Вот-вот, живет – и ничего не боится. А ты с ним запанибрата.
Промов наслаждался, наблюдая своего приятеля. Вначале гуляла в глазах Яшки природная страсть к деревенским сплетням, потом привычка восхищаться, слыша громкие имена. Борис ждал не только растерянности в глазах Яшки при упоминании колючей фамилии, но хотя бы скрытого страха, вместо этого Яшка неожиданно для Промова перескочил на личное:
– А ты, Борис, женатый?
Промов, по роду специальности готовый к таким внезапным выпадам, равнодушно ответил:
– Это каким боком к Шмидту относится?
– Да я уже не про Шмидта, – стоял на своем Яшка.
– А я тебе все же про него до конца расскажу, – не давал увести беседу Промов в невыгодное для себя русло. – На корабле плывет третья жена Отто Юльевича.
– Иди ты! – шокированный известием Яшка тут же забыл про личную жизнь Промова.
– Только вот кто она, я тебе не выдам.
Яков на секунду растерялся, мелькнуло на его лице что-то похожее на легкую обиду, потом появилась напускная уверенность:
– Да не так тяжело и догадаться: у четверых баб законные мужья; за Сушкиной Белокопытский волочится, значит, выходит, либо кто-то из уборщиц, либо из науки и без кавалера.
Промов самодовольно и молча улыбался, выводя этим Яшку из себя.
– Ну дай еще подсказку! Не издевайся! – гневался тот.
Журналист, довольный произведенным эффектом, наконец сжалился:
– Хорошо, товарищ Кудряшов, вот тебе еще подсказка: по слухам, на судне беременной едет не только Доротея Василевская.
Лицо Яшки вытянулось:
– Что ж мне теперь, у всех уборщиц к пузу присматриваться?
– Правильно мыслишь, столяр! – одобрительно хлопнул его по плечу Борис. – Круг поиска сузился до технического персонала.
– Ты, это, звания мне лишнего не накидывай, плотники мы, и точка, – дернул плечом польщенный Яшка.
Промов сощурился в улыбке. Его немного коробила эдакая страсть Кудряшова к сплетням, но он понимал, что в деревенской среде это норма, оправдывал друга тем, что сбор слухов и чесание языком – один из способов заглушить скуку и безделье.
Третьей жене Шмидта было, как и самому Промову, двадцать семь лет. Едва он видел ее в пароходных коридорах или еще где бы то ни было, перед глазами его возникало заплаканное родное лицо с едва различимым шрамом на лбу:
– Я ведь знаю, куда ты собрался, ни в какой не в Казахстан… Ты мне врешь, чтобы не пугать меня…
Промов давно истратил все убеждения, его доводы иссякли. Он просто сидел напротив нее и молчал. Она достала из кармашка фартука его письмо, адресованное совсем не ей, а коллеге из соседней редакции:
– Это твое?
Промов поглядел на строчки с раскисшими от слез жены буквами, узнал собственную руку.
– Откуда оно у тебя?
– Это неважно.
– Нет, милая, это важно.
– Да, я не отнесла его на почту, как ты просил, я его вскрыла.
– И после таких шагов ты хочешь, чтобы я тебе доверял?
– А как верить мне, если ты говоришь о полугодовой командировке в Казахстан, а сам едешь неизвестно куда?
В письме были роковые строки: «Ты наверняка не знаешь, что я ухожу на «Челюскине». Пока я молод, надо пройти такую школу, как Арктика. Мы нарежем земной шар с крышки, как срезают арбуз. Худой конец – это высадка на лед, собаки, полыньи, аэропланы, газетная трескотня и трое спасенных из семидесяти, как было с итальянцами».
Промов теперь проклинал себя за эти откровения, адресованные близкому другу. Он понимал, что правда на ее стороне, и бессильно опустил руки, глубже провалившись в кресло. Жена опустилась перед ним на колени, скомкав письмо, прижала его к груди:
– Возьми меня с собой…
– Каким образом? Ты в своем уме?
– Я узнавала: туда набирают вольнонаемный персонал, там куча женщин…
– Так уж прямо и куча! – возмущенно перебил он.
Она не обратила внимания:
– Постарайся, задействуй свое влияние, я же знаю, ты можешь.
– Слухи о моем влиянии сильно преувеличены.
Она закрыла лицо руками:
– Почему ты так жесток? Я могу готовить, могу убирать, меня бы взяли, если бы ты посодействовал.
– Ничего не выйдет, – отыскал новую лазейку Промов. – Я уже думал над этим, просто тебе не признавался. Увы, персональная уборщица полагается только Шмидту.
Борис лукавил. Он, возможно, и не смог бы договориться, чтобы ее взяли именно теперь, когда команда сформирована, но по своим корреспондентским каналам он знал о сроках набора вольнонаемных и вовремя оповестить свою жену было в его силах, однако он даже в кошмарном сне не видел ее рядом с собой в этом путешествии. Достаточно того страха, что он пережил в ночь, когда они едва познакомились.
…Трещали балки горевшей крыши, отчаянно молотили по еще не занявшемуся огнем дереву пожарные топоры, в ярком пламени метались люди.
Промов сорвал с себя остатки располосованной майки, бросил под ноги, глядя на полыхавшие красным окна, в отчаянии закусил кулак. На третьем этаже со звоном вылетело стекло, и на дорогу упал деревянный стул. Промов вскинул глаза наверх: в проеме вылетевшего окна стояла Ксеня. Руками она обламывала крупные стекла и остатки оконной рамы, в глазах ее прыгал отчаянный ужас. Брандмайор все видел:
– Брезент к левому краю! Натягивай! Бего-ом!
Через пару мгновений под окном распеленали крепкое полотно. Борис держал один из углов брезента, кричал вместе со всеми:
– Прыгай быстрей, дура! Сгоришь! Прыгай!
Ксеня отчаянно рыдала, хваталась за покореженную раму, заносила ногу над проемом, колебалась и снова ставила ее на место. Внезапно изнутри горящего дома ее обдало волной пекла, и она вылетела из окна. Ватага мужиков быстро метнулась в сторону, улавливая падающее тело. Приземлилась удачно – на спину. Полотно прогнулось почти до самой земли и тут же выпрямилось, пожарные и добровольцы, им помогавшие, натянули края.
Борис тут же выронил свой угол, к нему в руки и сползла вопящая Ксеня, страх ее до сих пор не отпустил. Волосы и ночная рубашка на ней дымились, Промов стал обхлопывать остатки одежды, пытаясь их затушить, метясь по волосам, влепил ей пару неуклюжих оплеух. Мимо бежала баба с полным ведром, она на ходу опрокинула его на Ксеню и побежала дальше. Борис, стоя на коленях, обнимал ее, мокрую, закоптелую, жалкую, в остатках сорочки. Ее колотила крупная дрожь, из разрезанного о стекло плеча сочилась кровь. Он оглядел ее покрасневшую кожу на спине, нечаянно пошутил:
– Ну все, можно домой ехать, свой южный загар ты уже заработала.
Ксеня не расслышала или не поняла, продолжала всхлипывать и постанывать. Пожар локализовали, крыша в левом крыле дома провалилась внутрь комнаты на третьем этаже, ее успели обрубить и теперь проливали. Пламя не перекинулось на остальной дом и соседние постройки.
Кто-то из толпы закричал:
– Поглядите на море!
Промов, прижимая Ксеню к себе, повернул голову. По темной глади бегали зарницы огненного цвета. Неясно было, горит ли что-то на море или в небе – все сливалось в грозных сполохах. В толпе заспорили:
– Эскадра английская из калибров бьет!
– А взрывы где?
– Мало тебе взрывов? Слышишь, как в горах шумит? Это они обвалы вызывают, камнями нас хотят засыпать.
– Может, гроза просто?
– Куда тебе гроза!.. Керзон нас похоронить решил.
Красные вспышки еще долго не стихали, носились над волнами и бликовали отражениями в небесах. Ксеня успокаивалась, пряча лицо на груди у Промова.
8
Слухи о том, что открыт новый путь из Балтики на Север, достигли кубриков. Промов зашел в отсек, где жил с товарищами Яшка Кудряшов, на журналиста посыпались вопросы:
– Товарищ Промов, как вам видится – большая польза от канала прибудет? В хозяйственном плане имеется в виду?
– Мы вот ехали по чугунке теми местами, так тама вся округа только вестями о канале жила.
Промов глядел в открытые лица. Суровые северные мужики, работяги с малолетства, они понимали образованность Промова и уважали ее.
Разложив на столе газету, где грубо была начертана часть Карелии и Кольского полуострова, он дорисовал недостающие носы скандинавской суши, стал водить карандашом по этой схеме, без прикрас объяснять, как сократится путь из Ленинграда в Архангельск или тот же Мурманск, где мужики грузились на «Челюскин».
Ритмично, без провисаний и пауз текла его речь, про себя тем временем Промов размышлял: «В пробный рейс по каналу пустили агитационный пароход. Вообще-то он объявлен туристическим, но там едут Всеволод Иванов, Алексей Толстой, Горький, Шкловский, Катаев, Зощенко, Кукрыниксы, Ильф и Петров – всего более сотни деятелей культуры и еще целая куча всякого интересного люда. По слухам, просился на этот пароход и Андрей Платонов, мотивируя тем, что он специалист по гидротехническим сооружениям и половина Воронежской области получила мелиорацию его заслугами, следовательно, он сможет подойти к делу не только как литератор, но и как техник-профессионал. На самом деле у него сейчас не лучшие времена в писательстве, по слухам, его совсем не печатают… Из статей известно, как местные жители встречают этот дивный рейс: выходят на берега целыми селениями, встречают, провожают, машут руками, подбрасывают в воздух шапки. Если на палубу выходит вождь – толпы бегут по берегу, кричат, радуются, приветствуют вождя… А меня занесло сюда…»
Плотники согласно кивали, вслух славили Сталина, строителей, их руководство. Потом один спросил:
– А вот тут пишут, что наш нынешний строй может взять такую гадость, как убивец или вор, скажем, и сделать из него вполне нормального гражданина. Так это?
Промов терпеливо растолковывал:
– Именно так, газета не врет. Руками заключенных возведена такая грандиозная стройка, и многие после этого получили свободу досрочно, ударно поработав, искупив свою вину перед обществом.
– То понятно, при царе тоже каторжане были и хребет свой на государство гнули, грехи искупали. Однако царь их не перевоспитывал, а Сталин, вишь ты, и тут умудрился – слепил человека наново! – не прятали восторга мужики.
Голос подал Яшка, вторя своим собратьям:
– Скажи нам еще, товарищ Промов, где лежит этот самый остров Врангеля? Далеко нам еще туда плыть?
– Этот остров на самом краю Восточно-Сибирского моря, – Борис нарисовал на полях газеты новую карту, значительно меньше той, что была помещена в статье. – Он некоторое время был спорным между Канадой, Америкой и СССР, поэтому на нем поселили советских граждан – чукчей и эскимосов, которые занимаются зверобойным промыслом. Их поселок стоит рядом с полярной станцией, куда вы отправляетесь.
– Не мы одни, – уточнил один из обитателей кубрика.
– Да, не только вы – печники и плотники, а еще гидрографы, биологи, прочие научные сотрудники. На станции люди четыре года безвылазно сидят и работают. Вот им смена едет на «Челюскине».
– Теперь понятно, почему с собой баб нахапали, – без них попробуй протяни в этакой стуже цельную четырехлетку.
Легкий смех пробежал по кубрику, один из плотников неожиданно спросил:
– А остров этот в честь кого назван? Неужто того самого Врангеля?
– Что ты! – немного опешил Промов от такой теории и поспешил заверить плотников в честном имени первооткрывателя и исследователя: – Это всего лишь однофамилец барона Врангеля, он ему даже не родственник.
Один пожилой печник тут же отозвался:
– Оно и понятно, эт-надь, такой сволочью остров не назовут… Я от рук этого Врангеля, эт-надь, чуть богу душу не отдал.
– Что, лично сам Врангель тебя казнил? – тут же засомневался один из его приятелей.
– Да не мели ты, эт-надь, дай слово сказать, эт-надь, а коль не интересно – выйди в колидорчик, эт-надь, пройдись, эт-надь, ветерку хлебни, – рассердился рассказчик.
Промов заметил, что, когда мужик сердился, слово-паразит всплывало у него чаще.
Кубрик притих, готовясь к очередной байке, которыми только и могли развлекать себя томившиеся от безделья люди.
– Не сам Врангель в меня стрелял, эт-надь, врать не буду, зачем же, – успокоившись, сказал пожилой печник. Потом, чуть добавив голосу значимости, продолжил: – Через Сиваш готовились идти. Ноябрь, эт-надь, колотун, стыль неможная. Ветром воду из гнилого моря выгнало, эт-надь, а все ж не до конца, выше колена плещется, как в луже глубокой. Стоит рядом ротный, из бывших венгров пленных, имя заковыристое, эт-надь, мы его по-простому – Матюшкой звали. Стало ему заметно, что с лица мне взбледнулось, эт-надь. Что ты, говорит мне, стоишь – бледня-бледней, на яблочко, эт-надь, скушай. Вроде как подбодрить меня. И сует дичку такую каменную, что вогнал я зубы в нее, эт-надь, и думал – там их и оставлю. Надкусил все ж – терпкая, эт-надь, кислючая, аж во рту все сковало, морду мне, как жеваный чебот, скрючило. Плюнул я кусок в море, эт-надь, надкушенный подарок выбросил… Как пошли мы, эт-надь, как стал он снаряды кругом нас класть, эт-надь (снова заволновался печник), так волной, эт-надь, с головы до ног и шибает. Но я-то человек северный, эт-надь, даже не простудился от этих купаний, а хлопцы многие, особенно с Украины, эт-надь, набранные, потом по госпиталям валялись, может, и помер кто…
Рассказчик сам не заметил, как стал уходить в другую стезю:
– Народ на Украине, эт-надь, красивый, а слабый, не закаленный. Баню из них никто никогда не видел, эт-надь. Спрашиваю: «Где купаетесь?» Они на речку показывают. Я у них: «А зимой?» Они улыбаются: «Да шо там, эт-надь, той зимы?»
Печника одернули:
– Ты сначала про Сиваш закончи, потом про Украину будешь.
– Ага! – опомнился рассказчик, нащупав былую стрежень. – Шуганули мы беляков от берега, эт-надь, покидали они пушки свои, вглубь Крыма утекли. Меня в руку осколком цапнуло, стою у берега, эт-надь, рану зажимаю, вода с меня обвалом текет… И тут вижу – мой надкушенный подарок, эт-надь, волной к сапогам прибило. Весь путь, эт-надь, через гнилое море, эт-надь, плод за мной пронесло. Поднял я его, эт-надь, здоровой рукой, даже воды соленой, эт-надь, не стряхнул, впился зубами – ребята… Не было для меня слаще яблока, саму жизнь я, эт-надь, в ту минуту распробовал.
Промов никогда не вел записей при плотниках, чтобы ненароком не спугнуть рассказчика, но, возвращаясь к себе в каюту, фиксировал все услышанное. Он не рассчитывал, что потом из этого родится очерк о трудовой судьбе, он делал это, чтобы не закиснуть от скуки.
Сейчас у него чесались руки, но уходить было рано, голос подал еще один пожилой работник:
– Я под началом этого Франгеля одно время служил.
Былой рассказчик встрепенулся:
– На белую власть старался? Так ты, эт-надь, выходит, мне бывший враг заклятый.
– Угомонись, – отмахнулся степенный мужик. – Я служил, еще война с немцем не началась.
Промов знал всех по именам. Нарушившего молчание плотника звали Петр Михайлович Шатайлов. Выглядел он лет на сорок пять, носил короткую и густую бороду, зрение, видимо, стал уже потихоньку терять, поэтому часто щурился или натягивал уголок глаза, чтобы рассмотреть в газете текст. Журналист замечал, что был он все дни плавания неразговорчив, замкнут в себе. Соседи по кубрику, тоже не слышавшие от Петра Михайловича лишнего слова, были обрадованы его внезапным отказом от безмолвия и приготовились слушать.
С первых его слов Промов пожалел: «Эх, чего ж ты раньше молчал, карась златоустный? Теперь давай, наверстывай». И Шатайлов заговорил, будто разматывал неторопливую сказку:
– Сдали меня, молодца, на военную службу. На третий день приняли мы присягу, вечером отпустили нас погулять еще на две недельки. Гулял я очень хорошо, карагодился с барышней Полонией, фамилию ее не стану называть. Нам с ней оченно везло последние дни любви.
Соседи по кубрику, заслушавшись, открыли было рты, но внезапно встрял печник:
– Про Врангеля давай, а не с тридевятого уезду, эт-надь.
На него зашикали:
– Не мешай, пусть рассказывает. Толкуй дальше, Петр Михайлович.
Шатайлов продолжил:
– Поступил я в лейб-гвардии конный полк, четвертый эскадрон. Первый месяц тяжело привыкал к военной службе, в особенности к лошадям. Я их до этого почти не видел, езда в манеже трудно мне давалась. Но все-таки Бог не без милости. До смотра нас очень здорово гоняли и репертили, а как сдали смотр, так уже нам легче стала служба. Послев праздника Пасхи мы поехали в лагеря стоять, в Красное Село.
– Ну когда ж, эт-надь, про Врангеля будет? – не вытерпел печник, уязвленный тем, что ему не дали рассказать, каков на Украине народ.
Его опять быстро приструнили, Шатайлов вел рассказ дальше:
– Летом ездил я из Красного Села в Петербург, до брата Ивана за крестного батьку, крестить младенца, девчурку назвали Ефросиньей.
– От Врангеля, что ль, эт-надь, девчушка родилась-то? – не унимался потерявший терпение печник.
На него уже не обращали внимания, а Шатайлов говорил:
– Были в августе большие маневры, я в то время назначался конно-вестовым у полковника барона Франгеля и ухаживал за его лошадью. Потом полковника откомандировали, и он уехал с маневров в Петербург, а мне на его лошади пришлось ехать шестьдесят верст по шоссе из деревни Карчаны в Красное Село. Дал мне полковник на дорогу три рубля, да я соломы куплю на двадцать копеек, а говорил – на пятьдесят. Так и пригнал к рукам рубль с трешки.
Посыпались всеобщие одобрения:
– Гляди, ловок-то! Тихий-тихий, а со своей выгодой. Молодец, Петр Михайлович, распатронил буржуйское семя.
Промов ухватился за возможность разговорить не раскрытого пока еще персонажа:
– Товарищ Шатайлов, расскажите нам о своей юности. Мы, – обвел он рукой себя, Яшку и прочих молодых плотников, – царского режима почти не помним, нам интересно узнать, как жилось вам в то время.
Шатайлов большой охоты не выразил, но и отказывать не стал:
– А чего рассказывать, кто работяга был, так и в то время жил достойно.
– Ну, эт-надь, ты погоди, – перебил его пожилой печник, наверняка уязвленный тем, что Промов стал расспрашивать молчуна Шатайлова, а не его.
Однако Шатайлов, видимо, устал от своей немоты, печника угомонил:
– Тебя когда спросят – ты свою судьбу расскажешь, а сегодня мне ответ держать.
Он провел большим и указательным пальцами по усам, словно утер губы после обеда, оперся рукой себе на колено:
– Сам я псковский уроженец, селение наше на берегу озера. Четыре года мне было, померла мамка, успела нарожать нас четверых мальчуганов, я – самый молодший. Отец годок попостился и взял новую женщину. Сколь себя помню, отец с братовьями моими рыбной ловлей на озере промышляли, лодку свою имели, выручали за летний сезон от трех сотен до полутысячи. В девять годков в школу пошел, через четыре зимы получил земское свидетельство. Первым Степана женили, шестьдесят рублей потратили на всю окруту да сотенную в приданое. Когда его отделяли, два пальта снарядили, часы, двое сапог и всего, чего ему полагалось.
Борис сжимал кулаки, подавляя в себе соблазн тут же полезть во внутренний карман за записной книжкой и начать конспектировать хотя бы отдельные, наиболее цепкие словечки. Его забавляли эти подробности, которые человек помнил спустя три десятка лет. Чувствовался в рассказчике крепкий хозяйский глаз и неравнодушие к деталям.
– Следующему по возрасту Василию жениться надо, а он надумал уходить в монастырь. В девятьсот втором, на Крещение, ушел он от нас в Никандрову пустынь. Отец его с легким сердцем из дому отпустил, потому Василий ничего от нас не просил и ушел, в чем был. Два года новую лодку строили, в девятьсот пятом, на четвертый день Пасхи, спустили на воду. Выпоили мужикам восемь четвертей водки за труды. Старую лодку отец Степану передал. Ездили втроем, отец, Иван и я. Ездили благополучно первое лето и уплатили сто рублей долгу. Осенью, в шестом году, сдали Ивана на царскую службу, послев этого остались втроем с отцом и мачехой.
Пожилой печник приподнялся, наигранно потянул кости, зевнул, ни к кому не обращаясь, сказал:
– Пойду, эт-надь, промнусь, – и вышел из кубрика. За ним последовали еще двое-трое.
Шатайлов говорил:
– Летом наняли мы работника Савву за сорок пять целковых, с которым я много горя потерпел, он очень водку любил, из-за этого не мог отжить у нас всего лета. Про него очень можно большую сказку составить. В этот девятьсот девятый год был я записан на военною службу. Гулялось мне очень хорошо против товарищей потому, что у меня были всегда деньги. Рыбалили весь октябрь, а первого ноября мне на службу. Согнали мы лодию в Боровицкую речку и поставили около деревни Лудвы на зиму. Как-то у нас дело пошло нехорошее, стали здориться, хотели было ловить мутнячком, но никак не могли собраться.
Из кубрика молча удалились еще несколько, тоже размяться и покурить. «Куда ж вы, черти? Сейчас самое интересное и начнется, раз «здориться» в семье Шатайловых начали», – думал про себя Промов.
– В ту осень, на праздник Досифея, пришли мы домой, стали спать ложиться, были в гостях у Форталновых, немного подвыпили. Тогда Иван спал в передней избе, а я в задней и был в большом углу, а отец с мачехой на кровати, за завесой. И вот не успел я лечь на постель, в то время мать моя неродная начала меня очень ругать. Был я очень выпивши, стало мне бедко, вышел вон и заплакал. Иван, брат, стоял за дверью в сенях и все слушал ейны ругания, и не смог удержаться – вскочил в избу, схватил мачеху за тельную рубашку, так и выбросил в сени, она выскочила на улицу молча и у соседа ночевала вместе с отцом. Утром родители, долго не думавши, справились, оделись и поехали в село к становому, заявлять о случившем. Настал праздник Досифея, у нас хата не топлёна, нет никого дома, брат Иван с женою пошли к тестю. И я тоже пошел, выпил полбутылки в шинке. Обычно на праздник было у мачехи растворено пшеничное тесто, но по случаю хлопот осталось без последствия.
Те, что остались в кубрике, явно скучали. Яшка не выдержал, вклинился в ровную речь Шатайлова:
– Ты б лучше про службу царскую рассказал, дядь Петь. На войне германской бывал?
– Будет тебе и про службу, – ровно ответил Шатайлов, на секунду задумался, явно припоминая случай:
– Шли мы во время эскадронного занятия полевым галопом, и скомандовали нам «К пешему строю, слезай!». Так один нечаянно наскочил на свою пику, и она прошла сквозь его и переломилась. Он, вгорячах, одну половину перетащил сквозь себя и даже бежал строиться во взвод… Пожил он только до шести часов вечера. Нам потом копию из приказа читали: «Хороним одного из своих товарищей, погибшего славной смертью при исполнении долга пред Царем и Родиной». Даже доску завели про тот случай геройский, на ней имя гвардейца напечатали и поставили ее у эскадронного образа для хранения, на вечное время. Командующий полком доску завести велел – флигель-адъютант Скоропадский.
– Если такие парняги геройские в ту пору служили, отчего вы германца в бараний рог не согнули? – без претензий, на одном удивлении поинтересовался Яшка.
Промов аккуратно посмотрел на него – в глазах Яшки сквозила тихая зависть к былым временам: были люди и эпохи, и там, в этом проклятом царизме, было место для боевого подвига, не то что в нашу мирную эру, когда подвиг может быть только на комсомольской стройке. Давно отгремели бои с басмачеством, успел забыться конфликт на КВЖД, страна и армия крепнут, а будет ли случай проявить себя этой набирающей силу армии?
– Про германца еще впереди речь будет, – неспешно заверил Шатайлов, а Борис с восторгом подумал: «Ишь какой интриган! До конца в напряжении держит, как опытный сценарист».
– Выехали мы из Красного Села, переночевали в Петербурге, сводили там нас в бани, а утром – на Москву. Двое суток добирались. Выгрузились на станции «Можайское», и все мы ходили по Бородинскому полю, смотрели на памятники и были на братской могиле у князя Багратиона и в Спасо-Бородинском монастыре. Там князь Шаликов купил нам по ложке. От монастыря пошли на то место, где сражалась конная гвардия, там и поставлен памятник столетию битвы. Двадцать пятого августа на Бородинском поле был крестный ход, по всем войскам проносили икону Казанской Божией Матери, позади крестного хода шел государь и государыня, наследник Алексей Николаевич и августейшие дочери ехали позади в карете.
«Величает кровавого царя со всей фамилией и не страшится этого», – успел бегло отметить Промов.
– Пришли на бивак, был нам обед – усиленная порция, отпустили всем по медали, по Бородинскому рублю, по бутылке пива, по фунту колбасы и гостинца. А на трехсотлетие Романовского дома – снова дали нам по медальке и по юбилейному рублю. Служба моя окончилась пятнадцатого марта четырнадцатого года, на средней неделе Великого поста. Распростился со своим начальством и друзьями, и сейчас же нас погнали на вокзал.
В коридоре послышалась болтовня, несдержанный смех, с шумом в кубрик ввалились пожилой печник и вышедшие с ним на променад плотники. Печник, глянув на Шатайлова, оборвал себя на полуслове:
– Эт-надь, ты до сих пор еще брешешь? Никак не кончил, эт-надь?
– Погоди, самое интересное начинается, уже война близко, – вступился за рассказчика Яшка.
Плотники прекратили гомон, снова стали рассаживаться по койкам.
– До войны еще дожить надо, – степенно заметил Шатайлов. – Поехал я из Петербурга не к дому, а нанял меня к себе в имение Лексей Лексеевич Ильин, ротмистр наш. Там я и Пасху встретил. До лета проработал, тут и мобилизацию объявили. Вместе с барином поехали мы в город Ладогу, езда была веселая, с водкой. Проезжали через Псков, я набрал баранок, яблок и груш, а навстречу нам провозили первых раненых с позиций. Приехали в Граево, выгрузились из вагонов и пошли за границу. Не успели осмотреться на разоренные магазины, долго не разгуливались – вечером пришлось отступить. Переночевали в Граеве, под зарядным ящиком, все наготове. Из Граева нас кинули в Августов, а оттуда уехали в Сувалки и чуть не попали в плен неприятелю. Ночью офицер чужой части проезжал мимо нас, застал игравших в карты, но хорош был, ничего не сказал и карты бросил молча в огонь. В сентябре, помню, был бой у деревни Копцево, наши хорошо отличились – взяли в плен шестьдесят душ, а соседний полк финляндский – пушечный мотор у немца заарестовал. Две недели прожили на сухарях, оторвались от тылов и кухни. Все время возили снаряды на позицию, бывало, под взрывами ездил. Немцы отступили за Мазурские озера. Опять я за границу попал. От Гачек проезжали по битым германцам, на второй день пошли смотреть на поле брани. Там прискорбное положение. У одного немца на груди увидел я икону Божией Матери. Был он ранен в правое бедро навылет. Наверное, долго мучился и, собрав последние силы, положил на грудь образ святой и уснул. Письмо на иконе наше было, русское, видать, отобрал германец у соседа, когда тому уже не понадобилось…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?