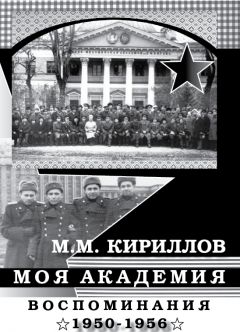
Автор книги: Михаил Кириллов
Жанр: Повести, Малая форма
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Михаил Михайлович Кириллов
Моя академия. Ленинград, ВМА им. С.М.Кирова, 1950–1956 гг
Учителям и выпускникам Академии посвящается
Сведения об авторе: Кириллов Михаил Михайлович – выпускник ВМА им. С.М.Кирова 1956 г., доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы в отставке, Заслуженный врач России.
Предисловие
История Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии к настоящему времени насчитывает более 210 лет. На её развитии сказывались требования того или иного общественного строя, который существовал в России (СССР). Наиболее динамичным оно было в советские годы. Власть завоевали трудящиеся. Здравоохранение всегда отражает классовые интересы общества. В то время страна была охвачена голодом и эпидемиями. В 1921 году на съезде работников Медсантруда В.И.Ленин определил главную задачу советского здравоохранения. Он говорил: «Если мы спасем рабочего, мы спасем всё».
Значение Академии резко возросло в период Великой Отечественной войны. В те годы и сразу после войны Академия, с 1934-го года носившая имя С.М.Кирова, в наибольшей степени впитавшая фронтовой опыт и сохранившая все ценное из наследия прошлого, стала наиболее авторитетным учебным медицинским учреждением страны. Учиться в ней было престижно. Профессорско-преподавательский состав на 90 % состоял из фронтовиков – коммунистов. Именно к этому времени относятся воспоминания, приведенные в этой книге. На нашем курсе было до 200 чел. Нам повезло: почва, как говорится, была богатая, зерно добротное, и посев дал добрый урожай. Это очевидно и спустя полвека. Мы выросли за время учебы и в профессиональном, и в личностном отношениях. Академия готовила нас на всю жизнь: не войсковыми, а военными врачами. Наш выпуск не остался в долгу у наших учителей. Мы продолжили их дело, служа интересам народа.
С начала 90-х годов классовые приоритеты в стране изменились коренным образом. В этих условиях прежняя роль медицинской школы страны в целом и ВМА, в частности, была утрачена. Академия постепенно превратилась в третьеразрядное учреждение. Такая академия уже не может носить имя Сергея Мироновича Кирова. История советской военно-медицинской школы и последнего двадцатилетия несопоставимы.
Нас от выпуска осталась одна треть. Нам – под 80. Скоро уйдем и мы. В чем же смысл этой книги? Она воскрешает память о том времени, о той Академиии о нас. Она нас воскрешает.
Мои более ранние воспоминания относились к периоду Великой Отечественной Войны и к послевоенному времени. Они были опубликованы в повестях «Мальчики войны» (1909, 1910) и «После войны» (1910). В них шла речь о судьбе двух семей. После возвращения из эвакуации мальчики из первой семьи (Кирилловы) теряют мать, а девочки из второй семьи (Гришковы) – отца. Старшим из мальчиков был я. В 1946-м году обе семьи объединились. После окончания Шереметьевской средней школы Московской области в 1950-м году я поступил в ВМА им. С.М.Кирова и уехал в Ленинград.
В этой книге речь пойдет о моей учебе в этой Академии и о самой Академии в пятидесятые годы. Персонажи прежних воспоминаний (родные, близкие, друзья, одноклассники) войдут и в данную повесть.
Первый учебный год
(1950/1951)
Неву я увидел сразу по приезде в Ленинград с Пироговской набережной у Литейного моста. Она была так огромна, глубока и стремительна, что вид ее затмил на миг все мое прошлое и сделал несущественным все предстоящее. Потрясенный, я потащился в штаб Академии, что располагался рядом, на ул. Лебедева. Отделенный от улицы резной металлической решеткой, с высоким куполом, колоннами и гербом СССР на фронтоне, штаб находился в глубине обширного зеленого дворика, в центре которого над клумбой возвышался прекрасный бюст Сергея Мироновича Кирова. Дорожки в дворике вели к строевому отделу, где мне было объявлено, что я отныне – слушатель 1-го курса академии и что мне надлежит явиться в общежитие на ул. Боткинскую для прохождения службы. Вместе с другими, такими же вчерашними школьниками в гражданских пиджачках, я поднялся на последний этаж общежития и представился начальнику курса подполковнику м/с Б.П. Поликарпову, немолодому уже, небольшого роста, худощавому офицеру в кителе, портупее и в сапогах. На груди его был орден «Красной звезды». «Фронтовик, как наш директор школы», – подумал я.
Разместив в одной из комнат, меня отпустили для устройства личных дел.
Прежде всего, я поехал к родственникам отца, рабочим «Государственного оптико-механического завода (ГОМЗ)». Завод располагался на Выборгской стороне, где-то недалеко от проспекта Карла Маркса. Родные жили в общежитии на заводской территории. Громадное помещение цеха, приспособленное для жилья, было мебелью поделено на четыре части – столько было конкретных семей в этом большом семействе. Соседние цеха использовались таким же образом. Жилищный вопрос в Ленинграде в то время был очень острым.
Встретили меня радушно, они хорошо знали моего отца. Я переночевал у них. Цеховые переборки были такими тонкими, что я отчетливо слышал разговоры соседей. Так, одна из женщин в ответ на сетования собеседницы авторитетно заявила: «Суженого на коне не объедешь!» Это звучало как приговор. Такое выражение я слышал впервые.
Старшей в семействе была Прокофьева Мария Ивановна, сестра отца, женщина лет пятидесяти, работница завода еще с довоенных времен. Мужа у нее не было (погиб на фронте), но с ней были две дочери и сын – Анатолий – с семьей. Анатолий был добрый малый, но пил. Он только что вышел из тюрьмы. Пьяный, он булыжником разбил стекло в железнодорожной будке на заводских путях. Поскольку это был «объект», ему дали два года. В этой семье все частенько выпивали, кроме тети Маруси. Зарабатывали немало, а жили бедно.
Побывал я и у дяди Саши – фронтовика, который жил на Ржевке с женой и ее матерью – старушкой. Улица, где они жили, называлась Кабаниха. Дом был деревянный. Вокруг высились корпуса военных заводов. Последний раз мы виделись в 1945 году в Москве, в Лефортово, когда он вернулся с фронта и возвращался в Ленинград. Это была уже вторая его семья. Первую он по «дороге жизни» отправил на Алтай из блокированного Ленинграда глубокой осенью 1941 года. После окончания войны его жена и дочь не вернулись.
Тогда, в годы блокады, от голода умерли многие из большой семьи Кирилловых, проживавших на Ржевке и на Пороховых. Дядя Саша рассказал мне подробности гибели своих родителей. Дедушка, Иван Григорьевич, сидя в кресле позвал внучку и попросил молочка. Девочка растерялась, так как они уже давно не видели молока, и обратилась к бабушке, что ответить дедушке. Та сказала: «А ты налей стакан воды и дай ему». Когда внучка подошла к деду с водой, тот был уже мертв. Умер, сидя в кресле. А ведь они жили на Ржевке, это был пригород Ленинграда, и у них был огород, и был собран картофель, но это не спасло: из-за блокады и уничтожения немцами Бабаевских складов с продовольствием уже в сентябре 1941 г. в городе наступил жесточайший голод.
Позже, в апреле 1942 г. наступил черед бабушки. Она тоже умерла от истощения и была захоронена в той же братской могиле, что и дед. Сам Александр Иванович был мобилизован в армию и санитаром в медсанбате дошел до Румынии. Мы побывали с ним у братской могилы на Пороховых.
Созвонился и навестил я и других наших родственников по отцу – Новожениных: Анну Гавриловну, Татьяну Григорьевну и Лизу. Лиза только что поступила в Университет на географический факультет. Ее отец, Павел Григорьевич, двоюродный брат моего отца, погиб на Карельском фронте в 1942 г.
Прибыв на курс, вместе со всеми я получил на складе курсантское обмундирование, в том числе шинель и сапоги. Вечером старослужащие учили нас, молодых, подшивать подворотнички и наворачивать портянки. Сформировались взвода и отделения. Определился круг будущих друзей. Помимо выпускников школ, на курс были зачислены военнослужащие из войск, в том числе десятка три офицеров медицинской службы, фельдшеров, прошедших войну. Всего число слушателей достигало 150 (позже, к январю оно пополнилось еще 50-ю). Старшиной курса был назначен старший лейтенант м/с Клименко, командиром нашего взвода – капитан м/с Голоцван (молдаванин). Сформировались комсомольские организации. Замполитом курса чуть позже был назначен подполковник по фамилии Шпак.
31-го августа было проведено построение курса, а с 1-го сентября начались занятия. Теперь на лекции и в столовую мы ходили только строем. Началась служба. Все было впервые. Впечатлений было так много, что можно было устать только от этого. Читались лекции по анатомии и биологии. Мы учились писать лекционные конспекты. Тогда я узнал, что есть три способа конспектирования: запись слов лектора, запись мыслей лектора, то есть, только главного (этой селекции нужно было еще учиться) и, наконец, запись собственных мыслей по поводу мыслей лектора. Последнее было мало достижимо из-за отсутствия собственных мыслей. Говорили при этом, что так конспектировал Ленин: его карандашные заметки сохранились на полях книг, которые он читал в Лондонской библиотеке. У нас поначалу преобладало школярство.
Анатомический корпус располагался в конце ул. Лебедева, за Финляндским вокзалом. В старинное здание вели ступени, в высоком вестибюле по бокам от лестницы в глубоких нишах стояли скелеты мамонтов. Это впечатляло. Сама кафедра располагалась на втором этаже. Первый этаж служил подвалом, где обрабатывались и хранились человеческие трупы, служившие для учебного анатомирования и научных исследований. На самой кафедре имелись аудитория, помнившая 19-й век, многочисленные учебные залы со столами для препарирования трупов и богатейший музей. На стенах коридоров висели портреты ученых, в том числе, сотрудников кафедры.
Лекции читали академик генерал-лейтенант м/с В.Н.Тонков и профессор полковник м/с Курковский, а позже профессор генерал-майор м/с Долго-Сабуров.
Тонков был легендарной личностью. Ему принадлежал учебник нормальной анатомии, по которому нам предстояло учиться. Было известно, что в 1918-м году по ходатайству Максима Горького его и других ученых принимал в Кремле В.И.Ленин. Речь шла о сохранении научных школ и системы высшего образования в Советской России, о неотложных нуждах самих ученых и спасении их от голода. Существует даже картина, на которой запечатлена эта встреча. Сам академик был уже весьма стар, голова его и усы были седыми. Читал лекции он, сидя, тихим голосом, но без использования текста. На кафельном столе в тазиках лежали экспонаты – кости и суставы (излагались остеология и синдесмология). Интересны были его экскурсы в историю кафедры, и перед нами возникали образы Н.И.Пирогова, Буйяльского, Грубера и других великих анатомов.
Порядок на кафедре был строгим. Под руководством преподавателя слушателями производилось препарирование тканей в соответствии с тематикой занятий. Впечатляло, когда преподаватель погружал большой корнцанг в плевральную полость как в открытый мешок. Мы, в сущности мальчишки, видели, быть может, впервые в жизни, обнаженные тела молодых женщин, но женщин мертвых. К этому нужно было привыкнуть, здесь же что-то было святое и запретное.
Трупы приносили и уносили служители, так их называли. Санитары. Это была физически тяжелая работа. Мы знали, что многие из них работали на кафедре и в годы блокады, голодая и замерзая в неотапливаемых помещениях. Было ясно, что для них сохранение пироговского наследия, в особенности тогда, было не службой, за которую давали хлеб, а чем-то большим – служением. Отсюда вытекало, что их назначение – не санитары, а служители. То же в такой же мере относилось и к профессорско-преподавательскому составу кафедры того времени. Их работа являлась служением делу их учителей. Конечно, мы, слушатели, росли в этой обстановке. Учить анатомию нам предстояло больше 2-х лет.
На втором этаже располагалась кафедра гистологии (проф., полковник м/с Н.Г.Хлопин), восточное крыло здания занимали кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии (проф., генерал-лейтенант м/с В.Н.Шевкуненко) и кафедра патологической анатомии, заведовал которой один из представителей академической династии Чистовичей – проф., полковник м/с А.Н.Чистович.
Проф. В.Н.Шевкуненко был слепым. Его каждый день привозили на машине. Он с сопровождающим поднимался по лестнице в здание и к себе в кабинет. Он продолжал работать, читать лекции исключительно по памяти. Мы задумывались: почему? Не было смены? Не успел отдать всего себя без остатка?
Кафедра биологии находилась в здании рядом с анатомическим корпусом. Запомнилось немногое: например, как мы под микроскопом рассматривали срез луковицы, изучали лекарственные растения. Это был цикл ботаники. Спокойная такая кафедра была. Она готовила нас к сложнейшему курсу фармакологии. Постепенно становилось ясно, что в системе обучения в Академии не было ничего случайного. Вел занятия по биологии молодой подполковник мс Шпиленя. Во второй половине дня за забором – вдоль по улице Боткинской, где зеленел ботанический сад Академии, – он копошился на грядках, и мы – первокурсники – знали, что он – учёный, такой же, как Тонков, Павловский, Орбели и другие.
В октябре я заболел ангиной, причем так остро, что меня прямо с занятия по ботанике отправили в инфекционную клинику, что находилась рядом, за анатомическим корпусом. Ангина была тяжелая, однако температура на фоне пенициллина снизилась быстро. Со мной в палате лежал сержант из караульной роты академии. Ребята мне принесли литровую банку компота из вишен, и я охотно делился с соседом по палате. Это доброе дело позже откликнулось мне добром. Но об этом – в свое время.
Моим самым близким другом вскоре стал Саша Шугаев, сосед по койке. Мы были с ним оба небольшого роста, схожие по характеру и всегда ходили вместе. Народ это приметил сразу и прозвал нас «диплококки» и еще – «гемелюсы» (по названию парных мышц бедер). Он приехал в Академию из Белоруссии, из города Шклова. Его мать, как и других женщин села, оторвав от детей, в 1941 году фашисты угнали в Германию. Когда Белоруссию освободили, он жил и учился в детдоме. Школу закончил с золотой медалью.
У него разорвался ремень от шинели. Что было делать? Отпросились в выходной день съездить на барахолку. Она располагалась на Лиговском проспекте у Обводного канала. Народу там было – не протолкнешься. Чем здесь люди только не торговали! Нашли и нужный нам ремень. Боялись попасться военному патрулю, но обошлось. Оказалось, Ленинград – это не только красивые набережные, то есть совсем не Санкт-Петербург, и народ в нем всякий живет, причем живет бедно. У города в разное время были разные названия: Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Что нам казалось более правильным и близким? Конечно, Ленинград.
На учебу приехали разные ребята. Помню, Княжев, белобрысый парень, приехал в лаптях из вологодской деревни, но с медалью. Миша Макеев – славный парень, Жора Цыбуляк, остряк и балагур – из Наро-Фоминска. Пока не переоделся в форму, он ходил в бархатной курточке. Ким Сидоров, похожий на артиста Крючкова, бывалый такой, – из города Суземки. Юра Филимонов – москвич – высокий, кудрявый, красивый и ироничный – дополнял картину. Со старослужащими мы знакомились не сразу: их жизненные пути отличались от наших. У нас за спиной была только школа, а у них! Упомяну только о Сереже Мустафине. Он прибыл на курс в звании ефрейтора. Его в 30-е годы нашли маленького на железнодорожной станции в Татарстане, поместили в детдом. Он твердил только, что он – Мустафа. Дали ему фамилию Мустафин, а имя и отчество – в честь тогда очень популярного Сергея Мироновича Кирова. Так что другим моим соседом по койке был татарин. А в целом, и взвод наш, и курс представляли настоящий интернационал! И все – комсомольцы.
Ежедневно в 21 час проводилась вечерняя проверка. Строились в коридоре повзводно. Командиры докладывали старшине курса. Все это происходило весело. Толкались. Звучало и такое: «Сейчас как дам фибулей по мандибуле!» (костью голени по челюсти).
Питались в академической («шеровской») столовой. Шеровской она называлась по фамилии долго работавшего здесь директором тов. Шера. Туда и обратно ходили строем. Помню, в столовой раздатчицей работала молодая женщина по имени Клава. Обходила столы, держа на подносе стаканы с какао, и зычно кричала: «Чья какава?». Ее так и звали «Клава – чья какава». К слушателям она была очень доброжелательной и на них не обижалась. Лет через пятнадцать я встретил эту женщину в академическом детском садике, она работала здесь нянечкой: принимала и выдавала родителям малышей, в том числе, нашего сына Сереженьку. Она мало изменилась. Малышам с ней было хорошо.
За столовой располагался внутренний академический парк с вековыми деревьями. В него выходили запасные двери клиник и штаба академии, в нем располагались ботанический сад, детский сад и детская площадка. Днем здесь гуляли больные в больничных халатах и детишки. Посреди аллеи парка стоял на постаменте невысокий памятник Вилие – первому начальнику академии, генералу. Академия была открыта при императоре Павле 1-м. Среди деревьев располагался одноэтажный корпус на несколько комнат с одним входом. Его именовали «арабским домиком»: будто бы в нём когда-то жила арабская делегация. Домик этот был построен явно ещё в 19-м веке. На скамейках парка удобно было готовиться к экзаменам.
Приходили первые письма: от отца из Евпатории, от моих друзей из подмосковной Шереметьевки (Али Скобелевой, Бори Рабиновича, Тамары Еськовой, Майи Чигаревой). Судя по письмам, братья мои и сестра успешно учились и росли. Саша и Люся в Москве, а Володя – в Евпатории, где служил отец. У моих одноклассников складывалась студенческая жизнь. Писала даже наша учительница – Алевтина Алексеевна – просила кому-то что-то посоветовать или чем-то помочь. Я отвечал.
На ноябрьские праздники слушатели впервые получили увольнительные. Общежитие опустело, остался только наряд. Можно было, наконец, посмотреть Ленинград. Договорились, что город мне покажет Лиза Новоженина. Наш маршрут был таким: ул. Восстания, где она жила, Невский проспект, памятник Екатерине, Казанский Собор, Дворцовая площадь с выходом на нее через арку, Зимний дворец, Адмиралтейство, Александровский сад с памятниками Жуковскому, Гоголю и другим писателям, Пржевальскому, памятник Петру 1-му, Исаакиевский Собор, памятник Николаю Первому (о котором говорили, что «дурак умного догоняет, да Исакий мешает»). Уставшие возвратились домой к Новожениным.
За прошедшие с тех пор 60 лет (а бывать и даже жить в этом городе мне приходилось часто) вся его красота стала мне знакомой до боли. К тому же Ленинград – мой родной город. Но тогда, 7 го ноября 1950-го года, встреча с ним стала открытием, посвящением в мир прекрасного. Это вызвало состояние эстетического шока. Мальчик из Подмосковья, я, конечно, видел до этого Московский Кремль, Исторический музей, Большой театр, но все это было несравнимо с ансамблями Петербурга. Я был переполнен впечатлениями. Лиза, с детства знавшая эти достопримечательности, рассказывала о них увлеченно, с любовью, как о своих друзьях.
На следующий день мы прошли по улице Жуковского, мимо здания Цирка, памятника Пушкину и Церкви Спаса на крови и оказались на Марсовом поле. Громадное, оно простиралось до Кировского моста и Летнего сада. В центре его громоздились памятные гранитные плиты с надписями, напоминавшими засохшую кровь, и вечный огонь в честь погибших революционеров. Выпал снежок, и все напоминало картину, выполненную в графике. Лебяжья канавка не замерзла еще. Летний сад был полон опавших листьев и мраморные фигуры, и даже дедушка Крылов выглядели по-осеннему сиротливо. А за набережной простиралась самая широкая акватория Невы – между Литейным и Кировским мостами. За мостом видны были стены крепости и Петропавловский Собор.
Вернувшись домой, замерзшие, мы с удовольствием отведали горячего супа, а потом долго пили чай с вареньем. Рассказывали Лизиной маме и её тёте – Татьяне Григорьевне – об увиденном в эти дни. Мне казалось удивительным, как я мог так долго жить без этого. Лизанька, показав мне свой Ленинград и подарив его мне, уже только этим подняла меня на новую ступень человеческого роста. Прежние мои, школьные, привязанности не то, чтобы потускнели, но получили какое-то другое измерение. Я стал взыскательнее. Жизнь оказалась богаче, чем я считал, но и сложнее. Стало более очевидно мое несовершенство. Мне подарили, а что подарить мог я? Только наивную доверчивость и преданность? Среди этих замечательных, интеллигентных людей, ленинградцев, со сложившимся домашним бытом, мой уровень образования и воспитания оказался недостаточным. В моей жизни, кроме эвакуации, послевоенного детства и жизни среди чужих людей, ничего не было. Откуда же было взяться городской культуре! Тем не менее, у меня в Ленинграде появились родные люди и друзья. На этом и расстались: до Нового года вряд ли можно было увидеться. Но жизнь уже стала теплее. Мне ведь было всего 17 лет, родные были далеко и, кроме койки в общежитии и шинели, меня ничто не грело.
Занятия на анатомической кафедре становились все труднее. Было много фактического материала, требовалось знание латыни и навык пространственной памяти. Нужно было не только знать, к примеру, ту или иную борозду по латыни, но и мысленно представлять ее и видеть, где она находится. А таких бороздок, мыщелков и синусов было тьма. Рассказывали, что в 19 веке на экзамене практиковалось такое: профессор подбрасывал кость, а слушатель должен был успеть узнать ее за время падения. Приходилось зубрить и тренировать друг друга. Некоторые приносили в общежитие на ночь кости и буквально спали с ними. А утром возвращали. Мы очень уставали.
Сменился преподаватель, им стал доцент Французов, спокойный, но требовательный и справедливый человек. Мы не могли тогда понять, зачем нужна была такая тщательность фактических знаний. Видимо, это судьба всех фундаментальных базовых дисциплин, они – основа дисциплин конкретных, будь то хирургия или терапия. Не случайно анатомом из 200 человек нашего выпуска стал только один, ныне академик, сохраняющий в Мавзолее тело В.И.Ленина (Денисов-Никольский). Но тщательности и фундаментальности научились все.
После ноябрьских праздников всем взводом посетили Аврору. Поднялись по трапу. Прошли по отсекам и палубам, посмотрели и пощупали знаменитую пушку. Аврора стала музеем, одним из музеев Октябрьской Революции. Руководил им один из участников тех событий на корабле в 17-м году. Он и экскурсию вел. Это было также торжественно, как посещение Мавзолея.
Финляндский вокзал к началу 50 – х годов оставался небольшим. Перроны были оснащены фонарями старой конструкции. В сущности, вокзал был пригородным: обслуживал электрички. Старина его была привычной и какой-то домашней. В левой половине вокзала на рельсах стоял небольшой паровоз начала века, на котором в апреле 17-го года Ленин прибыл в Петроград из Финляндии. Теперь это было памятным свидетельством Революции.
Декабрь был холодным и темным. Улицу Боткинскую завалило снегом. Слушателей привлекали к его расчистке. Это было неплохо, так как позволяло нам побыть на воздухе и поработать физически.
Стало известно, что на Новый год я буду дневальным по курсу, а значит, планы на праздники сокращались. Дежурство дежурством, но Новый год нужно было как-то отметить. Запаслись продуктами. На ул. Лебедева был большой рыбный магазин. Мы любили заходить в него: столовская еда надоедала. Чего там только не продавалось! Селедка, корюшка, треска копчёная, в брикетах, завязанных веревочками, палтус, угорь морской. Жаль только, что жалование у нас было небольшим, но мы все же покупали. И на Новый год купили.
Дежурство на курсе ничем плохим не ознаменовалось, хотя в комнатах народ, конечно, выпивал. Попировали и мы, наряд.
Второго января мы с Лизой сходили на экскурсию в музей Арктики. Там были материалы о папанинцах (сам Папанин был в то время еще жив), палатки, лодки, приборы, фотографии полярников. Я вспоминал там о Боре Шеломанове, моем школьном друге, поступившем в Московский медицинский институт. Его отец был полярником и работал на Ямале. Лиза любила и знала географию, пойти в этот музей было ее инициативой. И я рад был, что побывал в нем. Не уверен, что этот музей существует сейчас. Среди увиденных льдин и торосов я не чувствовал себя одиноким. Мне показалось, что, может быть, из нас с Лизой получатся со временем «два капитана». Помните: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
Сразу за новогодними праздниками началась экзаменационная сессия. Я всё сдал благополучно, главное, получил зачет по остеологии и синдесмологии. И группа наша прошла сессию без троек.
Перед самыми каникулами мне поручили выступить по радио Академии, вместе с профессорами Куприяновым (кафедра факультетской хирургии) и Рождественским (кафедра марксизма– ленинизма). Мне исполнялось 18 лет, и я должен был впервые принять участие в голосовании на выборах в Верховный Совет страны. Агитационные выступления были назначены на 26 января, то есть на день моего рождения. Это происходило в клубе. Хирург Куприянов, тогда уже очень известный профессор, убедительно агитировал радиослушателей за ученого из нашей академии. Марксист Рождественский страстно говорил о токаре с «Металлического завода», а я – о товарище Сталине. До этого меня в Политотделе долго тренировали. Сталина выдвигали везде, а проходил он по какому-то одному из округов. Я думаю, что у меня получилось не хуже, чем у профессоров.
В каникулы съездил в Москву. Там, на 3-ей Парковой улице, уже в 7-м классе учились Люся и Саша. Жили они вместе с сестрой Любой и тетей Валей. При встрече все было обычным и родным. Но впервые Люся обратилась ко мне как к старшему брату за советом, как ей дальше жить, к чему стремиться. Было очевидно, что она взрослеет. Появляются вопросы, а кого спросишь? Что я мог ей ответить? Нужно закончить 7 класс, нужно больше читать, особенно классиков и сверх школьной программы. Предложил ей поддерживать связь со мной, переписываться, не считать себя неудачницей и одиночкой, тем более что она на самом деле становилась очень привлекательной девушкой. Позже она стала присылать мне письма. И я ей отвечал. Она тянулась ко мне как к чему-то надежному, разумному и родному. Это у нее появилось еще в раннем детстве и находило во мне отклик. Я стал тревожиться о ней.
Побывал я и в Шереметьевской школе. По предложению Людмилы Ивановны, учительницы литературы, я и Аля Скобелева выступили в ее подшефном 10-м классе с рассказами об учебе в высшей школе и ответили на вопросы учеников. Мы стали их ближайшим будущим. Встретились в учительской и с Алевтиной Алексеевной, которая так и работала завучем школы. Прошло полгода, а жизнь нас, выпускников, уже заметно изменила. Школьное время стало восприниматься критически не только мною. Мы росли, становились более реалистичными, но в душе покрывались, по прежнему, все тем же школьным «романтическим одеялом». И Аля оставалась все такой же милой, но что-то, мое ленинградское, стало отодвигать ее от меня. Я в ней этого нового, высокого, образа, какой-то мечты уже не находил. Но она оставалась той девушкой, которой я еще год назад писал стихи. Появились сомнения. С другой стороны, нельзя же было жить всю жизнь в обнимку с мечтой как с Александровской колонной? Сомнения не разрешались и мучили.
Вернувшись с каникул, все мы почувствовали, что соскучились по друзьям, по Ленинграду и, как ни странно, по анатомке. Начались занятия по более сложным разделам анатомии: спланхнологии (внутренние органы), сосуды, нервная система и прочее. Это было сложнее, но ведь и мы уже стали другие, более опытные.
Нас, слушателей, периодически стали ставить в караул по академии. Это входило в обязанности караульной роты, имевшей свое помещение. А нас привлекали к этому, наверное, чтобы прививать навыки дежурной службы и обращения с оружием. Дежурства были ночные: с 17.00 до 8.00. Заступали в караул прямо после занятий и после окончания дежурства вновь шли на занятия. В дежурном помещении стояли нары, было душно, пахло ружейным маслом, сапогами и портянками. Разводящий – сержант – отводил к охраняемому объекту (обычно, это были секретные библиотеки, склады и т. п.), здесь производилась смена караула в соответствии с Уставом караульной службы, и начиналось двухчасовое дежурство. Затем 2 часа можно было отдохнуть на нарах и снова, как говориться, – ружье на ремень. Выдавалась тяжеленная винтовка Мосина образца 1891 г. и патроны к ней. Хлопотное дело, к которому нужно было как то привыкнуть.
Однажды в феврале я охранял секретную библиотеку. В помещении, это был длинный коридор с опечатанными дверями, было очень тепло и душно – батареи были огненными, а окна закрытыми. Ни стула, ни стола, ни подоконника. Я ходил-ходил по коридору, невыносимо хотелось спать. Тишина давила. И через час я заснул: видимо, прислонился к стене с ружьем в руках, сполз и так и сидел на полу в обнимку с винтовкой. Разбудили меня разводящий и сменщик мой – Игорь Стримовский. Оказывается, они, не дождавшись ответа на звонок, открыли дверь в библиотеку, нашли меня спящим (это было не трудно), растолкали, забрав винтовку на всякий случай, и вывели на улицу. Сменщик остался. Только оказавшись на морозном воздухе, причем не сразу, я понял, что что-то произошло. Я был без оружия! Только перед караульным помещением сержант отдал мне винтовку и объяснил, что же произошло. Сон на посту с оружием в руках! Это означало увольнение из Академии. Тем более, что накануне уже был подобный случай, там слушателя спасло только то, что он был кандидат в стипендиаты. Разводящий сказал, что не будет докладывать о происшествии. Пожалел меня. Оказалось, это был тот мой сосед по палате в инфекционном отделении, где я лежал с ангиной и с которым я делился компотом. Он не забыл меня.
Позже, будучи в карауле, я чего только не делал, чтобы не заснуть: приседал, бегал, ползал по-пластунски, отжимался. А когда охраняемый объект был на воздухе, заснуть было трудно, но замерзнуть запросто.
В 1951-м году широко праздновалась какая-то годовщина советско-китайской дружбы. В Москве гостил председатель Мао. Композитор Мурадели написал песню «Москва-Пекин», где провозглашалось, что «Сталин и Мао слушают нас». В Политотделе решили создать на нашем курсе хор, который разучит эту песню-гимн и позже исполнит ее перед профессорско-преподавательским составом в клубе. Я был назначен ответственным организатором. Каких трудов стоило многими вечерами загонять слушателей на хор! Я искренне старался, и только за это меня не побили. Был и художественный руководитель. Зато как пели! Мужественная песня. Главное, что мы действительно верили, что Сталин и Мао слушают нас. По большому счету, так оно и было.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































