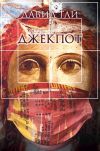Текст книги "Бюст на родине героя"

Автор книги: Михаил Кривич
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 6
– А, поздняя птичка, наконец-то! – завопил Натан, переходя на английский (жуткий английский, немыслимый английский, я бы сказал, энский-шменский диалект этого довольно распространенного языка). – А мы тебя заждались, милочка, мальчик прямо-таки извелся. Я ему обещал встречу с очаровательной особой, которая по нему сохнет, а особы все нет и нет. Где тебя черти носят, проблядушка черномазая?
Последние слова Натан произнес по-русски, но по выражению лица Барбары можно было заключить, что она не впервые слышит такое обращение, знает смысл этих слов и, понимая их шутливый оттенок, вовсе не обижается.
Она подошла к нам легкой вызывающей походкой манекенщицы и остановилась рядом с Натаном.
– Я же тебе говорила, Нат, что приеду прямо с занятий.
– Пошла ты в тохес со своими занятиями. Твое занятие – в койке кувыркаться, – с нарочитой свирепостью произнес Натан и с размаху звонко шлепнул Барби по обтянутой линялыми джинсами попке.
– Ах так! Ты еще будешь лапы распускать, старый козел! – Она молниеносно выбросила руку с растопыренными пальцами прямо в лицо Натану, как бы намереваясь в отместку за шлепок выколоть ему глаза.
Обменявшись привычными, похоже, шутками, они расхохотались.
Отсмеявшись, Барбара аккуратно промокнула платочком глаза, оглядела себя в зеркальце и только после этого посмотрела в мою сторону.
– Добрый вечер, сэр, извините за опоздание.
Я что-то залепетал в ответ, но Натан прервал меня:
– Слушай, милка, какой он тебе на хрен сэр. Свой парень в доску, мой друг, мой гость дорогой. Вот что, дети, не выпендривайтесь и зовите друг друга по имени. А сейчас пошли чай пить.
– Прости, Нат, но я только на минутку, – сказала Барбара. – Еле живая, с семи утра на ногах. Как-нибудь в другой раз посидим.
Натан посмотрел на часы.
– Ого! Двенадцатый час, а мне в шесть вставать. Ладно, милка, езжай, Бог с тобой. Слушай, а ты гостя в Бруклин не подбросишь? Чтоб мне Алика ночью не гонять. Ну спасибо, моя сладкая, Натан, как всегда, твой должник. Езжайте, дети, с Богом…
И старый сводник так откровенно и недвусмысленно подмигнул Барби, что до меня дошло наконец, что все заранее было спланировано и рассчитано – и ее позднее появление в доме Натана, и его неожиданная просьба к ней подкинуть меня домой, что эта девушка, которую я так хочу, которая уже являлась ко мне во сне, не что иное, как еще один знак внимания Натана, дополнение к тысяче зеленых, полученных мною за будущие услуги. Я понимал, что у меня еще остается небольшой шанс выплюнуть наживку, но не смог устоять перед соблазном и заглотил ее.
У Барби была двухдверная крошка «хонда», карамельно ярко-красная, как ноготки ее хозяйки. Тихо играло радио, она постукивала этими ноготками в такт по баранке, и мне хотелось взять их в рот и сосать, как карамельку. Я даже ощущал во рту их кисло-сладкий освежающий вкус.
А вот о чем говорить, я не знал. Тяжелая, тупая застенчивость, замораживающая язык, словно только что вырвали зуб. У меня такое уже раз было – сто лет назад, в студенческие годы.
Мы с приятелем вернулись с двухмесячного армейского сбора и, едва отмокнув в ванне, двинули в парк культуры за кадрами. Нам сразу повезло – склеили двух длинноногих девчонок в юбках-колокольчиках чуть пониже трусов, так тогда ходили. Вернее, повезло ему, склеил он, а я, как и сейчас, не мог рта раскрыть и молча плелся за ними по аллее, остро завидуя приятелю и лихорадочно соображая, как вклиниться в разговор, чтобы не быть лишним на этом празднике жизни. Я так ничего и не придумал, но набрался храбрости, забежал вперед и, заискивающе заглядывая в девчоночьи глазки, выпалил: «А вы читали книжку?..» Какую книжку, я так и не придумал, потому что в те дни ничего читать не мог – одно было в голове. Но ничего, сработало, меня приняли в разговор, а потом приняли вообще. Вот такая была история.
Барби сосредоточенно смотрела на дорогу, у нее и впрямь был усталый вид. Где она, моя спасительная «книжка»? Позвольте закурить. Курите – она вдавила в панель кнопку прикуривателя. Что за занятия задержали ее? Нью-Йоркский университет, антропология. Ага, и тут кости, и там кости – так сказать, по специальности. Да, в этом смысле ей определенно повезло. (Кажется, потихоньку пошло.) А в чем не везет? Ну, знаете… (Так я тебе все и выложила.) С Натаном знакомы давно? Не очень, у хозяина с ним дела всего полгода. Забавный старикан, да? Который – Натан или Джеймс? Пожалуй, оба. Угу…
Я исчерпал все ходы. Других «книжек» у меня не осталось.
«Хонда» внезапно остановилась – я узнал дом Шурки.
Надо было благодарить, прощаться и вылезать из машины. Я медлил. Барби молча смотрела перед собой.
– Давай выкурим по сигарете, и я пойду, – предложил я.
Мы закурили и продолжали молчать. Когда моя кэмелина догорела до фильтра, я швырнул бычок в окно и обреченно взялся за ручку двери. Барбара, аккуратно придавив свой окурок в пепельнице, повернулась ко мне.
– Бога ради, прости меня за сегодняшнее. Я правда очень устала. Если хочешь… Если хочешь, встретимся завтра. Ладно? – И она легонько-легонько коснулась кончиками пальцев моей заросшей щеки. – Ты позвонишь?
Я завязывал галстук перед зеркалом, а Шурка, ехидно улыбаясь, наблюдал за моими приготовлениями.
– Хорош невозможно! И галстук в тон, под цвет глаз.
Шурка был прав: галстук из его гардероба я почему-то выбрал красноватых тонов, и глаза у меня почему-то были красные – то ли и впрямь перебирал в последние дни, то ли просто переволновался.
– Но я бы на твоем месте непременно еще раз побрился, – продолжал издеваться Шурка. – Когда идешь на свидание с такой чистой, целомудренной девушкой, я бы сказал, с цветком благоуханным… Станешь ей цветы преподносить, ручку целовать и ненароком между ног небритой щекой оцарапаешь.
И тут его ирония была небеспочвенной: я только что второй раз за день побрился – моя не такая уж нежная кожа плохо перенесла внерегламентный уход, щеки и подбородок были покрыты мелкими кровоточащими порезами. Впрочем, иронизировать Шурке уже надоело – он перешел к прямым оценкам моего, как он считал, абсолютно неадекватного поведения.
– Ну ты и мудила, однако! Упал на первую смазливую рожу. На кой хрен тебе сдалась эта черножопая, скажи на милость? Коли уж Натан ее под тебя подкладывает, значит, там и впрямь пробу некуда ставить.
– А мне плевать, мне очень хочется… – пропел я, пытаясь отшутиться, хотя Шурка, по правде говоря, меня уже изрядно достал.
– Хочется – перехочется, – упорствовал Шурка. – Через несколько дней уезжаешь, неизвестно, когда теперь снова увидимся, мог бы и с нами посидеть. А уж коли так подперло, я тебе по телефону такую кралю вызвоню, пальчики оближешь. Хочешь черную, хочешь белую, как молочный поросенок, хочешь желтую, что твоя болезнь Боткина. Хоть в клеточку. Сама сюда приедет, чистенькая, подмышки выбриты, пахнет дезодорантом, аккуратненькая, – отсосет, все сделает как надо. В сотню уложимся – плачу я.
Должно быть, Рита слышала весь наш разговор и наконец не выдержала. Из кухни раздался ее зычный окрик:
– А ну прекрати! Чтоб я такого больше не слышала! – Она появилась в дверях, вытирая руки о фартук. – Ну чего пристал к человеку? Уж если девка ему так приглянулась…
В вопросах морали Рита, не чета мужу, была до пуританства строга и бескомпромиссна, никакого легкомыслия в отношениях полов не признавала, не переносила на дух даже фривольные разговоры, и раз уж она дала мне «добро» на встречу с Барби, я отправился на свидание с легким сердцем и чистой совестью. Хотя и волновался, как мальчишка.
По узкой подвальной лестнице я выбрался из подземки и, как было договорено с Барби, встал под часами на перекрестке.
Это когда будем в Москве, я напишу, что стоял на углу Тверской и Газетного, или Скатертного и Никитской, или Старосадского и Покровки. И сейчас за язык тянет сказать, что караулил Барби на каком-нибудь знаменитом пятачке вроде Таймс-сквер, но не стану врать, не помню. Вылез из-под земли, где она велела, и стал нетерпеливо топтаться, ждать.
Ждать, если она, конечно, явится точно, оставалось минут десять: я, опасаясь опоздать, приехал загодя. И вот теперь нелепо топтался под часами, изображая карикатурного влюбленного. Недоставало только букета в руках.
Терпеть не могу попадать в дурацкие ситуации, терять лицо. Может, в самом деле Шурка прав и вся эта затея ни к чему. Что за блажь – непременно трахнуть черную! Через несколько дней я в Москве, где родился и кой-кому уже пригодился, а там, глядишь, еще кому-нибудь пригожусь, где мои друзья и подружки, где все эти проблемы решаются легко, просто, без надрыва. А сейчас сидели бы с Шуркой и Ритой на кухне, перемывали косточки знакомым и ржали над старыми анекдотами. Или напоследок выгулял бы всласть дружка своего сердечного Жору – близнецы-то долгими прогулками его не балуют.
Ладно, решил я, буду ждать ровно пятнадцать минут; меньше вроде бы неловко, больше – ни к чему. Придет – хорошо, не придет – еще лучше. Лучше? Что-то кольнуло внутри – лучше ли?
Черный, будто вырезанный из мореного дуба красавец вырос передо мной. На голову выше меня ростом, на шее, что твой мухинский рабочий с колхозницей, гирлянда цепей. Именно цепей, а не цепочек. И на запястьях тоже цепи – раб с плантаций, да и только… Просто невероятно, чтобы человек вышел на улицу, неся на себе добрый килограмм золота. Ювелирные изделия желтого металла, как пишут у нас в милицейских протоколах. Нет уж, такой парень латунную цепь на себя не повесит…
Брату что-то нужно? Покурить, понюхать, поширяться? (Тамбовский волк тебе брат. Или алабамский койот. Это если койоты водятся в Алабаме…) Нет, спасибо, сэр. Девочку, мальчика? Нет, спасибо, сэр. (Сейчас начнет предлагать представителей местной фауны. Спасибо, сэр, не надо.) Ага, мой брат – нездешний, форинер, он хочет позвонить на родину, домой? Париж? Тель-Авив? Берлин? Нет проблем. Десять баксов – соединю за минуту, и говори до усрачки.
Золотой мальчик, мой из-под земли появившийся черный братишка, указывал пальцем на никелированный телефонный аппарат в двух шагах от нас.
– Москва, – неожиданно для себя самого выпалил я.
Золотоносный брательник воздел черные ручищи и по касательной легонько шлепнул ладонью о ладонь – таким жестом на бакинском базаре выражают удовлетворение совершившейся сделкой. Засим последовал еще один жест – не столь размашистый, но понятный любому от Огненной Земли до Чукотки: парень нежно потер большим пальцем по среднему и указательному. Я вложил в протянутую лапу десятку.
Закованный в золото раб шагнул к автомату, воровато оглянувшись, сунул в щель какую-то карточку и спросил у меня московский номер. И так же неожиданно для самого себя я назвал номер той, кого ни разу не вспомнил здесь, в Нью-Йорке, кого и в Москве вспоминал последнее время не часто, кому звонить отсюда не было ни малейшей надобности, ибо не мог я сесть в такси и очутиться через полчаса в пахучей однокомнатной квартире с опущенными тяжелыми шторами и профессиональной, два с половиной на два с половиной метра, тахтой. Хотел сбежать к ней от Барби? Может быть.
В трубке звучали долгие басовитые московские гудки. Потом раздался ленивый утренний голос:
– Але. Говорите. Кто это?
– Кто, кто… Я.
– Приехал, что ли?
– Нет, еще не приехал.
– А чего звонишь?
– Так просто.
– Где ты?
– В Нью-Йорке. – И добавил наобум, для весомости: – Я на Бродвее.
– Ну ты даешь! – Впрочем, сказано было это без особых эмоций, так же лениво, как первое «але».
– Знаешь… – начал я и осекся. Потому что через неширокую гудящую улицу, не знаю какую, может, это и впрямь был Бродвей, лавируя между желтыми нью-йоркскими таксомоторами, размахивая большой красной, как ее «хонда», сумкой, ко мне вприпрыжку бежала Барбара. У меня зашлось сердце. – Знаешь что, не могу сейчас говорить. Потом позвоню… – Я бросил трубку на рычаг и кинулся ей навстречу.
– Ты куда, брат?! Давай я снова соединю! – кричал мне вслед владелец золотых цепей, хоть и явный жулик, но, должно быть, твердо придерживающийся кодекса уличной чести – коли уж взял деньги, так пусть наговорится человек и впрямь до усрачки. Наверное, не надул бы меня, заплати я ему за травку, за девочку, за мальчика или еще за какое-нибудь экзотическое удовольствие.
Но я не слушал его, мне плевать было на выброшенные на ветер деньги, потому что я держал в руках тонкие длинные пальцы Барби.
Потом мы сидели в маленьком ресторанчике в Виллидже, его выбрала она, столик был на двоих, и приветливый паренек-официант таскал нам огромные порции немыслимо вкусной снеди, и мы уплетали ее так, словно проголодали месяц, и с набитым ртом говорили друг другу что-то невнятное, и пиво, которое мы пили, было таким вкусным и славно утоляющим жажду, каким оно бывает только в московской бане с хорошей парной. И я думал, это ж каким надо быть дебилом, чтобы измыслить такое: не придет – еще лучше. И становилось жутко от одной мысли, что она могла не прийти.
Паренек принес кофе и пирожные, каждое размером с наш московский небольшой торт. Мне не то что есть, смотреть на них было страшно, а Барбара с чисто американской страстью не оставлять на столе ничего несъеденным набросилась на сласти – щедро облитые кремом кусищи проваливались в ее широкий африканский рот, над верхней губой выросли шоколадные усики. Я любовался ею, как родители любуются своим здоровым ребенком, уминающим за обе щеки манную кашу. Впрочем, мои чувства к Барби на самом деле были вовсе не родительскими, а уж если их таковыми называть, то это скорее ощущения будущего отца перед зачатием ребенка. Короче, я жутко, до боли внизу живота, хотел ее.
Наконец паренек приволок два графина – с коньяком и ликером – и сказал, что это бесплатно, это от заведения. Я засмущался, но Барбара успокоила меня: мол, мы здесь с тобою столько уметали, что хозяин должен на столик мемориальную доску поставить, а не два паршивых графинчика.
Хорошо было с чувством исполненного долга перед хозяином ресторанчика потягивать ликер, затягиваться сигаретой и смотреть в глаза Барби. Она говорила, а я слушал, время от времени поддакивая – да, да, я тебя понимаю – или просто кивая головой. Меня она ни о чем не расспрашивала, просто рассказывала о себе.
Ей двадцать семь. Живет одна, район вполне приличный, квартирка небольшая, но уютная, да ты сам увидишь (сладко екнуло сердце), дедуля Костоломофф платит вполне прилично, можно кое-что откладывать, а работенка не пыльная, да и, как ты уже верно заметил, близка к будущей специальности. Изучает антропологию, интересуется особенностями своей расы, пишет работу о выдающихся черных атлетах. Много материала вытянула (смеется) из мужа. Какого еще мужа? Да, уже разок сходила замуж, но давно разбежались – тот еще козел! Хотя и знаменитость, да ты мог его видеть по телику: играет за «Дьяволов», под семь футов ростом, ну, знаешь, наверное, с виду свирепый такой, бритый наголо.
Я люблю смотреть баскетбол и видал на площадке добрую дюжину черных гигантов с обритой головой, а какой из них Барбин, конечно, не ведал, но на всякий случай в очередной раз кивнул. И внезапно почувствовал, что мучительно ревную: ну пусть развелись, так ведь спали ж вместе, и он как мужик, должно быть, мне не чета – одни мускулы, о мужских достоинствах черных парней вообще ходят легенды, куда ж это я – с суконным рылом и прочим в калашный-то ряд…
Надо полагать, муки ревности столь недвусмысленно проступили на моей физиономии, что Барби внезапно оборвала свой рассказ. Некоторое время она молча изучала меня, а потом весело расхохоталась:
– Дурачок! Ты и он – сравнил! – Она коснулась пальцами моей щеки, как тогда, в машине. – Да ты… да ты на голову выше его и всех «Дьяволов», вместе взятых. – И снова рассмеялась, потому что на самом деле это смешно: я на голову выше центрового из команды НБА. – А вот что в тебе, прямо скажу, так себе… Это… Для такого парня, как ты, ну, знаешь, для парня, который ничего не боится, в общем для такого парня, мне кажется, ты слишком робок с девушками. Хотя, – задумчиво продолжала она, – пожалуй, мне это даже немного нравится. Знаешь что, хватит болтать, поехали ко мне. Взявшись за руки, мы прошли несколько плохо освещенных кварталов до запаркованной у платного счетчика «хонды». Барбара остановилась возле своей карамельной машинки, порылась в сумке и протянула мне ключи.
– Садись за руль, я что-то совсем закосела. С чего бы это? – засмеялась она. – Держи, держи ключи. И вези меня. Мужик ты или нет?
Я взял ключи, открыл пассажирскую дверцу и галантно усадил свою шоколадную подружку. Обошел машину, распахнул водительскую дверь, уселся сам и вставил ключ в замок зажигания. Барби прижалась ко мне, я ощутил ее теплые губы у себя на шее и ее запах – смесь корицы, гвоздики и антоновки, теплый аромат глинтвейна, сваренного на подмосковной даче поздней осенью, когда сгребают и жгут опавшие листья. Я обнял ее, почувствовал ее невесомую руку – сначала на колене, потом на бедре, рука медленно поднималась выше и выше, ноготки впивались в меня. Стукаясь коленями о рычаг передач, ручник и еще что-то – чертова теснотища в этой «хонде»! – я развернулся лицом к Бэб, прижал ее к себе изо всех сил и нашел губами ее губы. Вот так! Крепче! Коснулись зубами. Еще крепче! Ее язык вошел в мои разомкнутые губы, словно что-то искал…
Внезапно Барби резко отстранилась.
– Я так больше не могу… Поехали ко мне… Ну, быстрее… – прошептала она.
Я повернулся к рулю и несколько секунд сидел неподвижно, успокаивая дыхание. Потом повернул ключ. Тихо зажужжал мотор, и в то же мгновение сзади раздался низкий мужской голос:
– Не дергайся. Слушай меня.
Я все-таки дернулся: вздрогнул от неожиданности и попытался обернуться. Но тут же получил весомый тычок в голову холодным металлическим предметом, который после удара не убрался, а, напротив, жестко уперся мне в затылок,
– Руки! Руки на руль!
Я положил руки на руль и замер, пытаясь разглядеть незнакомца в зеркале заднего вида. Слишком темно – вырисовывался лишь смутный силуэт. Рядом со мной зашевелилась Барбара.
– Сидеть, с-су-у-ка!
Теперь и Барбара сидела неподвижно, я слышал только ее неровное дыхание. Скосил глаза – встретил испуганный взгляд.
– Трогай! Поехали.
– Куда? – спросил я.
– Увидишь, – отозвался голос сзади. – Пока прямо, а там скажу. Ну ты что, заснул? Дерьмо! Хуесос! Трогай, не то башку продырявлю!
Холодная железка больно надавила в основание черепа. Похоже, не шутит – и впрямь может шмальнуть. Я воткнул первую передачу и медленно отъехал от тротуара.
– Слушай меня, ублюдок. Езжай, как скажу. Скажу поворачивать – поворачивай. Скажу остановиться – останавливайся. Не выполнишь приказа или попытаешься привлечь внимание легавых – стреляю без предупреждения. Сначала в тебя, потом в черномазую. Обоим мозги повышибаю. Понял?
Чего уж тут непонятного! Я кивнул.
– Послушайте, это ошибка. Вы нас с кем-то спутали… – это заговорила Барби, голосом неожиданно спокойным и рассудительным. – У меня есть деньги. С собой немного, но дома…
– Засунь их себе в задницу!
– Но я… мы…
– Молчать, сука!
Выполняя приказы незнакомца, я сделал несколько поворотов и сразу потерял ориентировку – где мы и куда движемся. Впрочем, через несколько минут, когда мы выкатили на широкую набережную, я сообразил, что до сих пор ехали на запад, а сейчас – на юг вдоль Гудзона.
Времени было около десяти, немыслимый вечерний нью-йоркский траффик давно миновал, вести машину было легко. Набережная хорошо освещалась, и теперь в зеркальце я мог разглядеть нашего похитителя: мужик моего возраста, густая темная шевелюра над низким лбом, мясистый носище, впалые щеки, вроде бы недешевый двубортный пиджак, светлая рубашка, галстук.
Светофор впереди переключился на красный, я притормозил и медленно подкатил к линии «стоп». Помимо нашей «хонды» зеленого ждала только одна машина – новенький «меркьюри», за рулем седовласый джентльмен, рядом немолодая дама, на заднем сиденье еще двое, видно, что мужчины, однако лиц не разобрать.
Кто нас похитил? Зачем? Куда едем? Я уже несколько минут задавал себе эти вопросы, но вразумительного ответа не находил. Похищение должно иметь какой-то смысл, с чем-то или с кем-то должно быть связано. С Шуркиными скелетами, с делами Натана? Но при чем здесь я, а тем более Барби? Впрочем, разобраться с этим еще будет время. А сейчас надо бы подумать о том, как освободиться. Пока стоим у светофора – а простоим еще секунд десять, – можно попробовать, лучшего момента может и не представиться. Заорать, чтоб услышали в «меркьюри»? Ну и что? Если и услышат, то наверняка не поймут, в чем дело. А поймут – дернут со страху прочь, только я их и видел. Нет, это не пойдет. А что пойдет? Убрать руки с баранки, резко ударить с разворота. Мешает Барби. Ох уж эта «хонда» – ни подраться, ни потрахаться. А может, локтем? Локоть проходит. Надо пробовать.
Медленно убираю руки с баранки, подтягиваю к груди. И тут же сильный тычок стволом. И резкий окрик:
– Руки на руль!
Бдительный, сволочь.
Кладу руки на баранку, и тут же включается зеленый. «Меркьюри» солидно, словно лодка от берега, отчаливает от светофора, я медлю.
– Пошел!
Трогаю с места, а сам соображаю: можно резко прибавить, достать «меркьюри» и вмазаться ему в зад. Мелькает нелепая мысль: жалко Барбину «хонду». Ловлю в зеркальце взгляд низколобого. Тот как будто прочитывает мои намерения.
– Не дури! Стреляю!
Я отпускаю «меркьюри», и тут же звучит команда:
– Сбрось газ и остановись вплотную за вэном.
Впереди метрах в тридцати стоит у тротуара фургончик с погашенными габаритками, вроде нашего «рафика». За ним мне и следует остановиться. Выкручиваю руль вправо. Прямо за тротуаром парапет набережной – можно в парапет. А толку что? Послушно ставлю «хонду» вплотную к вэну и выключаю двигатель.
И в то же мгновение, словно операция по нашему с Барби захвату тщательно спланирована и рассчитана по секундам, с обеих сторон распахиваются двери вэна и четверо мужиков, по двое с каждой стороны, бросаются к «хонде». Успеваю заметить, что все они крепкие рослые ребята и одеты в одинаковые двубортные костюмы.
Двое рвут дверцу с моей стороны, выволакивают меня и, заломив мне обе руки за спину, тащат к вэну. Сопротивление бесполезно. Я и не упираюсь, просто поджимаю ноги – пусть тащат, подонки, на себе.
– Оставьте в покое эту черную блядь! Она нам не нужна – лишняя морока.
Узнаю голос нашего похитителя. Ага, значит, Барбару они отпускают, и то слава Богу! Выворачиваю шею, чтобы бросить на свою подружку, на свой столь скверно обернувшийся роман последний ритуальный взгляд, и вижу: те двое, что были брошены на захват Бэб, уже шагают к вэну, а сама Бэб лежит ничком на радиаторе «хонды».
Меня охватывает тревога: что с ней, что они ей сделали?
– Барби, Бэб, держись! Я выберусь! – ору я уже перед распахнутой дверью вэна и получаю тут же болезненный удар по почкам.
– На кладбище выберешься, ублюдок, – успокаивает меня кто-то из похитителей, пытаясь затолкнуть в автобус.
И тут – крик. Пронзительный, страшный, переходящий в визг, за пределами частот человеческого голоса, нечеловеческий. Барби?! Я начинаю червем извиваться в руках своих носильщиков; руки у меня по-прежнему вывернуты за спину – нестерпимая боль в плечах. Они стараются запихнуть меня в дверь, я отчаянно выкручиваюсь и цепляюсь наконец ногой за подножку вэна, выигрывая секунду-другую.
Вижу: Бэб, встрепанная, с окровавленным лицом, в порванной юбке, прыжками несется ко мне, уворачиваясь от мужиков-перехватчиков в двубортных костюмах, – ну прямо-таки сцена из американского футбола, не хватает только кожаной дыньки в руках. Вижу ее широко раскрытый рот с оскаленными белыми зубками. И слышу ее крик – пронзительный, нечеловеческий.
Мы кичимся нашим русским матом: мол, ни у одного народа мира нет столь изощренной, многоэтажной брани, и это не только свидетельство сказочного богатства нашего родного языка, но еще и показатель силы нашего духа, термометр нашего эмоционального накала. Может, классический английский вместе с его американской разновидностью и впрямь блекнет перед русским, когда дело доходит до крепкого словца, но, должно быть, есть в любом языке скрытые, глубинные слои, до которых не добираются зануды-лингвисты и собиратели фольклора. И нужны особые обстоятельства, чтобы из этих пластов языка ударил фонтан неслыханного сквернословия.
Обстоятельства были налицо, и фонтан ударил. Нежные уста моей подружки изрыгали такой мат-перемат, от которого разинул бы рот мой старый приятель, баллонщик из шиноремонта в Вешняках, где некогда работал Шурка. Бэб нанизывала на шампур адресованных нашим похитителям проклятий все мыслимые и немыслимые сексуальные извращения, которым якобы предаются они и предавались их предки до седьмого колена, плела настоящие кружева из внешних и внутренних органов человека и других млекопитающих, органов, так или иначе причастных или вовсе не причастных к репродуктивной функции.
Это надо было слышать. Мало было слышать – я слышал, но воспроизвести не в состоянии. Это надо было писать на магнитофон, расшифровывать, исследовать, публиковать в специальных изданиях. Это не было сделано, и блистательный мат Барбары, увы, безвозвратно потерян для человеческой культуры.
Последнее, что я видел, – совсем рядом искаженное лицо Барби, вцепившейся ногтями в шею одного из моих носильщиков, извивающейся в его лапах. Последнее, что я слышал, – ее истошный визг:
– Я вырву твои грязные яйца, мазерфакер, вот такой тебе в глаз, в рот, в печень!
Потом – звон в ушах и тьма кромешная.
Сначала я почувствовал тупую боль в затылке, потом мерное, вызывающее тошноту покачивание. Сообразил: я в машине, машина едет. Перед глазами в узкой полоске света матовая поверхность с геометрическим узором. Запах резины.
Я лежал на полу вэна в проходе между креслами, уткнувшись носом в пластиковый коврик. Руки туго связаны за спиной. Попробовал пошевелить ногами – не получается, стреножен. Веселые дела! До предела, сколько позволяла затекшая шея, задрал голову. Впереди, в просвете между двумя темными силуэтами на переднем сиденье, кусок ветрового стекла, а за ним – ярко освещенная кишка убегающего вдаль туннеля. Знакомый путь, мы не раз проезжали здесь с Шуркой, – значит, едем в сторону Бруклина.
Опустился носом на коврик, передохнул несколько секунд, медленно повернул голову налево. Под пассажирским сиденьем ноги в хорошо начищенных франтоватых штиблетах, с кожаными бантиками и металлическими украшениями – такую обувку, по моему разумению, должны носить сутенеры. Снова вернулся в исходную позицию – носом в пол – и повернул голову направо. Прямо надо мной в проход свисали с сиденья две ноги в чулках и туфельках.
– Барби! – вырвалось у меня.
Ноги в чулках и туфельках дернулись. Раздался сдавленный звук, не то стон, не то мычанье. И тут же – сильный удар слева под ложечку, должно быть, ногой, штиблетом с бантиками.
– Ну что, говнюк, оклемался?
От адской боли в боку перехватило дыхание, и я не сразу сообразил, что сказано это было не по-английски, а на чистейшем русском языке.
– Куда вы нас везете? – простонал я. От звука родной речи у меня на душе почему-то стало спокойнее, несмотря на болезненный удар.
– В гости, – угрюмо ответил обладатель штиблет и прикрикнул, тоже по-русски, на мычащую Барбару: – Заткнись, сучонка, не то матку вырву!
– Говори по-людски! – раздался низкий голос с переднего сиденья, я узнал нашего первого похитителя. – И вообще, кончай с ними трепаться. Понял?
– О’кей, командир.
Мы выскочили из туннеля – я увидел городские огни – и, не сбавляя скорости, неслись по хайвею в сторону океана. Впрочем, о направлении я мог только догадываться.
Несколько минут спустя моя догадка подтвердилась: по обе стороны шоссе во мраке угадывалась вода, лишь далеко впереди светилась полоска берега. Насколько я мог судить, мы пересекали Ямайка-бей в направлении узкой косы, отделяющей этот заливчик от открытого океана. Очень важно, чрезвычайно важно запомнить дорогу, твердил я себе, глядишь, появится возможность позвать на помощь, дать знать о себе, внимание, запоминай каждый поворот, каждый клочок пейзажа, мелькнувший между темными силуэтами похитителей на передних сиденьях, только в этом надежда на спасение…
Какая-то развязка. Притормозили. Поворот направо. Снова прибавили. Еще несколько минут гонки в полном молчании. Наконец голос того, кто назван командиром:
– Сбрось скорость, а то проскочим. Вот здесь.
Свернули. Опять направо. Медленно проехали метров триста. Остановились. Водитель выключил мотор, перемахнул через спинку своего сиденья и встал надо мной. Из-за его спины голос командира:
– Тащите их сюда. Обоих.
Меня подхватывают, волокут по проходу и бросают на переднее пассажирское сиденье рядом с дверью. Вслед за мной выволакивают Барби. В отличие от меня, она продолжает сопротивляться – извивается всем телом. В полумраке салона сверкают белки ее глаз, рот заклеен здоровым куском пластыря – вот почему она мычала. И сейчас отчаянно мычит, мотая растрепанной головой. Внезапно мне приходит в голову, что она влипла как кур в ощип ни за что ни про что, все из-за меня, она-то им ни к чему, а в вэн полезла, чтоб только меня не бросать, тоже мне жена декабриста. Как бы я, мужик, повел себя на ее месте? Вздор это, впрочем: не бывать мужику на бабьем месте – нечего рассуждать на эту тему и гадать, как бы сам поступил. А вместо рассуждений надо просто отдаться накатившей волне благодарности и нежности к этой черной девчонке с кровоточащими ссадинами на щеках. Что я и сделал.
Мы сидим с Барби рядом – два манекена со связанными за спиной руками и стреноженными ногами. Перед нами – водитель и тот, кто обут в штиблеты и может говорить на чистом русском языке. К ним присоединяется командир. Ага, значит, двое остались на набережной.
У командира в руке продолговатый предмет, он приближает предмет ко мне – жмурюсь от нестерпимо яркого света.
Низкий голос командира:
– А теперь поговорим без спешки. Кто тебя послал?
Я молчу, потому что ничего не понимаю.
– Кто тебя послал? Ну, говори, сукин сын…
– Я вас не понимаю. Куда послал?
– Не понимаешь? Сейчас поймешь!
Ослепленный фонарем, не вижу, кто из троих бьет мне по лицу. Не очень сильно и не очень больно. Но губы немеют, вкус крови во рту. Молчу.
– Повторяю вопрос: кто послал тебя к еврею? – Голос командира ровен и бесстрастен.
Так я и знал. Натановы дела. Предчувствовал: за ласку бандита придется расплачиваться, однако не думал, что так скоро.
– Я действительно не понимаю вас. Кто меня послал? Не знаю. Ну ОВИР, мне там паспорт дали…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?