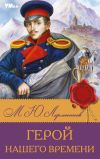Читать книгу "Герой нашего времени. Маскарад (сборник)"
– Я вам советую перед смертью помолиться Богу, – сказал я ему тогда.
– Не заботьтесь о моей душе больше чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.
– И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?
– Господин Печорин! – закричал драгунский капитан, – вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить… Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью – и нас увидят.
– Хорошо, доктор, подойдите ко мне.
Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.
Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:
– Доктор, эти господа, вероятно, второпях забыли положить пулю в мой пистолет; прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!
– Не может быть! – кричал капитан, – не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась… это не моя вина! А вы не имеете права перезаряжать… никакого права… это совершенно против правил; я не позволю…
– Хорошо! – сказал я капитану, – если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях…
Он замялся.
Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.
– Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора… – Ведь ты сам знаешь, что они правы.
Напрасно капитан делал ему разные знаки – Грушницкий не хотел и смотреть.
Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.
– Дурак же ты, братец, – сказал он, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем… Поделом же тебе! околевай себе, как муха… – Он отвернулся и, отходя, пробормотал: – А все-таки это совершенно против правил.
– Грушницкий! – сказал я, – еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни, мы были когда-то друзьями…
Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.
– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места…
Я выстрелил…
Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.
Все в один голос вскрикнули.
– Finita la comedia![34]34
Комедия окончена! (итал.)
[Закрыть] – сказал я доктору.
Он не отвечал и с ужасом отвернулся.
Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.
Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза… Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.
Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе не знакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади.
Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую… от Веры.
Я распечатал первую, она была следующего содержания:
«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно… если можете… Прощайте…»
Я долго не решался открыть вторую записку… Что могла она мне писать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.
Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:
«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу… ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала… Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей… и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.
Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства, никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.
Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.
Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума… но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала… верно, я ему сказала, что я тебя люблю… Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету… Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата… Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова… Прощай, прощай… Я погибла, – но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, – не говорю уж любить, – нет, только помнить… Прощай; идут… я должна спрятать письмо…
Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете…»
Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.
Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! – одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку… Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете – дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков – казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.
Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод – напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком – ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.
И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.
Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? ее видеть? зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.
Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.
Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.
Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.
Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук – и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.
Взошел доктор, лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки.
– Откуда вы, доктор?
– От княгини Лиговской; дочь ее больна – расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.
Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден как камень – и он вышел.
Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, – а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..
На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н., я зашел к княгине проститься.
Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? – я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.
– А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.
Я сел молча.
Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:
– Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.
Я поклонился.
– Я даже в этом уверена, – продолжала она, – хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее – следственно, рисковали жизнью… Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит – и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиною. Она мне все сказала… я думаю, все: вы изъяснились ей в любви… она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной… Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, – разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа, – я богата, она у меня одна… Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните, у меня одна дочь… одна…
Она заплакала.
– Княгиня, – сказал я, – мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине…
– Никогда! – воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.
– Как хотите, – отвечал я, приготовляясь уйти.
Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.
Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.
Вот двери отворились, и вошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?
Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.
Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.
– Княжна, – сказал я, – вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.
На ее щеках показался болезненный румянец.
Я продолжал:
– Следственно, вы меня любить не можете…
Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.
– Боже мой! – произнесла она едва внятно.
Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.
– Итак, вы сами видите, – сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, – вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении, вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь… Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?
Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.
– Я вас ненавижу… – сказала она.
Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.
Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст до Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято – вероятно, проезжим казаком, – и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся…
И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани…
III. Фаталист[35]35Фаталист – человек, верящий в судьбу (от латинского fatum – судьба).
[Закрыть]
Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.
Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra.
– Все это, господа, ничего не доказывает, – сказал старый майор, – ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения?
– Конечно, никто, – сказали многие, – но мы слышали от верных людей…
– Все это вздор! – сказал кто-то, – где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?
В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.
Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.
Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно достигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.
Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» – кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», – отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью, карта была дана.
Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.
– Семерка дана! – закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа.
Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.
Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.
– Господа! – сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), – господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно?
– Не мне, не мне! – раздалось со всех сторон, – вот чудак! придет же в голову!..
– Предлагаю пари! – сказал я шутя.
– Какое?
– Утверждаю, что нет предопределения, – сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев – все, что было у меня в кармане.
– Держу, – отвечал Вулич глухим голосом. – Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим.
– Хорошо, – сказал майор, – только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?..
Вулич вышел молча в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.
– Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! – закричали ему.
– Господа! – сказал он медленно, освобождая свои руки, – кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?
Все замолчали и отошли.
Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.
– Вы нынче умрете! – сказал я ему.
Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:
– Может быть, да, может быть, нет…
Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.
– Да полно, Вулич! – закричал кто-то, – уж, верно, заряжен, коли в головах висел, что за охота шутить!..
– Глупая шутка! – подхватил другой.
– Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! – закричал третий.
Составились новые пари.
Мне надоела эта длинная церемония.
– Послушайте, – сказал я, – или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.
– Разумеется, – воскликнули многие, – пойдемте спать.
– Господа, я вас прошу не трогаться с места! – сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.
– Господин Печорин, – прибавил он, – возьмите карту и бросьте вверх.
Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок… осечка!
– Слава богу! – вскрикнули многие, – не заряжен…
– Посмотрим, однако ж, – сказал Вулич.
Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался – дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине и пуля глубоко засела в стене.
Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой кошелек мои червонцы.
Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.
– Вы счастливы в игре, – сказал я Вуличу…
– В первый раз от роду, – отвечал он, самодовольно улыбаясь, – это лучше банка и штосса.
– Зато немножко опаснее.
– А что? вы начали верить предопределению?
– Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть…
Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.
– Однако же довольно! – сказал он, вставая, – пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны… – Он взял шапку и ушел.
Это мне показалось странным – и недаром!..
Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..
Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою…
И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.
Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею, но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь – месяц уж светил прямо на дорогу – и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой… Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка, один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.
– Экой разбойник! – сказал второй казак, – как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то…
Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.
Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.
Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.
Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечку и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но – видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?..
– Вставай, одевайся! – кричало мне несколько голосов.
Я наскоро оделся и вышел.
– Знаешь, что случилось? – сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.
– Что?
– Вулич убит.
Я остолбенел.
– Да, убит, – продолжали они, – пойдем скорее.
– Да куда же?
– Дорогой узнаешь.
Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» – «Тебя!» – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца… Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне, я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.
Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.
Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?
Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отважился броситься первым. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.