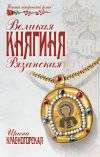Текст книги "Воля судьбы"

Автор книги: Михаил Волконский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
XIII. Несчастье
Когда Артемий вернулся в избу, Торичиоли, как ни в чем не бывало, сидел на своем месте у стола и равнодушно смотрел в окно.
– Ну, что ваша лошадь? – спросил он, как будто и в самом деле интересовался лошадью, а не тем, чтобы поскорее уехал Артемий.
– Ничего, пустяки, – ответил тот, – она устала и дрожит; я велел обтереть ее водкой, и на ней хоть сейчас можно будет ехать дальше.
– Так, значит, вы едете?
– Да, я думаю, – и, говоря это, Артемий поспешно надел мундир, простился с Торичиоли и вышел из горницы.
– Передайте, пожалуйста, Одару, что я, по всей вероятности, уж не попаду к нему сегодня, – сказал вслед ему итальянец.
Через некторое время он с облегченным сердцем увидел в окно, как Артемий верхом выехал из ворот и как потом по дороге заклубилась пыль под ногами его лошади.
Артемий ехал и все думал об Ольге. Что сделалось с нею, отчего она была такая? Комедию она играть не могла, но и не могла она забыть в самом деле все, что было между ними, – так забыть, чтобы в ней и следа не оставалось; а между тем только при таком условии могла она вести себя так. Но что же это значило?
И Артемий в сотый раз и на сотый лад перебирал все обстоятельства, все причины, в силу которых можно было объяснить поведение Ольги, но ни одна из этих причин не выдерживала мало-мальски серьезного обсуждения и сейчас же рушилась сама собою.
Артемий терялся в догадках и не мог найти выход из этого лабиринта.
«Посоветоваться разве с графом? – пришло ему в голову. – Рассказать ему?»
Но и эту мысль, на которой он остановился было в первую минуту с удовольствием, тотчас же отогнал. Ему показалось не только неудобным, но совершенно неуместным лезть теперь со своим чисто личным делом в то время, когда они общими силами работали над другим, более важным – конечно, не для Артемия, но для всех их – делом.
«Да, потом, потом, – повторял он себе, – потом, когда все устроится, тогда…»
Но тогда Ольга, вероятно, уже уедет?..
«Ах, Боже мой! Что же делать, что делать тут?» – уже почти с отчаянием думал Артемий, подъезжая к мызе.
Он застал графа в одежде, парике и очках Одара; он сидел у себя за письменным столом первой комнаты и занимался, по-видимому, счетами и книгами по хозяйству.
– Привезли? – обернулся он к Артемию, видя, что тот отстегивает обшлаг.
– Да, привез, – ответил Артемий и вдруг изменился в лице.
Отстегнув пуговицы, он запустил за обшлаг руку. Там бумаги не было.
Он растерянно стал ощупывать себя; его глаза остановились в немом ужасе. Потерять список или выронить его было немыслимо, следовательно… кто-нибудь вынул его, расстегнув обшлаг… Но кто?
– Торичиоли! – вдруг громко крикнул Артемий, и пошатнувшись, схватился за стул, чтобы не упасть.
Граф поднялся со своего места.
В этом растерянном и пораженном ужасом молодом человеке он не мог узнать своего прежнего ученика Артемия, кажется, до сих пор понимавшего его уроки и вдруг дошедшего до того, чтобы потерять всякое самообладание.
– Что с вами? Опомнитесь! – проговорил он, подходя к Артемию.
– Граф… граф, – повторял тот вне себя, – все потеряно… Все пропало… Все кончено… Это – несчастие… Я несчастный человек… Я погубил все… Этот список, который я вез… Где были записаны все…
– Ну?
– Он у Торичиоли! – крикнул опять Артемий, не только не владея собою, но не владея даже своим голосом, который то спадал, то повышался у него теперь помимо его воли.
– Пройдемте сюда! – сказал граф, нахмурив брови и, проведя Артемия в следующую комнату, запер также дверь на ключ, после чего приказал: – Сядьте и рассказывайте все по порядку!
Для Артемия, как только он не нашел за обшлагом несчастного списка, все стало ясно в ту же минуту. Он помнил и отлично знал, что не забыл его дома; но он помнил тоже, что имел неосторожность оставить мундир в избе, когда выходил осмотреть лошадь.
И в кратких, едва понятных и едва связанных между собою словах рассказал он суть дела.
– Граф, – воскликнул он, не успев кончить рассказ, – ради бога, поедемте сейчас вместе! Вы можете еще помочь… Вы все можете… Я знаю… Я готов на все… Возьмите жизнь мою… Я отдам ее, только верните этот список.
Граф, молча, не торопясь, но и не теряя времени, снял, слушая Артемия, свои парик, очки и платье, достал из шкафа коричневый суконный кафтан, черные чулки и башмаки, и не успел Артемий опомниться, как Сен-Жермен из Одра превратился в доктора Шенинга.
– Мы едем, мы едем сейчас, мы догоним его на дороге, – с проблеском радости воскликнул Артемий. – Я силой, понимаете, силой отниму у него.
Граф подошел и, положив руку ему на плечо, тихим голосом сказал:
– Прежде чем мы поедем, сообщите мне, что с вами случилось? Ваша неосторожность так несообразна, что я, зная вас, не могу допустить, что она была без какой-нибудь причины… и, вероятно, очень серьезной причины… Скажите мне ее!..
– Я не знаю, – начал было Артемий, – я понять не могу, но я потерял голову…
– Причину, причину, одним только словом!.. – перебил его граф, не отымая руки с его плеча и тряхнув головою.
Артемий знал способ того лаконического разговора, который любил граф и который был возможен только с ним, иногда понимавшим даже не с намека, а просто читавшим в мыслях своего собеседника. И он чуть слышно ответил ему одним словом:
– Ольга!..
– Вы видели ее?
– Да.
– Говорили?
– По дороге у решетки сада.
– А! – воскликнул граф и, впервые в жизни Артемий заметил в нем отдаленный намек на тревогу.
Это было странным. Сен-Жермен оставался совершенно, как всегда, спокоен при известии о пропаже списка и вдруг теперь что-то случилось с ним.
– И что же она? – спросил он снова.
Артемий пояснил, какова показалась ему Ольга и что он чувствовал после разговора с ней.
Сен-Жермен закрыл на минуту глаза.
– Да, – проговорил он, – причина серьезна и, может быть, в ней виноват я больше, чем вы… Едемте!
Через четверть часа они уже сидели на свежих оседланных лошадях и крупною рысью ехали по дороге в город.
Артемий думал, что они поскачут с места, ему хотелось вихрем понестись в догоню Торичиоли, но граф держал все время рысь, и Артемий должен был следовать за ним.
Они ехали молча, не сказав друг другу больше ни слова вплоть до заезжего двора на половине дороги.
XIV. Старые счеты
У двора Артемий, к радости своей, увидел сломанную одноколку Торичиоли, стоявшую еще там, и обрадовался, сочтя это признаком того, что итальянец еще не уехал.
– Он здесь! – сказал он графу. – Он здесь еще… видите? Это его сломанный экипаж.
Но граф, не отвечая, ехал дальше, не укорачивая и не прибавляя шага своей лошади.
– Граф! Торичноли здесь, – повторил Артемий.
Ответа не было.
Артемий один повернул ко двору. Но Сен-Жермен и на этот раз, как всегда, оказался прав: нужно было ехать вперед, не останавливаясь. Дворник объяснил Артемию, что господин, который приехал в одноколке, сказал, что ждать ему надоело, и тотчас же по отъезде Артемия выменял у него, дворника, охотничье седло на одноколку, велел оседлать лошадь и шибко поскакал в город.
«Да, все кончено! – снова ужаснулся Артемий. – Все кончено, если он не поможет!»
Единственная надежда его была теперь на графа, и он, догнав того на дороге, послушно поехал за ним, ожидая лишь приказания, что делать, и решив оставить в стороне всякую личную инициативу.
«Боже мой! – следуя за графом, думал он. – И зачем я поехал по этой дороге, зачем я остановился на этом дворе, зачем встретился с Торичиоли? Да, не имей я слабости остановиться у забора проскуровского сада – ничего этого, может быть, не было бы. Конечно, не будь этой причины, все обстояло бы благополучно… Но он назвал эту причину серьезной… Он сказал, что тут, может быть, и его вина…»
И Артемий уже решительно не мог понять, каким образом Ольга могла по вине графа забыть его, Артемия, то есть свое чувство к нему.
Жар начинал спадать, когда они подъехали к Петербургу.
Только у самой рогатки Сен-Жермен обернулся к Артемию и сказал ему:
– Поезжайте сейчас к Орлову и ждите меня там.
Сказав это, граф повернулся куда-то в сторону и вскоре исчез из глаз своего спутника.
Артемий опустил голову и тихо поехал к Орлову.
Между тем Сен-Жермен быстро стал поворачивать из одного закоулка в другой, ни разу не сбившись в путанице заборов и домов, между которыми были в этой отдаленной от центра части Петербурга не улицы, а проезды, неправильные и случайные. Но он пробирался между ними, словно ехал по родному ему, давно знакомому городу, твердо зная направление, которого следовало ему держаться.
Вот он миновал наконец этот лабиринт закоулков, проехал небольшую рощу – остаток непроходимого когда-то леса, покрывавшего сравнительно недавно – лет пятьдесят тому назад – эту часть Петербурга, и очутился на довольно отдаленном берегу реки Фонтанной.
Здесь, за высоким деревянным забором, среди густой зелени стоял новый деревянный домик под тесовою, блестевшею, как серебро, на солнце крышею.
Подъехав к калитке, граф соскочил с лошади и постучался в кольцо. Через несколько секунд послышались за калиткой по проложенным к ней мосткам тихие шаги, засов звякнул, дверца отворилась, и за нею показалась высокая фигура, старого кенигсбергского слуги Сен-Жермена. Он поклонился графу и пропустил его.
«А что, как он вдруг уедет? – внезапно пришло в голову Артемия по дороге к Орлову. – Мы выданы теперь, выхода нет; может быть, теперь уже все известно, и он, велев мне ехать к Орлову, сам бежит из Петербурга, чтобы спастись самому, а нас оставить на произвол судьбы!»
Но эта подлая мысль про графа мелькнула у Артемия только на один миг, и он сейчас же отогнал ее от себя, стыдясь за нее сам пред собою.
«Вот как все-таки гадок человек! – чувствуя, что краска покрывает его щеки, продолжал думать он. – Сам я кругом виноват – из-за меня все происходит – и сам же думаю про других дурно, потому только, что сам дурное сделал».
Войдя в калитку дома, Сен-Жермен обернулся к старику, спрашивая:
– Все ли у вас готово по обыкновению, Иоганн?
– Граф собирается ехать сейчас? – ответил Иоганн вопросом, – в таком случае карета, как всегда, к услугам вашего сиятельства, и на все пунктах остановок, вплоть до Парижа, ждут переменные лошади.
– Да, мне сейчас нужна карета, но только не для далекого путешествия – я еду в город. Кучера не нужно. Вы сами сядете на козлы.
Иоганн, очевидно, давно приученный к странному образу жизни графа, не медля, не удивляясь и не расспрашивая, пошел исполнять его приказание.
Сен-Жермен в ожидании облокотился на загородку, отделявшую двор от разбитого пред домиком палисадника.
Ждать пришлось ему недолго. Почти сейчас же, словно бочка пожарной команды по сигналу, из-за дома выехала парная карета со старым Иоганном вместо кучера на козлах, а кучер бежал открывать ворота и отвести в конюшню лошадь, на которой приехал граф.
– К Джузеппе Торичиоли, – проговорил Сен-Жермен, садясь в карету.
Джузеппе жил на лучшей улице города – на Невской першпективе, вблизи Казанского собора. Он занимал очень приличное помещение, устроенное, однако, не на манер барских жилищ, и применительное к вкусам и привычкам иностранца.
К нему можно было попасть с парадного крыльца, не останавливаясь у него непременно в дорогом экипаже с гайдуками и гусарами, которые бежали докладывать о приезде своего барина, встречали на крыльце лакеев хозяина дома и те, в свою очередь, шли докладывать приезжему, что его просят пожаловать. Так водилось у бояр, и добрых полчаса проходило в этих докладах, церемониях и переходах. У Торичиоли же просто, по заграничному образцу, висел у двери молоток, которым мог постучать всякий.
Дверь открыл Сен-Жермену знакомый ему Петручио, служивший теперь у итальянца. Но Петручио, знавший графа под видом Одара, не узнал его теперь – он никогда не видал настоящего лица Сен-Жермена.
– Ваш господин дома? – спросил граф по-итальянски.
Петручио пожал плечами.
– Извините, синьор, но синьора Торичиоли нет дома.
– Разве он еще не вернулся?
– О, нет, он вернулся, но сейчас же уехал опять… per bacco, синьор, его нет дома.
До тех пор, пока Петручио не побожился, было еще сомнение – дома ли Торичиоли и только не велел принимать никого или он действительно ушел, но теперь можно было наверное сказать, что он дома.
– Наверное, синьор Торичиоли лишь приказал вам сказать так, – возразил Сен-Жермен, – но меня вы можете провести к нему…
– Per bacco… – начал было опять Петручио, однако граф не дал ему говорить.
– Вы можете провести меня, – повторил он и поднял руку, на которой у него на среднем пальце было агатовое кольцо.
Увидав кольцо, Петручио, не возражая больше, молча поклонился и повел Сен-Жермена в комнаты.
Они прошли небольшую прихожую, потом зал, столовую.
– Синьор Торичиоли здесь, – шепотом сказал итальянец-лакей, показав на дверь, ведшую в следующую комнату, и на цыпочках поспешно скрылся.
Граф взялся за ручку двери и быстро распахнул ее.
Торичиоли сидел у бюро и спешно переписывал что-то. Нетрудно было догадаться, что это – заветный список.
Когда Торичиоли заслышал звук распахнувшейся двери, то прежде всего инстинктивным движением, закрыл бюро и вскочил со своего места, закрыв его собою. Но, когда он увидел на пороге комнаты Сен-Жермена, то есть человека, с которым у него были давнишние счеты и который уже вторично появлялся словно из-под земли как раз в тот момент, когда готовы были исполниться его планы относительно внезапного богатства, он вздрогнул весь и крепче прислонился к своему бюро, потому что отступить было некуда.
Торичиоли чрезвычайно поразился, но именно вследствие его необычайного испуга, изумления, – словом, чувства, охватившего его, вышло очень смешно все, что он сделал при появлении графа. Руки его опустились, лицо вытянулось и глаза заморгали, словно он хотел смигнуть кажущееся ему видение, в действительность появления которого не верит.
Но явившийся к нему человек заговорил, и, услышав его голос, Торичиоли должен был убедиться, что пред ним не обманчивый образ, созданный его фантазией, а вполне реальный человек.
– Вы, конечно, узнали меня, – проговорил граф.
«А, – подумал Торичиоли, – он теперь спрашивает меня, узнал ли я его? Конечно, узнал, еще бы не узнать! Но только теперь посмотрим… выдержу ли я…»
Теперь Торичиоли был совсем другим человеком, чем в Проскурове, и положение его был совсем иное. Тогда он вполне зависел от других, жил на жалованье, на чужих хлебах, теперь он был самостоятелен. Теперь у него в Петербурге имелись знакомства, и даже влиятельные; он был своим человеком в военной канцелярии, его знали многие и – чуть что – ему было теперь к кому обратиться и у кого искать защиты и покровительства… Он имел возможность при случае дойти и до самого государя.
Очевидно, этот человек, враг его, враг, счастье которого в молодости разбил Торичиоли, пришел теперь к нему не с ласковым приветом, но, может быть, даже для того, чтобы свести свои счеты с ним.
– Да, я узнал вас! – ответил он, выпрямляясь и с видимым усилием разыгрывая вид напускной смелости, так как в действительности весь вид его говорил:
«Ну, и что ж из этого? Ну-ка, попробуй, попробуй, подойди!..»
Сен-Жермен сделал шаг вперед и начал без малейшего признака волнения:
– Я пощадил вас тогда, в Генуе: я думал, что вы свой поступок – вы помните его – загладите последующей жизнью… Это было почти достигнуто… Но вы поколебались – помните, в именье князя Проскурова… Только мое появление остановило вас… Теперь вновь, в третий раз, вы на краю погибели… Что вы хотите сделать теперь, а?
Торичиоли было бы легче, если бы его упрекали, грозили ему, проклинали, но этот тон убеждения, как голос совести, был неприятен ему. На упрек он мог бы ответить упреком, на угрозы – угрозой, на проклятие – проклятием, но на суровое убеждение, точно власть имеющего судьи, он не был в состоянии возразить, потому что не имел достойного возражения.
«Туда же! Судить меня приходит, – внутренне усмехнулся он, словно над самим собою, – как будто у самого на душе нет ничего; у всякого человека есть что-нибудь – и в соборе Святого Петра не все колонны правильны… Ну, что ж, что за мною был грех, но теперь он сделать ничего со мною не может… да, не может!»
И, закинув голову, он поднял взор на графа и произнес:
– Я все помню. Ну, и что ж из этого? Чего же вы приходите ко мне? Если я – дурной, по-вашему, человек и снова будто бы стою на краю погибели, то и пусть – тем лучше для вас, и оставьте меня в покое… пусть я гибну, что ли, а вам нечего было приходить ко мне – незваным и непрошеным; я вас видеть не желаю и говорить с вами не хочу… И уйдите из моего дома, и уйдите вон говорю я вам!
И слова, и вид Торичиоли были дерзки, но он хотел казаться дерзким, потому что он не мог быть смешным. Дерзостью думал он прикрыть свою трусость.
Однако его обращение не произвело никакого действия на графа. Ни один мускул его спокойного лица не дрогнул, он бровью не шевельнул.
– Если бы дело касалось вас, – по-прежнему ровно и тихо сказал он, – то, может быть, я не остановил бы на этот раз грозящего вам удара, который вы готовите сами себе. Но тут помимо вас замешаны другие и, наконец, совершенно невинный молодой человек.
Торичиоли сразу понял, что его незваному гостю известна история со списком и что о ней-то именно он и говорит теперь.
«И откуда это он узнает всегда?» – мелькнула у него мысль, но, разумеется, сознаваться не было у него ни причины, ни желания.
– Какой молодой человек? Какие тут другие? – проговорил он в свою очередь.
– Разве вы не знаете? Ведь у вас в руках теперь изменой доставшийся вам список; вы намерены донести как можно скорее… Я вам скажу: вы на верном пути, и ваш донос будет очень важен, очень… вы из него извлечете большую пользу для себя. Но только подумайте – какая участь грозит тем, на кого вы донесете, и главным образом тому, у кого вы взяли этот список.
«А, я на верном пути, я могу извлечь себе большую пользу! – опять подумал итальянец. – Кто же себе враг». И дерзче прежнего он снова ответил:
– Оставьте меня в покое! Повторяю вам – никакого списка у меня нет, и ничего я не знаю… и никакого молодого человека, и ничего…
– Подумайте! – продолжал граф. – Его будут пытать, его возьмут, отвезут в крепость, и в то время как вы будете получать деньги за свое предательство, вашу жертву вздернут на дыбу и кости его захрустят…
– Да вам-то что за дело? – крикнул вдруг Торичиоли.
Сен-Жермен скрестил руки на груди и остановил на нем долгий и пристальный взгляд.
Какая-то особенная, непонятная улыбка сложилась на его губах.
– Джузеппе Торичиоли, – проговорил он вдруг изменившимся и тоже совсем особенным голосом, – вы желаете теперь знать, какое мне дело до всего этого? Хотите, я дам вам ответ?
Торичиоли под этим взглядом и при звуке этого голоса почувствовал словно дрожь во всем теле и невольно ответил:
– Да, я хочу этого!
– Хорошо, я отвечу вам, но только не здесь.
«Что он говорит такое? – силился сообразить Торичиоли. – Не здесь? А где же тогда?»
– А где же тогда? – произнес он вслух.
– Мы сядем сейчас же в мою карету, и я отвезу вас туда, куда нужно. Мы поедем вместе.
Итальянец усмехнулся.
– С какой стати, зачем?.. Вы думаете, я так и дамся в ловушку? Откуда я знаю, куда вы меня завезете.
Лицо Сен-Жермена выразило презрение.
– Неужели Джузеппе Торичиоли – такой трус, – внятно произнес он, – что боится поехать с человеком, которому он, кроме зла, ничего не сделал и который до сих пор за это делал ему только добро?
Самолюбие итальянца было задето. Иногда такие люди, как он, вдруг способны получить отчаянную смелость, именно если суметь задеть их самолюбие.
– Я вас не боюсь, да и никого не боюсь, – ответил он, – но если вы готовите мне ловушку, то верьте, что найдутся люди, которые заступятся за меня. Сколько времени должен я дать в ваше распоряжение?
– Только часа полтора.
– Тогда будьте добры подождать рядом в столовой. Теперь без четверти четыре, ровно в четыре часа я буду к вашим услугам.
Граф, удовлетворенный, кивнул головою и вышел в столовую.
XV. Ловушка
Все, что угодно, но только Торичиоли не хотел показаться трусом перед человеком, который был его врагом. Ему хотелось бросить всем как вызов свою решимость ехать с ним, куда бы тот ни повез его; к тому же чего-либо особенно скверного сделать с ним не могли: все-таки они жили в столице, где не так уж легко было исчезнуть такому лицу, как Торичиоли, который вследствие завязавшихся у него в последнее время отношений считал себя «лицом» в Петербурге. Кроме того, он знал, с кем ехал, и мог принять некоторые предосторожности.
Ровно в четыре часа они вышли на крыльцо и сели в карету. Дверца захлопнулась, и Иоганн тронул. Он знал куда ехать в том случае, если граф не давал никакого приказания.
Карета повернула по Невской першпективе.
Торичиоли, чувствуя мягкое покачиванье рессор, удобно сидел в своем углу, испытывая не без удовольствия ощущение быстрой езды.
– Могу я узнать правду, куда мы едем? – спросил он наконец после продолжительного молчания.
– Не все ли вам равно, раз вы уже решились довериться мне? – спросил в свою очередь граф.
– Это ведь Фонтанная? – продолжал итальянец, видя, что они поворачивают на набережную.
– Да, Фонтанная.
Разговор прекратился.
Хотя Торичиоли и старался показать всем, чем мог, что нисколько не боится, но в глубине души все-таки мучился неизвестностью.
– Однако, – обратился он снова к графу через некоторое время, – я должен предупредить вас, что принял известные предосторожности: в моем кабинете оставлен пакет, адресованный на имя одного из моих друзей, и в нем среди прочих важных бумаг лежит записка о том, что я уехал именно с вами; если я не вернусь ровно через два часа домой, то пакет будет отнесен по назначению моим слугою.
Граф молча продолжал смотреть в окно, словно не слыша того, что ему говорили.
Это действовало на Торичиоли раздражающим образом. Он кашлянул нарочно громко и опять заговорил:
– Если вы думаете, что одни вы имеете возможность узнавать чужие тайны, то опять-таки я должен предупредить вас, что мне известно ваше настоящее имя. Я знаю, что вы – вовсе не граф Soltikoff, как вас звали в Генуе, и не доктор Шенинг. Я знаю ваше настоящее имя…
– Вы знаете мое настоящее имя? – подчеркнул граф, – какое ж оно?..
– Граф Сен-Жермен, – торжественно произнес Торичиоли. – Да, вы – тот самый и известный в Париже и во многих других местах граф Сен-Жермен, который является под именем Шенинга.
Торичиоли, собственно, готовил этот удар на всякий случай для более удобного времени.
Однако его расчеты не оправдались. Граф нисколько не был удивлен. Только глаза его глянули насмешливо.
– Ну, хорошо, вам нетрудно было узнать, что доктор Шенинг и граф Сен-Жермен – одно лицо! Это вам мог сказать хотя бы ваш приятель, пьемонтец Одар, но значит ли это, что вам известно мое настоящее имя?
Оказалось, что Торичиоли вместо того, чтобы смутить графа, сам очутился в неловком положении. Свои сведения он действительно получил от Одара, но графу было известно даже и это.
– Во всяком случае, – заговорил итальянец, чтобы выйти из неловкости, – знайте, что в моей записке прямо сказано, что я уехал с известным графом Сен-Жерменом, который находится в Петербурге под именем доктора Шенинга, и если что случится, то – будьте покойны – вас найдут: сам государь будет знать об этом.
Сен-Жермен продолжал смотреть в окно. Насмешливая улыбка так и застыла у него на лице.
– А разве вы знаете Одара? – не успокаивался Торичиоли.
– Что значит «знаете»? Вы помните старое греческое изречение: «Познай самого себя»? Ведь это невозможно; так же как вы хотите, чтоб я знал Одара?..
Больше они не разговаривали.
Карета подъехала к деревянному домику на реке Фонтанной, тому самому, откуда Сен-Жермен поехал к итальянцу. Иоганн остановил лошадей у ворот и щелкнул три раза бичом – ворота отворились. Карета въехала в них.
Граф вышел первый и повел Торичиоли на крыльцо дома, оно было не заперто. В сенях оказались две двери, кроме входной внизу, неширокая крепкая лестница вела наверх. На первый взгляд этот домик был самым обыкновенным домиком, скромным и уютным, какие строили себе в России помещики средней руки.
Торичиоли доверчиво следовал за графом. Тот повел его вверх по лестнице. Там наверху в мезонине оказалась одна только комната, под самой крышей.
– Милости прошу, – проговорил граф, открывая дверь этой комнаты.
Итальянец вошел. Дверь захлопнулась за ним. Он кинулся к ручке ее, но дверь была уже заперта снаружи. Торичиоли попался в ловушку.
– Что же это? – вслух произнес он. – Ну, конечно… И нужно было ехать, нужно было поддаться…
Правда, комната, в которой его заперли, не имела в себе ничего страшного, ни угрожающего. Ее стены, аккуратно и крепко обшитые чистыми, новыми досками, не были ничем покрыты, но все-таки имели приветливый вид. Пол был тоже чистый, белый. Из мебели стояли лишь несколько стульев и стол. В окна гляделись, почти вплотную заслоняя их, зеленые ветви деревьев.
Торичиоли попробовал постучаться ручкой и потрясти дверь. Она сидела плотно на петлях и не поддавалась. Он попытался заглянуть в окна, но они были так малы, что высунуться в них не представлялось возможности. Выхода не было.
Торичиоли пришел в отчаяние.
Запереть его, запереть и оставить, – это было ужасно, главное же – хуже всего казалась неизвестность. Неужели его завезли, чтобы кончить с ним? Но этого быть не может: этот таинственный граф предупрежден, что через два часа пакет отнесут по надписанному на нем адресу и все станет известно и будут искать Торичиоли, и помогут ему.
Соображая все это, итальянец, как зверь в клетке, ходил из угла в угол, потом сел, затем опять заходил.
Сначала он все соображал, потом стал припоминать дорогу, как они ехали, и рассчитывать, далеко ли он находится от центра города; затем он впал в полное отчаяние, но опять нашел себе утешение; потом стал молиться.
А время между тем шло и шло. Был уже шестой час, когда Торичиоли наконец уселся у стола и, положив на него пред собою часы, бессмысленно следил за тем, как медленно двигались стрелки, подходя к сроку, назначенному им графу.
Да, если даже сию минуту его выпустят, то уже будет поздно, он не поспеет доехать и пакет будет отдан.
«Ну, что ж, тем хуже для него!» – решил Торичиоли и прислушался.
Ему показалось, что идут. Но во время своего невольного заключения он уже столько раз прислушивался и обманывался, что, наверняка, и на этот раз было то же самое.
Однако это было не так: на лестнице теперь уже послышались шаги, и не одного человека, а по крайней мере двоих.
Торичиоли притаил дыхание.
С лестницы поднялись совсем на площадку, там, по ту сторону двери, можно было различить шорох.
«Отопрут или не отопрут?» – с забившимся сердцем подумал Торичиоли.
Ему хотелось, чтобы отперли – по крайней мере, в продолжение часа, что сидел здесь, он только и желал этого. Но теперь, когда послышались шаги, а потом шорох у самой двери, ему стало жутко, и он готов был почти крикнуть, чтобы не отворяли, что не надо, что он не хочет этого.
– Неужели без этого нельзя обойтись, неужели это необходимо? – услышал он слабый женский голос за дверью.
– Да, это необходимо, – ответил голос Сен-Жермена и вслед затем граф раскрыл дверь, пропуская в комнату впереди себя женщину в черном монашеском одеянии.
Торичиоли в это время стоял уже у стола, крепко ухватившись за него, прямо лицом к двери. Первое его движение было защититься, но поднявшиеся для этого руки при взгляде его на монахиню вдруг быстро опустились.
Это была та самая мать Серафима, которая, будучи пострижена в монастырь вблизи Проскурова, столько лет запрещала Торичиоли показываться себе на глаза, – та самая, которая давным-давно, там, на юге, в Генуе, не носила еще этой черной рясы и в миру казалась обыкновенною светскою женщиной, русской аристократкой, то есть не совсем обыкновенною, потому что красота ее сводила с ума все молодые головы города; та самая, наконец, которая была героиней страшной истории, разыгравшейся между нею, Торичиоли и графом, и которая впоследствии стала матерью ребенка итальянца, ребенка, отыскиваемого им до сих пор еще с прежним рвением, как единственное существо, на кого он мог обратить всю свою любовь.
Давно закончилась эта история сильно изменилась с тех пор и мать Серафима, и Торичиоли. Один граф, казалось, оставался прежним, но если вглядеться и в него, то заметно было, как изменились не черты его лица, а выражение последнего, ставшее совсем бездушным, холодным, застывшим.
И вот они снова все трое встретились после стольких лет разлуки. А ведь и разлучились-то они для того, чтобы никогда не встречаться. Однако, очевидно, так нужно было, нужно было сойтись им еще раз, но зачем? Это должен был сейчас узнать Торичиоли.
Мать Серафима вошла и остановилась посреди комнаты с опущенными руками, сплошь закрытая своею черною мантией, глядя прямо пред собою тем светлым, бесстрастным взглядом, каким смотрят на это внешний «светский» мир люди, отрешившиеся от него. Но в ее почти сквозном матовом лице, и в особенности в бесстрастных глазах, оставались еще следы той замечательной красоты, из-за которой Торичиоли пошел на преступление.
И теперь при взгляде на нее эта прежняя красота матери Серафимы, как живая, воскресла в памяти итальянца, и он смотрел на нее, и давно его уже не волновавшееся сердце забилось вновь так часто, что он схватился за него, словно желая остановить его беспокойные удары.
– Вы хотели, – заговорила мать Серафима по-итальянски, обращаясь к Торичиоли (да, она заговорила по-итальянски, на том языке, на котором он шептал ей когда-то слова любви, которые она не хотела слушать – она не забыла этого языка!), – вы хотели знать, где… где этот ребенок, – она запнулась, потому что не хотела сказать ни «мой», ни «ваш», ни «наш» ребенок, и сказала просто «этот». – Я пришла теперь назвать вам его.
Торичиоли кинулся вперед. Грудь его часто и неровно подымалась, он совсем задыхался.
– Я понял, понял, – едва выговаривая слова, перебил он, – это он, – показал он на графа, – привел вас сюда и упросил, чтобы вы ценою вашей тайны купили у меня молчание о заговоре, в котором он, очевидно, принимает участие… Ему нужен этот список… Я все отдам, все… Я буду молчать, я согласен, если вы скажете мне, где мое дитя. Для него, то есть чтобы отыскать его, мне нужны были эти деньги, эта денежная награда… Только для него… Если я буду знать, что мне нужно, я на все согласен, и мне тогда ничего не нужно.
Мать Серафима, не слушая, ждала, пока он закончит, чтобы продолжать свою прерванную речь. Торичиоли задохнулся и не мог больше говорить.