Текст книги "Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики"
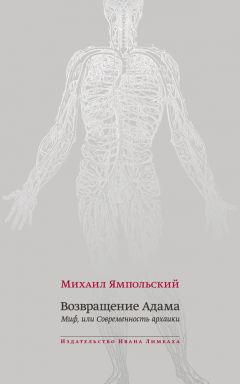
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
9. Удвоения и анаграммы
Именно в этом контексте приобретает все свое значение, казалось бы, странный интерес Соссюра к анаграммами старой поэзии. Именно область поэтического мифа оказывается экспериментальным полем для изучения дифференциации и недифференцированности целого. Интерес этот вспыхивает еще до создания основной конструкции теоретической лингвистики в 1906 году и неожиданно угасает спустя три года. Первые упоминания о новом интересе Соссюра появляются в письме к Антуану Мейе из Рима 12 ноября 1906 года, где говорится о попытках понять структуру латинского сатурнова стиха.
В этом же письме Соссюр говорит о своей неуверенности в результатах исследования, которые могут оказаться не чем иным, как иллюзией[137]137
См.: Jakobson R. La première Lettre de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet sur les anagrammes // L’Homme. Apr.-Jun. 1971. T. 11. № 2. P. 16.
[Закрыть]. В письме Мейе от 23 сентября 1907 года Соссюр делится первыми результатами своей работы. Они связаны с изучением аллитераций, то есть повторением звуков в стихе. Он обнаруживает множество таких повторений и в сатурновом стихе, и у Гомера, а затем в Ведах и неожиданно открывает для себя «закон» удвоения звуков.
Соссюр приводит пример двух строк Ливия:
Ibi manens sedeto donicum videbis
Me carpento vehente domum venisse.
И обнаруживает в этих двух строках умножение звуковых групп:
DĒ: DĒ в sedēto: vidēbis.
BĬ: BĬ в ibi: vidēbĭs.
DŌ: DŎ в donicum: dŏmum
VĔ: VĒ в vehente: vēnisse
TŌ: TŌ в sedēto: carpentō
NĬ: NĬ в donĭcum: vēnĭsse
ĒN: ĒN в man-ēn-s: v-ēn-isse и т. д.[138]138
См.: Benveniste E. Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet // Cahiers Ferdinand de Saussure. 1964. № 21. P. 110–111.
[Закрыть]
Если количество звуков в строке четное, то все они, по наблюдениям Соссюра, удваиваются. Если их число не четное, слог, который не получил пару, получает такую в следующей строке. Соссюр пишет о странной математической структуре такого стиха, о «точной его арифметике» (arithmétique serrée)[139]139
Benveniste E. Lettres de Ferdinand de Saussure… P. 110–111.
[Закрыть]. Такая структура вызывает у Соссюра ощущение «роения слогов (grouillement de syllabes) или звуковых групп, которые являются эхом друг друга»[140]140
Ibid.
[Закрыть]. Метрическая структура стиха только усиливает взаимное отражение гласных в «противогласных» (термин Соссюра), слогов в «противослогах». Ранняя поэзия оказывается поэзией бесконечных умножений и отражений.
Франсуаза Растье, тщательное проанализировавшая работу Соссюра над сатурновым стихом, показала: вопреки убежденности Соссюра, что он работает исключительно над звуками, в действительности он сосредоточен на письме, вернее – записях стиха, которые фрагментарны, часто являются результатом реконструкций и существуют во множестве вариантов. Кроме того, крайне неопределенными остаются принципы произношения тех или иных звуков в тот или иной удаленный от нас исторический период. Все это само по себе делает выводы Соссюра крайне ненадежными[141]141
См.: Rastier F. À propos du Saturnien // Latomus. Jan.-Mars 1970. T. 29. Fasc.1. P. 3–24.
[Закрыть]. Соссюр назвал феномен, который позднее выдвинулся в центр его исследований, анаграммой, хотя и заметил по этому поводу: «Используя термин анаграмма, я вовсе не думаю об обращении к письму в контексте гомеровской поэзии или любой иной древней индоевропейской поэзии. Анафония – было бы точнее…»[142]142
Starobinski J. Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Paris, 1971. P. 27.
[Закрыть] И все же он останавливается на анаграмме, в которой корень грам – прямо отсылает к письму, а не к звуку.
Сильвер Лотренже заметил, что Соссюр часто трактует «фоне» как «грам», звук как букву[143]143
См.: Lotringer S. The Game of the Name // Diacritics. Summer 1973. Vol. 3. № 2. P. 3.
[Закрыть], которая сама по себе не слышна и лишь создает некий вторичный слой за акустической нерасчлененностью фоне. Именно письмо позволяет осуществить членение звука и его соотнесение с числами, со «строгой арифметикой». Вместо линейной цепочки означающих, соотносимых с означаемыми, мы получаем «двойчатки», сдвоенные ряды. Юлия Кристева замечала по этому поводу: «Поэтическая программа, о которой говорит Соссюр (Анаграммы), находится в промежутке от нуля до двух: „одно“ (определение, „истина“) не существует в своем собственном пространстве. Можно сказать, что дефиниция, детерминация, знак равны между собой, а концепт знака, предполагающий вертикальное (иерархическое) распределение означающего-означаемого, нельзя применять к поэтическому языку, представляющему собой бесконечные объединения и комбинации. <…> Это означает, что минимальная единица поэтического языка, по крайней мере, двойственна (в смысле не диады означающее-означаемое, но один и другой) и представляется в функционировании поэтического языка как табулярная модель, где каждая „единица“ (в дальнейшем это слово можно использовать только закавыченным, поскольку каждая единица двойственна) предстает как мультидетерминированная вершина. Двойственность становится минимальным эпизодом этой параграмматической семиотики, которую разработали Соссюр (Анаграммы) и Бахтин»[144]144
Кристева Ю. Семиотика: исследования по семанализу. М., 2013. С. 77–78. Пер. Э. А. Орловой.
[Закрыть].
Разрастающаяся игра серий – звуковых, буквенных – создает некое бесконечноое множество без начала и без конца. И это множество, прежде всего относящееся к миру чисел, с помощью самого понятия анаграммы выводится из области чисел в область – arche – мифического истока. Как пишет Лотренже, «так как дифон по определению не поддается никакому исчислению, число отклоняется к имени <…> Имя (nom) – это только тень (ombre) числа (nombre), которое, строго говоря, неназываемо»[145]145
Lotringer S. The Game of the Name. P. 5.
[Закрыть]. Дифон – это интервал между соседними фонемами, их смычка и разделитель, он – условие «двойчатки», по мнению Лотренже, не поддающееся исчислению. Соединитель парных звуков, повторяющихся элементов цепочки, который позволяет преодолеть бесконечную игру множеств, – имя, укореняющее эту игру в некий мифический исток и придающий самой двойной цепочке некую пространственность и направленность. Соссюр пришел к выводу, что за бесконечной игрой удвоений можно различить зашифрованное анаграмматически (или гипограмматически) имя бога (или иногда «героя»). Лотренже пишет: «Рубрика Имени стремится под эгидой Логоса вернуть телеологическую структуру в сердцевину звукового рассеяния (The heading of the Name tends to reintroduce, under the aegis of the Logos, a teleological structure at the core of phonic dissemination)»[146]146
Ibid.
[Закрыть]. Рассеяние, «роение» собирается воедино и получает телеологию благодаря имени Бога, укореняющего беспочвенность фонических числовых умножений в мифическое имя, с этим богом связанное. Соссюр так оправдывал явленность (или скрытость) анаграмм в ранней поэзии: «Основанием для появления анаграмм могло бы быть религиозное представление, согласно которому обращение к богу, молитва, гимн не достигают своей цели, если в их текст не включены слоги имени бога. [И если принять эту гипотезу, то и погребальный гимн сам по себе, поскольку в нем встречается анаграмма собственного имени умершего, уже является результатом расширенного употребления приема, вошедшего в поэзию благодаря религии.] Но основание могло бы быть и не религиозным, а чисто поэтическим: в этом случае оно было того же рода, что и причины, определяющие появление рифм, ассонансов и т. д.»[147]147
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 642.
[Закрыть].
Мифическое прошлое, ассоциируемое с именем бога или священной поэзией (гимнами), оказывается областью не собранных воедино множеств, областью бесконечных зеркальных удвоений. Но и сами эти скрытые имена, которые различает под текстом Соссюр, тоже вступают в отношения бесконечного «роения». Соссюр Писал Мейе: «Трудно не обнаружить ожидаемое имя, которое оказывается и ловушкой и предметом сомнений, трудность в том, что, напротив, каждый текст предлагает пять или шесть имен с такой же легкостью, как и одно, так что в итоге задаешь себе вопрос: можно ли обнаружить все анаграммы мира в трех строчках какого-нибудь автора»[148]148
Benveniste E. Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet. P. 112.
[Закрыть]. Эти пять или шесть имен – характерная черта мифа, в которой имя не обладает ясной идентификационной устойчивостью. Оно собирает пучок значений в некое Единое, но не обладает устойчивостью, чтобы это Единое сохранить.
Часть 2
Адам в раю. Язык и тело
10. Рыба
Вернемся к «Велимировой книге». Адам-Хлебников вступает в нее, а в ней – в некое первичное пространство явленности сначала из «стихии морской и речной». Эта водная стихия – совершенно естественное место рождения первичности. Персонификацией моря в Греции была «первичная богиня» Таласса, чьим мужским двойником был Понт. Таласса создала рыб и была стихийным созданием, не достигшим высокого уровня индивидуации. Она изображалась одетой в водоросли с веслом в руке и рогами в виде клешней краба. Шандор Ференци в 1923 году написал книгу «Таласса. Теория генитальности», в которой связал роды с ощущением плавания и спасения от амниотических внутриутробных вод. Он также указал на возможность филогенетической памяти, которая связывает первичную гармонию существования с жизнью в воде у рыб и амфибий. «И половой акт, и внутриутробная ситуация, – писал он, – выражены в символе рыбы или, вернее, в описании рыбы, движущейся или плывущей в воде»[149]149
Ferenczi Sh. Thalassa. A Theory of Genitality. New York, 1968. P. 44–45.
[Закрыть]. Книга Ференци в момент своей публикации вызвала неодназначную реакцию. Слишком далеко исследователь заходил в область доисторического прошлого. Современный исследователь отмечает, что интерес Ференци к архаике, вероятно, был связан с интересом к тому состоянию телесности, которое «предшествовало семантическому упорядочиванию тел, которое устанавливает усвоение языка»[150]150
Gutiérrez-Peláez M. Confusion оf Tongues. A Return to Sándor Ferenczi. London-New York, 2018. P. 99.
[Закрыть]. Неслучайно так важен для Ференци мотив вавилонского смешения языков в контексте инфантильности, которому он посвятил специальное эссе. Ференци интересует меня особенно именно в свете осуществленного им вторжения мифа в «науку» и культуру. В своем эссе о «Талассе» замечательные французские психоаналитики и философы Николя Абрахам и Мария Торок предлагали видеть в этой книге поэзию, миф и «необыкновенную космогоническую эпопею», которые сами по себе «оказывают такое же освобождающее и терапевтическое воздействие, как некогда фольклорная или религиозная мифология»[151]151
Abraham N., Törok M. L’écorce et le noyau. Paris, 1987. P. 23.
[Закрыть]. Я глубоко убежден в правоте Абрахама и Торок.
В качестве общего предка всех позвоночных Ференци называет древнюю проторыбу – ланцетника Amphioxus lanceolatus[152]152
См.: Ferenczi Sh. Thalassa. P. 45.
[Закрыть], которая в мифологическом аспекте отмечена значимой немотой. Это создание, как истинный Адам, возникает в «Методе» Эйзенштейна вместе с именем Ференци и его книгой. Ланцетник у Эйзенштейна завещал нам свои любовные повадки, тягу к соединению особей, определяемую их фундаментальной разделенностью. Все это уже описано Ференци. Вот как выявляет Эйзенштейн смысл первичной водной стихии: «Соединение через водную стихию таким образом – один из древнейших (древнейший) вид сочетания особей. И если оно исходно примитивно связано с непосредственной основоположной областью соединения сочетаний („в чету“!), то сама внешняя форма продолжит сохраняться и для тех случаев, когда „единение-соединение“ от своего примитивного копулятивного смысла начнет перескальзывать в переносные чтения. Вторя ему, и форма первичной ситуации соскользнет во всевозможные виды замещений, переносов, условных обозначений, символических действий, настолько удаленных по своим новым видимостям, что даже трудно будет распознать или предположить происхождение их от исходной формы»[153]153
Eisenstein S. Die Methode. Band 2. Berlin, 2008. S. 252.
[Закрыть]. В этом описании движения в первичную недифференцированность поражает сходство с Соссюром, вплоть до упоминания «чета» и «нечета» – важных для числовой структуры раннего стиха.
Второй текст «Велимировой книги» «Велимир плывет» разворачивает метафору Хлебникова как рыбы[154]154
Гандельсман так комментирует этот мотив: «Харьковский художник Б. В. Косарев общался с Хлебниковым летом 1919 года, на даче Синяковых. Из его рассказа о Х.: „…совершал показательные ныряния: плыл под самой поверхностью воды, так что его хорошо было видно, и при этом, поворачиваясь с боку на бок, из-под воды смотрел на них“. „На них“ – на тех, кто плыл в лодке» (ВК, с. 46).
[Закрыть]:
Тёк костистой длинноногой рыбой под водой,
но к поверхности вплотную ртом корявым,
поворачиваясь на бок, глядя вверх то левым глазом, то,
крутанувшись на другой бок, – правым.
Загребал расхлябанными рук плетьми…
(ВК, с. 8)
Рыба в этой первой ипостаси Хлебникова – это существо, которое невозможно ухватить, скользкое, верткое, но главное, имеющее только профили, то есть существо, не имеющее лица и устремленного перед собой взгляда, который является свойством лица. Это свойство связано с сущностным признаком рыбы – немотой. В стихотворении «Сон» Гандельсман описывает эту связь немоты, то есть невыразимости, с отсутствием лица как способа фиксации облика:
…зачем пришла за чем за кем
глядит просительно
и мой испуг в ответ ей нем
так непростительно
то вверх то вбок юлит она
то вниз то вбок опять
всё по периметру окна
пришла молчком пытать
молчит на то и рыбе рот
чтоб кругло узиться
и немотой дышать вперёд…[155]155
Гандельсман В. Разум слов. М., 2015. С. 442 (далее: РС).
[Закрыть]
Немота рыбы странным образом избавляет речь от акустической формы и связывает ее с письмом. Рот рыбы «кругло узится» и становится нулем, упомянутым как основание оси абсцисс, на которой является новый Адам. Ноль тут обозначает и изначальную немоту. Рыба часто являет себя как двойное создание. Символ созвездия Рыб в зодиаке – это иероглиф двух рыб, соединенных между собой.

Знак этот имеет под собой миф о спасении Афродиты и Эрота от Тифона. Афродита и ее сын якобы бросились в воду и превратились в двух рыб, а по некоторым версиям, были спасены двумя рыбами[156]156
Такую версию излагает Овидий в «Фастах» (2, 458ff):
«Сжавши в объятьях дитя, она закричала: „Бегите,Нимфы, на помощь ко мне, двух вы спасите богов!“Прыгнула в реку – и тут близнецы их подняли рыбы;Обе за это они звездами быть почтены»(Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы. М., 1973. С. 268. Пер. Ф. Петровского).
[Закрыть]. Эти две рыбы, что особенно примечательно в контексте «первичного мифа», постоянно изображаются как обращенные в разные стороны и связанные между собой – иногда нитью, иногда хвостами.

Это, в сущности, единое, не расчлененное еще существо. В музее Сетиф в Алжире хранится мозаика первого века, изображающая спасение Афродиты и Эрота.
В этой мозаике все удвоено. Афродиту, сидящую на раковине, которая символизирует место ее рождения, спасают Таласса и Понт, а прямо под ней изображено спасение Эрота двумя рыбами, сплетенными хвостами и смотрящими в противоположные стороны. Перед нами аллегория мифической первичности, которая стремится разделиться, удвоиться, как в анаграммах Соссюра, но разделение до конца невозможно. Звук (фоне) и графемы (грам) еще не могут функционировать независимо друг от друга. Эти сдвоенные рыбы буквально являют нам то один, то другой профиль некоего единого существа, которое стремится удвоиться или раздвоиться («глядя вверх то левым глазом, то, крутанувшись на другой бок, – правым») или, вернее, не в состоянии сохранять собственную единичность.

На рубеже 1930-х годов (то есть уже после написания «Талассы» Ференци) Ромен Роллан в письме Фрейду, обсуждая истоки религиозного чувства, упомянул нечто, названное им «океаническим чувством» – непосредственное чувство вечного, не знающее границ. Фрейд откликнулся на это письмо в начале своей книги «Неудовлетворенность культурой». Здесь он связал «океаническое чувство» с рудиментами ощущения себя, до конца не отделившегося от внешнего мира[157]157
«…первоначально Я включает в себя все, позднее оно отделяет от себя внешний мир. Наше нынешнее чувство Я является, следовательно, лишь уменьшенным остатком широкомасштабного, более того, всеобъемлющего чувства, соответствовавшего внутренней связанности Я с внешним миром» (Фрейд З. Вопросы общества. Происхождение религии. М., 2007. С. 200. Пер. А. М. Боковикова). О психоаналитической теме океанического чувства в контексте восточной мистики см.: Masson J. M. The Oceanic Feeling. The Origins of Religious Sentiment in Ancient India. Dordrecht, 1980; Parsons W. B. The Enigma of the Oceanic Feeling: Revisioning the Psychoanalytic Theory of Mysticism. New York, Oxford, 1999; Петров В. В. «Океан бытия, жизни и разума» в философской, мистической и психоаналитической традициях // Мера вещей. Человек в истории европейской мысли / Под ред. Г. В. Вдовиной. М., 2015. С. 191–248.
[Закрыть]. Известно, что Роллан открыл «океаническое чувство», изучая индуистскую мистику, уделявшую большое внимание расширению границ Я. В «Жизни Рамакришны» Роллан описывал момент экстатического слияния с «божественной матерью» Кали, когда все вокруг исчезает и превращается в океан: «Он [Рамакришна] называл океан ее именем. Это состояние знакомо нам (в ослабленном виде) во сне, когда наше сознание совершенно естественно присваивает имя того или той, кто наполняет нашу мысль, любому, совершенно отличному от них образу, ибо тот, кого мы любим, присутствует во всем: все видимые формы служат ему облачением…»[158]158
Роллан Р. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. СПб., 2000. Цитирую по электронному изданию без пагинации.
[Закрыть] Здесь хорошо видна неустойчивая поливалентность мифических имен, которые устанавливают идентичность («того или той»), при этом совершенно лишенную всякой определенности.
Мишель Юлен указывает на изобилие метафор, связанных с рекой и океаном в индуистской традиции, и объясняет, что это превращение всего во всё, неспособность сохранить идентичность выражаются к классической индийской паре: индивидуальное сознание (jīva) – коллективное сознание (brahman), метафорически представленной в паре волна-океан.
Волна возникает из океана (инвидуируется) только для того, чтобы снова соединиться с всеобщим[159]159
См.: Hulin M. La mystique sauvage. Aux antipodes de l’esprit. Paris, 2015.
[Закрыть]. Океан оказывается местом постоянной борьбы за обретение «лица» и его утрату. Рыба может быть символом такой неустойчивости единичного.

Зодиакальный знак рыбы представляет собой два полукружия, обращенные в противоположные стороны. В случае же их обращения друг к другу они образуют иной знак рыбы – знаменитый символ Христа – Ichthus (рыба по-гречески).
Это слово, как известно, является акронимом: I=Jesus, Ch=Christ, Th=Theou (Божий), U=Uios (Сын), S=Soter (Спаситель). Адам тут оказывается предвосхищением Христа, его первичным двойником, грехи которого придется искупать мессии. Немотствующая рыба соткана из звуков, превращенных в письменные знаки, а оттого неожиданно обретших более очевидную явленность. Соссюр в своем «Курсе», рассуждая об устной речи как о выражении «естественного», а о письменной как о выражении «искусственного», говорит о трудности избавиться от письма и вернуться к естественному: «Пытаясь усилием мысли отрешиться от создаваемого письмом чувственного образа речи, мы рискуем оказаться перед бесформенной массой, с которой неизвестно, что делать. На ум приходит ситуация с человеком, которого учат плавать и у которого только что отняли его пробковый пояс.

Надо как можно скорее заменить искусственное естественным; но это невозможно, поскольку звуки языка изучены плохо; освобожденные от графических изображений звуки представляются нам чем-то весьма неопределенным»[160]160
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. С. 39.
[Закрыть]. Водная стихия и есть такая немотствующая неартикулированность, в которой трудно плыть (любопытен этот образ пловца) без искусственного подспорья («пробкового пояса») письма. Не случайно Соссюр проиллюстрировал первичное членение акустической «волны» и мира означающих странной диаграммой сдвоенных волн, рассекаемых по вертикали сечениями.
Соссюр писал об артикуляции «двух аморфных масс» – мысли и звука: «…язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти-то волны и могут дать представление о связи или, так сказать, о „спаривании“ мысли со звуковой материей. Язык можно называть областью членораздельности <…>. Каждый языковый элемент представляет собою articulus – вычлененный сегмент…»[161]161
Там же. С. 113.
[Закрыть] Удвоение рыб – элемент такой первичной артикуляции.
Комментируя мысль Соссюра о естественности и первичности устного и о письме как «извращении искусственности, <которое> порождает чудовищ»[162]162
Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 157. Пер. Н. Автономовой.
[Закрыть], Деррида пишет о мифической потребности обрести в устном, то есть до конца не артикулированном, слове исток, начало и утраченную полноту, разрушенную расщеплением на устное и письменное: «Принципиальное заявление, благое намерение и историческое насилие речи, грезящей о полноте самоналичия и переживающей себя как возврат к самой себе; так называемый язык (langage) как самопорождение живого слова, язык, способный, по Сократу, сам себе быть опорой, этот логос, который считает, что он сам себе отец, и возносится над писаной речью, бессильной и беспомощной, неспособной отвечать на вопросы и „всегда нуждающейся во вспоможении от отца“ (tu patros aei theitai boethu, „Федр“ 275d), – все это может возникнуть лишь из первичного разрыва и отлучения, что обрекает его на скитания, слепоту, скорбь»[163]163
Там же. С. 159.
[Закрыть]. Намек на Эдипа тут, конечно, неслучаен.
11. Степь звука «Ы»
Любопытно, однако, что в соответствии с принципом удвоения Адам-Хлебников возникает в первой части дважды. Сначала из воды, а потом из степи, являющейся противоположностью водной стихии.
Ценность воды как первоистока даже отчасти мотивируется степным происхождением Хлебникова:
Друг степей,
Буддой будущего пробуждён,
говорю: эту воду живую воспей,
солнца к ней лучом пригвождён.
Продерись сквозь чертополох,
выйди в ясную явь…
(ВК, с. 6)
Или:
Водой, из пальцев моих текущей,
сейчас и отныне
утоляй свою жажду в пустыне.
(ВК, с. 7)
Это обращение к степи Гандельсман объясняет в примечаниях: «О месте своего рождения Хлебников писал, что он родился в стане монгольских исповедующих Будду кочевников, в степи – высохшем дне исчезающего Каспийского моря. Называл себя киргизом. Его понимали дервиши» (ВК, с. 45)[164]164
Любопытно, что образ степного Адама можно найти в стихотворении «Степь» Арсения Тарковского:
«Из рая выйдет в степь АдамИ дар прямой разумной речиВернет и птицам и камням…»(Тарковский А. Избранное. М., 1982. С. 51).
[Закрыть]. Степь – это прямое «превращение моря», его высохшее дно.
Главным признаком степной сухой архаики в мифе о Велимире неожиданно оказывается звук «Ы», извлеченный из речи[165]165
Михаил Эпштейн приводит целый ряд выразительных пассажей в поэзии, в которых звук «Ы» играет существенную роль. Но два текста тут особенно выразительны и оба связаны с мотивом архаики. Первый – это «Портрет трагедии» Иосифа Бродского:
«Давай, трагедия, действуй. Из гласных, идущих горлом,выбери „ы“, придуманное монголом.Сделай его существительным, сделай его глаголом,наречьем и междометием. „Ы“ – общий вдох и выдох!» Второй текст – это «СКРЫМТЫМНЫМ» Андрея Вознесенского:
«„Скрымтымным“ – это пляшут омичи?скрип темниц? или крик о помощи?или у Судьбы есть псевдоним,темная ухмылочка – скрымтымным? <…>Скрымтымным – языков праматерь.Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.Планы прогнозируем по сопромату,но часто не учитываем скрымтымным»(Эпштейн М. Буква «ы» как выражение народного духа; см.: https://snob.ru/profile/27356/blog/73513/).
[Закрыть]:
Я разгрыз
мозговую косточку словаря,
вынув Ы,
вынув из смысла Ы,
и быка в него впряг.
Я калмык и кыргыз.
Пей из крынки словарный кумыс.
Я Нарцысс.
(ВК, с. 7)
Ы становится важным элементом всей поэмы, в которой то и дело возникают в контексте варварской архаики целые словесные блоки, построенные на повторении Ы. Преобразуется сама речь: «…рыщет,/ рычбой рычит и клыком клычет…» (ВК, с. 9); «Речь не речь у нас, а ры´ чь она, / трепещите, грешники, / языки ваши вялые вырвем…» (ВК, с. 10); «…на штыре стиха – нашатырь» (ВК, с. 11); «…там рыск, и выгрыз, / и стыд и срам, / и смерть навынос…» (ВК, с. 17), и т. д. И наконец игра со звуком «Ы» дает название всей основной части произведения – Мыдым:
Блок тех, которых тьмы и тьмы.
Меч молóха – молодым.
Дым и мы = дымы.
Мы и дым = мыдым.
(ВК, с. 13)
Блоковское «скифское» «тьмы»[166]166
Два момента в блоковских «Скифах» мне кажутся важными для Гандельсмана – упоминание Эдипа и неожиданно возникающая в скифском монологе любовь к «жару холодных чисел».
[Закрыть] превращается в «блок тьмы», которая застилает зрение и в силу этого становится «дымом» – то есть полной нерасчленимостью.
Гандельсман помещает этот «мыдым» в контекст хармсовского слова «мыр». Этот «мыр» как бы оспаривает «мир» в имени Вели-мир.
Где твоё уравнение, мир?
Говоришь, мычание? Нет, мы чаянье, мир.
Мыр = мыравенство.
(ВК, с. 21)
В хармсовском «Мыре» мир – это бесконечность, которая дается только частями и, в сущности, равноценная ничто. Мир в силу этого совершенно невыразим и неописуем. Мыр – и есть знак невыразимости мира. Ы вообще в этих текстах выражает утрату речь, вместо которой возникают фЫрканье, рЫчь, рЫканье и т. д. В этом смысле Ы в слове «рыба» может пониматься как знак ее немоты. Перед нами речь, еще не ставшая речью. Это речь варвара или ребенка, и даже речь животного. Само написание Ы отсылает к невозможности речи. Традиционно буква «Ы» называлась «еры» и отсылала к буквам «Ъ» (ер) или «Ь» (ерь), то есть к буквам, которые не обозначают какой-либо определенный звук, но лишь высокую степень редукции. Эти знаки в фонетической транскрипции указывают на безударные гласные во втором и последующих предударных и заударных слогах, которые претерпели сильную количественную и качественную редукцию, так называемую вторую степень редукции. Перед нами обозначение звуков, которые находятся на грани утраты свойств фонемы, то есть способности смыслоразличения. Ы – это лигатура твердого или мягкого знака и буквы «И». Она и писалась в разных вариантах как ЪI, ЬI, ЪИ, ЬИ. Таким образом, эта буква является диграфом – комбинацией двух букв. В Ы заключен очевидный принцип двойственности.
Графическая двойственность Ы ложится на крайне неопределенный статус звука «Ы». Московская лингвистическая школа, например, не признает Ы отдельной фонемой, а считает скорее пережитком прошлого состояния языка, исчезнувшим во всех славянских языках, кроме русского. Вот как мотивируется это отрицание:
«1. Гласный [ы] не встречается в начале русских слов (в сигнификативно сильной позиции). Гласный [и] может быть в этих позициях: [и]глы, [и] (союз).
2. Гласный [ы] всегда стоит после твердых согласных, а гласный [и] – после мягких: [мы]л, [м’и]л. Слова «мыл» и «мил» различаются не гласными, а твердым согласным [м] и мягким [м’].
3. В составе одной и той же морфемы звук [и] заменяется звуком [ы] под влиянием предшествующего твердого согласного: [и]грать – [сы]грать»[167]167
Мусатов В. Н. Русский язык. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография. М., 2012. С. 141.
[Закрыть].
Представители Петербургской лингвистической школы, например академик Щерба, признают независимое существование фонемы «Ы», правда, считают ее менее самостоятельной, чем другие[168]168
Щерба писал о тонких градациях между полноценными фонемами и «оттенками фонем». Так то, что на слух фонетиста выглядит как дифтонг (сочетания двух фонем), «воспринимается туземцами как монофтонг, как одна простая фонема» (Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958. С. 134). Поскольку свойством каждой фонемы является смыслоразличение, ее акустический состав может меняться и быть различным. К числу самостоятельных фонем в полном смысле слова Щерба относил а, е, i, о, u, несамостоятельной он считал ы (Там же. С. 136).
[Закрыть]. Они аргументируют свою позицию редкими случаями употребления Ы в начале слова, то есть независимо от предшествующей согласной (Ыйсон, Ылга и т. д.), и способностью Ы различать слова (мыл, мил). Один из ведущих участников Московской лингвистической школы – Рубен Аванесов посвятил звуку «Ы» специальное исследование, в котором он показал, что различимость Ы как отдельной фонемы постоянно подвергается коррекции в связи с общей эволюцией фонетической системы русского языка. По мнению Аванесова, первоначально Ы и И были самостоятельными фонемами, которые постепенно функционально объединились и стали разновидностями фонемы «i». Эту эволюцию он объяснил постепенным развитием категории твердости-мягкости согласных. «Слабое положение, в котором выступают позиционные разновидности фонемы, в результате осуществления ряда фонетических и морфологических процессов и постепенного количественного накопления может перерасти в качественно новое – в сильное положение, и тогда одна фонема расщепляется на две, каждая из которых взаимно все более отталкивается от другой. Другие фонемы, наоборот, сближаются и нередко в дальнейшем совершенно объединяются в одну фонему позднейшей эпохи»[169]169
Аванесов Р. Л. Из истории русского вокализма // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1970. С. 278–279.
[Закрыть].
Описывая этот процесс конвергенции, в котором архаическое постепенно исчезает в современном, Аванесов сосредотачивается на неком промежуточном этапе неразличения, когда ученый-фонетист утрачивает внятное основание для оценки статуса звуков: «Чтобы доказать наличие твердых и мягких согласных как отдельных фонем, нужно доказать зависимость качества гласных от качества предшествующих согласных. Но возможна и другая точка зрения – что здесь разные гласные фонемы, от которых зависит твердость или мягкость предшествующих согласных. Решить этот вопрос можно лишь путем изолирования друг от друга согласных и последующих гласных. Однако сделать это, как уже отмечалось выше, нельзя. Поэтому вопрос о том, что перед нами – разные согласные фонемы при тожественности последующих гласных или разные гласные фонемы при тожественности предыдущих согласных – остается открытым. При этом вопрос остается открытым не вследствие несовершенства наших знаний или нашего метода, а вследствие того, что в самой системе языка он не дифференцирован. <…> Ввиду невозможности изолирования можно считать, что в качестве различителей значения выступают нерасчлененно сочетания согласной с последующей гласной, т. е. слог в целом.
Можно сказать, что эта промежуточная эпоха силлабем, эпоха „междуцарствия“, следующая за эпохой, когда в основном мягкость или твердость согласных зависела от гласных, но предшествующая эпохе, когда мягкость или твердость согласных стала независимой»[170]170
Там же. С. 287–288.
[Закрыть]. На этой стадии твердость и мягкость согласных может зависеть от гласных, а может, наоборот, выделяться как нечто самостоятельное, детерминирующее качество гласных. Приобретение независимости от гласных Аванесов связывал с «падением редуцированных», то есть именно таких неопределенных гласных: «Падение редуцированных явилось тем процессом, который „переполнил чашу“. В результате этого процесса совершился скачок, количество перешло в качество: твердость или мягкость согласных полностью превратилась в качество самостоятельное, позиционно не обусловленное. Падение редуцированных привело к возможности изолировать твердость и мягкость согласных от качества следующей гласной, так как именно после осуществления этого процесса появились твердые и мягкие согласные на конце слова (стол, стол’), а также некоторые твердые и мягкие согласные перед некоторыми согласными (варка, вар’ка). Твердость и мягкость согласных полностью освободилась от позиционных условий и стала фонемообразующей категорией»[171]171
Аванесов Р. Л. Из истории русского вокализма. С. 289.
[Закрыть].
Весь этот процесс сродни мифическому вызреванию некоего системного логоса из первоначальной неразличимости, которая маскируется в полярность. В архаический период уже как будто существуют отчетливо различимые фонемы «Ы» и «И», но эта первичная дифференцированность исчезает. Вслед за архаической мнимой ясностью наступает период хаоса. Вот как описывает этот процесс Аванесов: «Фонетические процессы, изменения физиологического порядка вносят „беспорядок“, „хаос“ в систему фонем. Постепенно подрывают ее также заимствованные слова, разного рода аналогические образования, самое появление которых нередко свидетельствует о прекращении действия тех или иных фонетических процессов. Однако созидательная работа не прекращается ни на миг: проходит известное время – созидаются новые соотношения, рождается новый „порядок“, новая фонетическая система»[172]172
Там же. С. 279.
[Закрыть]. Отдельные фонемы «Ы» и «И» должны слиться воедино, перестать отчетливо различаться, для того чтобы окончательно оформилась скелетная система согласных, способных наконец достичь раздельности. Из акустического океана должны кристаллизоваться и превратиться в сушу отдельные волны.
Весь этот странный процесс, связанный с Ы, напоминает то, что я бы назвал «мифической индивидуацией», и, конечно, закономерно, что этот звук так плотно связывается в поэзии с темой мифической первичности, того, что Жильбер Симондон называл «доиндивидуальным» (une préindividualité). Мы имеем перед нами какое-то колебательное движение, в котором либо индивидуализируются фонемы «И» и «Ы», либо они утрачивают эту свою индивидуальность, в результате чего из первичной магмы возникают различимые согласные.
Отвлекаясь от лингвистики, напомню, что тему «индивидуации» в философию ввел Дунс Скот, написавший целый трактат «О принципе индивидуации». Дунс Скот исходил из того, что предшествующая философская традиция не в состоянии объяснить отношение общего и индивидуального. В 1277 году Тампье осудил утверждение, согласно которому «Бог не может знать частного. Если бы органы чувств не существовали, разум мог бы отличить человека от осла, но не Сократа от Платона»[173]173
Bréhier É. La philosophie du Moyen-Âge. Paris, 2000. P. 268.
[Закрыть]. Иными словами, разуму доступны только общие понятия, но не индивиды, под них подпадающие. Это связано с тем, что как только индивид возникает как некое единство, он начинает сопротивляться делению на части. Аристотелевская модель индивидуации формы материей, которая ей как бы сопротивляется, не решала этой проблемы. Дунс Скот впервые предложил решение, добавив к понятиям материи, формы и их комбинации четвертый «позитивный» элемент, который он назвал «этовость» – haecceitas. Он объяснял: «…необходимо, чтобы у „этого вот“ камня было некое внутренне присущее ему позитивное, благодаря которому, как некоему собственному основанию, ему противоречила бы делимость на субъектные части; и это позитивное будет тем, что называется самой по себе причиной индивидуации, и через индивидуацию я мыслю эту неделимость или невозможность делимости»[174]174
Блаженный Иоанн Дунс Скот. Избранное. М., 2001. С. 429. Пер. Г. Г. Майорова.
[Закрыть]. То единство, которое определялось индивидуацией, было добавленным и конкретным, «не единство неопределенное (как любой элемент внутри вида, о котором говорится, что он един по числу), но единство, означенное как „вот это“»[175]175
Там же. С. 431.
[Закрыть].
Симондон называет Дунса Скота в череде мыслителей, предшествовавших ему в попытках определить индивидуацию. Мне представляется, что в теории Симондона различимы следы этой «этовости», реальности, выходящей за рамки и доинди-видуального и всеобщего, реальности некой добавленной конкретности. Симондон говорит о том, что индивид несет в себе некий выход реальности за собственные пределы: «Индивид является не более чем самим собой, но существует он как нечто более высокое, чем он сам, так как он несет с собой более полную реальность, не исчерпанную индивидуацией, еще новую и оживленную возможностями. В силу этого индивид сознает свою связь с реальностью, дополняющей себя как индивидуированное существо; благодаря мифологической редукции можно превратить эту реальность в δαίμων, гения или душу. В ней тогда возникает второй индивид, удваивающий первого, наблюдающий за ним, способный ему противоречить и даже жить дольше, чем он, в качестве индивида. Можно даже в той же реальности, делая акцент на трансцендентном, обнаружить свидетельство о существовании духовного индивида, существующего вне самого индивида»[176]176
Simondon G. L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information. Grenoble, 2013. P. 296.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































