Текст книги "Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики"
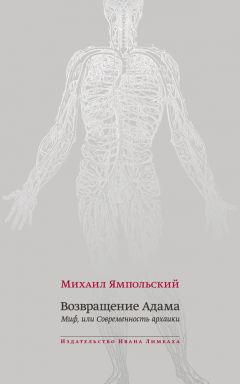
Автор книги: Михаил Ямпольский
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Симондон говорит о «мифологической редукции» (une réduction mythologique), которая вычленяет из избытка «реальности», производимой индивидуацией, из добавки дунсовской «этовости» некий туманный слой неопределенных двойников – демонов, гениев, духов. В сущности, избыточная реальность «haecceitas» на то и избыточна, что неиндивидуирована, но парадоксальным образом производит в себе вторичную мифическую индивидуацию. Мне кажется, процесс кристаллизации отношений и фонем, звукоразличительных «сущностей» по-своему производит странный миф первичности, который обозначает собой буква «Ы».
Варвар, скиф, первичный человек, Адам возникает тут как бы двойником индивидуирующихся звуков, способных нести смысл в речи.
12. Речь без языка
Сходные звуковые процессы постоянно обнаруживаются в тексте «Велимировой книги». Здесь движение звуковой стихии обретает автономию и отделяется от того интенционального смысла, который мы привыкли соотносить с письмом. В четвертой главке «Мыдым» появляются опричники – «песьеголовцы» в желтых кафтанах, отсылающих к знаменитой желтой кофте Маяковского[177]177
Гандельсман разъясняет: «Из воспоминаний Д. Бурлюка известно, что участников сборника „Садок судей“ А. М. Ремизов называл „песьеголовцами“, сравнивая их с опричниками Ивана Грозного, которые для устрашения носили за поясом головы мертвых собак. Черные кафтаны опричников в стихотворении стали желтыми в угоду футуристам» (ВК, с. 47).
[Закрыть]. Они похожи на свиту Хлебникова. И песьи головы – не просто смутные знаки степняков или опричников, но знак их животной немоты: «Речь не речь у нас, а ры´ чь она» (ВК, с. 10). Одновременно они провозвестники (ср. с хармсовскими и друскинскими «вестниками») нового мессии – второго Адама:
Мы посланцы Божьего воинства —
корни слов скрестить
и крестить их, уродцев, крестить,
чтобы вой стоял, вой на сто
вёрст по всей округе, чтобы вам отмстить,
лжу творящим отмстить!
К парфюмерному кровоядны
блуду, к грязной слизи книг,
истребительным помелом
выметем их и выведем, как пятна,
клéйма здравых смыслов! – Дик,
речетворцев стих снесёт вас, да и поделом!
(ВК, с. 10)
Логика текста тут перестает быть выражением логоса – рационального слова, но становится логикой самого движения языка. «Скрестить корни» почти автоматически превращается в «крестить». «Клéйма здравых смыслов» должны быть снесены. Кончается эта главка воскрешением, в котором опять возникает мотив «тьмы»:
Праздничная утреня – смотри, с распятия
Он сошёл – тоска Ему на небеси, —
чтоб возглавить наши тьмы и тьмы!
(ВК, с. 10)
В шестой главе «Мыдым», «Рождение многих из Хлебникова», уделено особое внимание этой отделенной от индивидуального разума работе языка. Язык тут описывается не как область божественного творения, а как бесовское начало. Бесовщина тут явно связана с освобождением от Божьей воли:
Рифмы автор палиндромной:
дым – а через строчку – мы.
Полубдящий-полудрёмный,
бес бездомный.
<…>
Взгляд вкалывается в порядок —
и ветхий мир идёт на слом.
Бес – ядок, адок.
Гремуч и на разломы падок.
(ВК, с. 12)
Рай понимается как исток, к которому ведет палиндромное переворачивание строки, обращение ее к «нулю». Именно в этом переворачивании «мы», «дым» и «тьмы» возникают как эхо друг друга. Но такое обращение вспять оказывается бесовщиной (как это часто бывает с инверсией и опрокидыванием верха вниз), потому что отменяет прогрессию логоса и движение мысли. В рай ведут отмены смЫсла, которые все время перекликаются с адом. Ядок (отсылка к дьяволу как райскому змию) и адок лежат в плоскости простых фонемных соскальзываний. Шестая глава «Мыдым» завершается такой игрой фонем:
айя айя
песня рая
яда яда
песня ада.
(ВК, с. 11)
Тут хорошо видно, как смысл складывается чистым соскальзыванием фонем: я-да-песн-я-а-да.
Ад в поэме – это двойник мифического рая. Обновление языка, возвращение вспять в языковую невинность оказывается в России одновременным с открывшимся для поэта постреволюционным адом, в который происходит стремительное соскальзывание. Речь идет о движении от рациональности к варварству, которое возникает в русской поэзии в образах монголов, скифов и т. д. Язык тут подобен истории, он вершит движение без всякого логоса и участия разума. В примечании к шестой главке «Мыдым» Гандельсман приводит ее продолжение, в котором возникает «ревком» – прямое порождение сочетания «рёв» и «ком», мгновенно перерастающего в «рывком» и «ад»:
Ревком
и – подать рукой
до яги с клюкой,
дабы с дыбы ум —
в ад рывком.
ды-ды-ды
бы-бы-бы
В горле – ком бед?
Где комбед?
(ВК, с. 48–49)
В такого рода текстах сообщается нечто о состоянии вещей, но это сообщение встроено в саму суть языка. Переход от рая к аду происходит не потому, что есть некая рациональная или логическая связь между одним и другим, требующая этого перехода. Переход обозначен самой речью, лишенной всякой субъективной интенциональности, например чередованием связанных друг с другом фонем «А» и «Я».
Когда-то это свойство языка выражать коммуникабельную сущность вещей привело молодого Вальтера Беньямина к утверждению, что язык есть сфера самовыражения мира, не нуждающаяся в говорящем: «…у языков нет глашатая (Sprecher der Sprachen), если понимать под ним того, кто посредством этих языков сообщает себя. Духовная сущность сообщает себя в языке, а не посредством языка; это означает, что снаружи она отличается от языковой сущности. Духовная сущность тождественна языковой лишь постольку, поскольку она сообщаема. То, о чем в духовной сущности можно сообщить, составляет ее языковую сущность. Таким образом, язык сообщает некую языковую сущность вещей, духовную же их сущность – лишь поскольку она непосредственно заключена в языковой, поскольку она сообщаема. Язык сообщает языковую сущность вещей. Но самое отчетливое явление этой сущности – сам язык. Поэтому ответ на вопрос: что сообщает язык? – гласит: всякий язык сообщает сам себя. Например, язык этой лампы сообщает не лампу (ибо духовная сущность лампы, поскольку эта сущность сообщаема, – отнюдь не сама лампа), а язык-лампу, лампу в сообщении, лампу в выражении. Ибо в языке обстоит так: языковая сущность вещей есть их язык»[178]178
Беньямин В. О языке вообще и о человеческом языке // Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М., 2012. С. 9. Переводчик не указан.
[Закрыть]. Но такой нечеловеческий язык свойственен любому животному, которое изначально выражает себя без всякого усвоения языковой системы. Немая рыба в этом смысле не нема, она способна выражать себя и понимать «язык» других рыб и животных. Сама проблема немоты возникает тогда, когда появляется язык в человеческом смысле, то есть не унаследованный, но требующий усвоения и научения. Джорджо Агамбен связывает детство именно с безъязыкостью в человеческом смысле слова, с незнанием искусственно сконструированных знаков, которым нам необходимо обучиться. Только у человека речь требует отдельного от нее знания языка как особой знаковой системы.
Эмиль Бенвенист говорил о двух «способах означивания», характерных для человеческого языка: «Язык сочетает два разных способа означивания, один из которых мы называем семиотическим, а другой – семантическим способом.
Семиотическим называется способ означивания, присущий языковому знаку и придающий ему статус целостной единицы. Для нужд анализа допустимо рассматривать две стороны знака по отдельности, но по отношению к процессу означивания знак всегда остается целостной единицей. Чтобы опознать знак, достаточно решить вопрос о существовании, ответом на который будет либо „да“, либо „нет“…»[179]179
Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 87.
[Закрыть] Знак, взятый сам по себе, как замечал Бенвенист, всегда тождественен себе и отличен от другого, но главное, «он существует в том случае, если опознается как означивающее всей совокупностью членов данного языкового коллектива и если у каждого вызывает в общем одинаковые ассоциации и одинаковые противопоставления»[180]180
Там же. С. 88.
[Закрыть]. Иными словами, он должен разделяться языковым коллективом, быть частью его коллективной памяти. Второй способ, о котором говорит Бенвенист, – семантический, он производится процессом речи: «Сообщение не сводится к простой последовательности единиц, которые допускали бы идентификацию каждая в отдельности; смысл не появляется в результате сложения знаков, а как раз наоборот, смысл („речевое намерение“) реализуется как целое и разделяется на отдельные „знаки“, какими являются слова. Кроме того, семантическое означивание основано на всех референтных связях, в то время как означивание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой референции»[181]181
Там же.
[Закрыть].
Бенвенист говорит о том, что эти два способа означивания отсылают к разным операциям: «Семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято. Различие между узнаванием и пониманием связано с двумя отдельными свойствами разума: способностью воспринимать тождество предыдущего и настоящего, с одной стороны, и способностью воспринимать значение какого-либо нового высказывания, с другой. <…> Итак, язык – это единственная система, где означивание протекает в двух разных измерениях»[182]182
Там же. Узнавание и понимание – две стороны овладения языком. Исследования показали, что научения языку у младенца происходит благодаря постепенному научению (к девяти месяцам) выделять из звукового потока звуковые блоки, которые встречаются в речи чаще других. Распределение ударений в слогах помогает опознанию смысловых единиц, которые постепенно обретают способность быть понятыми (Falk D. Finding our Tongues: Mothers, Infants, and the Origins of Language. New York, 2009. P. 78–79.).
[Закрыть].
При узнавании происходит опознание знака, утверждается его идентичность. Опознание в принципе не ведет к новому. Зато понимание не опирается на предсуществующую систему усвоенных знаков, оно укоренено в множественности референтных связей, которые совершенно неактуальны для семиотики. Поэзия мифа находится к неком неопределенном пространстве между семиотикой и царством самотождественного знака и семантическим миром целостности, которой не предшествуют значимые единицы, но которые начинают из этой целостности вычленяться. «Комбед» и «ком бед» – оказываются продуктами такого членения целого, независимыми от семиотики знака. То же относится и к таким членениями, как «дабы с дыбы ум». В семантическом означивании речевая слитность сохраняет свой смысловой потенциал. В поэзии, в отличие от прозы, это измерение, по-видимому, доминирует. Шкловский, анализируя заумный язык (в том числе у футристов), говорит о том, что в этом языке «звуки хотят быть речью»[183]183
Шкловский В. Гамбургский счет. С. 57.
[Закрыть]. Это желание звуковой нечленораздельности значить приводило мистических сектантов, занимавшихся глоссолалией, к убежденности, что они говорят на неведомых языках.
Человек, в отличие от рыб или других животных, устроен так, что он всегда существует в режиме бенвенистовской двойственности. Агамбен назвал детство (как особый период опыта в рамках становления языка) «трансцендентальным опытом различия между языком и речью, который открывает пространство истории»[184]184
Agamben G. Infancy and History. The Destruction of Experience. London-New York, 1993. P. 52.
[Закрыть]. Семиотика и система знаков предполагают научение знакам, то есть истории их складывания и передачи из поколения в поколение. Через язык человек открывается истории[185]185
Ср. у Хайдеггера: «Лишь там, где есть язык, есть и мир, то есть: постоянно изменчивая в превращениях сфера решений и труда, деянья и ответственности, но также и произвола и шума, распада и хаоса. Лишь там, где господствует мир, есть история. Язык есть благо в некоем изначальнейшем смысле. Он прекрасно для этого подходит, то есть он ручается, что человек может существовать в качестве <существа> исторического» (Хайдеггер М. О поэтах и поэзии. С. 12).
[Закрыть]. Семантика неисторична и позволяет проживать настоящее: «Чистый язык сам по себе не историчен, и природа совершенно не нуждается в истории.
Представьте себе человека, который родился со знанием языка и который уже умеет говорить. Для такого человека без детства язык не был бы чем-то предсуществующим, нуждающимся в усвоении, для него бы не было никакого разрыва между языком и речью и никакой историчности языка»[186]186
Agamben G. Infancy and History. P. 52.
[Закрыть].
То мифическое состояние языка, которое мы обнаруживаем у Хлебникова и в «Велимировой книге», – это именно адамическая первичность, где знаки вычленяются из целостности для того, чтобы войти в историю (ревком, комбед). Это такое состояние, в котором происходит переход от природного, райского, к историческому – аду.
13. Беспомощность Я
Этот переход – изгнание из рая в мир истории – совершается, по мнению Агамбена, тогда, когда «для того, чтобы говорить, [говорящий] должен превратить себя в субъект языка и сказать Я»[187]187
Ibid.
[Закрыть]. Бенвенист, размышляя о статусе местоимений, заметил, что они свойственны всем языкам и что в них, вероятно, заключена сама «проблема языка вообще».
Местоимения, по его наблюдению, «не составляют единого класса, а образуют различные роды и виды в зависимости от того модуса существования языка, знаками которого они являются»[188]188
Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 285.
[Закрыть]. В каком-то смысле они являются неповторимыми языковыми актами, «посредством которых говорящий актуализирует язык в речь»[189]189
Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 285.
[Закрыть]. То есть их можно причислить к категории операторов, соединяющих две несоединимые и даже принципиально несводимые друг к другу стихии – семиотическую и семантическую.
Я выпадает из регистра языка, так как не имеет референции в объектном мире. Реальность, связанная с Я и Ты, – «это исключительно „реальность речи“, вещь очень своеобразная. „Я“ может быть определено только в терминах „производства речи“ („locution“), а не в терминах объектов, как определяется именной знак. „Я“ значит „человек, который производит данный речевой акт, содержащий «я»“»[190]190
Там же. С. 286.
[Закрыть]. С таким Я или Ты тесно связаны наречия «здесь» и «теперь», отсылающие к единичности самого момента и жеста производства высказывания. Я позволяет переводить коллективное и историческое достояние языка в единичность сингулярного акта высказывания. И в этом смысле оно действительно оказывается оператором невозможного соединения семиотического и семантического. «Роль этих знаков заключается в том, что они служат инструментом для процесса, который можно назвать обращением языка в речь. Идентифицируя себя как единственное лицо, произносящее „я“, каждый из говорящих поочередно становится „субъектом“. Употребление таких слов, следовательно, обусловлено только ситуацией речи и ничем другим. Если бы каждый говорящий располагал для выражения своей неповторимой субъективности особым „опознавателем“ (как каждый радиопередатчик имеет свои особые позывные), языков оказалось бы столько же, сколько людей, языковое общение стало бы совершенно невозможным. Язык устраняет эту опасность, создавая единый, но мобильный знак «я», который может быть взят для себя каждым говорящим при условии, что этим «я» он будет отсылать каждый раз только к данному моменту своей собственной речи. Этот знак, таким образом, связан с языком в процессе его использования и утверждает говорящего именно как говорящего. Это свойство и лежит в основе индивидуальной речи, когда каждый говорящий как бы берет весь язык для личного пользования»[191]191
Там же. С. 287–288.
[Закрыть].
В работе «О субъективности в языке» Бенвенист развивает эти положения. Он показывает, что именно язык благодаря своему уникальному устройству позволяет говорящему конституировать себя в качестве субъекта и обрести «Ego»[192]192
«Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть, – понятию „Ego“ – „мое Я“» (Там же. С. 293).
[Закрыть]. Но сама способность быть Я предполагает необходимость отличать себя от Ты, наличие которого обусловливает возникновение субъектности: «Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на „я“ в своей речи. В силу этого «я» конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему „я“, становится моим эхо, которому я говорю „ты“ и которое мне говорит „ты“.
Полярность лиц – вот в чем состоит в языке основное условие, по отношению к которому сам процесс коммуникации, служивший нам отправной точкой, есть всего лишь прагматическое следствие. Полярность эта к тому же весьма своеобразна, она представляет собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она не означает ни равенства, ни симметрии: „ego“ занимает всегда трансцендентное положение по отношению к „ты“… <…> Налицо двойственная сущность, которую неправомерно и ошибочно сводить к одному изначальному термину, считать ли этим единственным термином „я“, долженствующее будто бы утвердиться сначала в своем собственном сознании, чтобы затем открыться сознанию „ближнего“; или же считать таким единственным изначальным термином общество, которое как целое будто бы существует до индивида, из которого индивид выделяется лишь по мере осознания самого себя. Именно в реальности диалектического единства, объединяющего оба тepмина и определяющего иx во взаимном отношении, и кроется языковое основание субъективности»[193]193
Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 294.
[Закрыть].
Показательно, что в «Велимировой книге» с самых первых строк возникает Велимирово Я и тут же ставится под сомнение.
Я врождён этой почве…
(ВК, с. 5)
Это хладность расчётов моя.
Я, я, я.
Я
Я
Я…
(ВК, с. 5)
Я Нарцисс,
я лежу на оси абсцисс
лицом к нулю,
засмотревшись в его озерцо —
кто я? Единица ли?
(ВК, с. 6)
У Гандельсмана возникает и мотив удвоения, как будто необходимый для становления субъектности. Но это удвоение Нарцисса (или Нарцысса), в котором нет места для Ты (правда, буква «Ы» из ты проникает в этом имя). Я постоянно сползает в нерасчленимое Мы и «тьмы», в безликий «мыдым». Поиск Ты всегда упирается в полное овеществление Ты в теле, лишенном всякой субъектности, отсюда неоднократно возникающий мотив людоедства, когда Я и Ты практически нераздельны, и звериное, несформировавшееся Я поглощает Ты, как кусок мяса, или разрывает его на куски и топчет.
В главе «Война» эта невозможность Я проявлена особенно отчетливо:
«Мне оторвало голову, / она лежит в грязи. / Кто за неё отмстит? / О, липкие стези! О, мстихи, о, мутит, / о, бесполого. / Мылься, мысль, петлёй, / вошью вышейся или тлейся тлёй» (ВК, с. 14).
Я втопчу лицо твоё в грязь
и взобью два глаза: желтки и белки,
а расхрусты челюстей под каблуком
отзовутся радостью в моём животе.
Руки, вырванные с мясом
шерстикрылым богом Марсом,
руки по полю пошли,
руки, вырванные с мясом
шестирылым богом Марсом,
потрясают кулаками:
не шали!
Ноги ходят каблуками,
сухожилия клоками
трепыхаются в пыли,
ноги месят каблуками
пищеводы с языками,
а в евстахиевы трубы
вбито «Пли!»
(ВК, с. 15–16)
Язык тут становится частью пищеварительного тракта, вырван вместе с пищеводом… Все тело превращается в жгут неразделимых органов.
Развяжитесь, лимфатические узлы,
провисай, гирлянда толстой кишки,
нерв блуждающий, блуждай, до золы
прогорайте рваной плоти мешки.
(ВК, с. 16)
И в этой физиологической жути, в которой пугающая телесность Ты не позволяет состояться субъектности Я, Я постоянно появляется, вырывается наружу, но без всякой надежды связаться с моментом высказывания и стать субъектом: «Я Арес. Гром. Яд, яд, дядя. Морг, сера я!» (ВК, с. 15). Я все время включено в звуковую канву текста и все время мерцает между А и Я в режиме постоянного соскальзывания, не получая опоры. «Звуки хотят быть речью» (Шкловский), но язык в ней не присваивается субъектом высказывания, а связь между семиотическим и семантическим, общим и сингулярным моментом не кристаллизуется.
14. Субъект до речи. Арто
Произведение искусства, и в том числе поэзии, тесно связано с выражением того единичного и неповторимого, что создается вместе с явлением субъекта (и сопровождающих его «здесь» и «теперь») в тексте. В этом смысле субъект – точка схода и концентрации, которая позволяет свести коллективное историческое образование языка к моменту речи.
В этом контексте особый интерес приобретают случаи, сопротивляющиеся сборке субъекта в локус. Для теории такого сопротивления большое значение имеет психоанализ, в сущности не признающий единства субъекта как некой унитарной субстанции. В искусстве же примером такого сопротивления стал Антонен Арто, в последние годы, правда, утративший свой былое значение.
Напомню, что основополагающим документом в подходе к субъектности Арто является его переписка с Жаком Ривьером 1923–1924 годов. Арто послал Ривьеру, работавшему в этом время в «La Nouvelle Revue Française», подборку своих стихов, которые Ривьер отказался опубликовать. В последующей переписке Арто объяснил своему корреспонденту, что его стихи не претендуют на формальное совершенство, но являются для него документами некой «ужасающей болезни сознания», которой он страдал. Речь шла о постоянной фрагментации сознания, неспособного сосредоточиться на мысли, вещи или некой форме. Он также пояснил, что посланные им тексты – не более как наброски, «которые я был способен спасти из небытия», и сообщает о поразившей его «разделенности элементов мысли»[194]194
Artaud A. Selected Writings / Ed. by Susan Sontag. New York, 1976. P. 35. Отказ Ривьера печатать стихи и проявленный им интерес к письмам Арто, как замечает Рональд Хейман, ускорили процесс, превративший жизнь Арто в более значимый художественный продукт, чем само его творчество: «…его жизнь сама стала в большей степени подобна произведению искусства или мифу» (Hayman R. Artaud and After. Oxford, 1977. P. 10).
[Закрыть].
Арто заявляет о себе как о человеке, который не может собрать свою субъектность в точку присутствия[195]195
Арто в «Нервометре» настойчиво говорит о «точке», вокруг которой следует собраться и собрать мир. Но она едва ли достижима: «Трудность в том, чтобы отыскать свое место и обрести сообщение с самим собой. Все дело в том, что вещи некоторым образом выпадают хлопьями, в том, что все эти умственные самоцветы сосредоточиваются вокруг некоей точки, которую как раз таки и нужно найти. <…> И имеется фосфоресцирующая точка, в которой обретается вся реальность, но измененной, превращенной – чем же? – точка магического пользования вещами» (Арто А. Нервометр // Locus Solus. Антология литературного авангарда XX века в переводах Виктора Лапицкого. СПб., 2000. С. 74).
[Закрыть]. Парадоксальность ситуации заключается в его неослабевающем желании выразить именно неспособность мыслить, неспособность быть субъектом. Вместо собирания и концентрации в точке присутствия у Арто разворачивается совершенно иная и парадоксальная концентрация на зиянии, лакуне, отсутствии. Морис Бланшо говорит о «мучительной необходимости, постепенно заставляющей Арто, простившись с любыми иллюзиями, сосредоточиться на одной точке: «Точке небытия, опустошенности», вокруг которой он плутает сначала с какой-то желчной ясностью человека себе на уме, а потом – изводимого мукой <…> „До чего же я хочу сдвинуться с точки небытия, точки опустошенности. Это топтание на месте изматывает, делает меня ничтожней всех и вся. Мне отказано в жизни, отказано в жизни! Вся эта буря у меня внутри совершенно мертва… Я так и не дохожу до мысли. Вы только почувствуйте эту брешь, эту плотную, неподатливую пустоту… Я не в силах сделать ни шага – ни вперед, ни назад. Я приморожен, пригвожден к одной и той же точке, о которой и говорю во всех своих книгах“»[196]196
Бланшо М. Арто // Иностранная литература. 1997. № 4. Пер. В. Лапицкого; см.: https://magazines.gorky.media/inostran/ 1997/4/arto.html
[Закрыть].
Бланшо поясняет, что подлинная мысль «равносильна невозможности больше мыслить – „неспособности“, как он выражается, составляющей суть мысли»[197]197
Там же.
[Закрыть]. Но я бы сказал, что речь идет скорее о причудливом статусе субъектности, который обнаруживается в Арто. Речь идет о субъекте, который не может найти точки Я, позволяющей конвертировать язык в речь. Вместо унитарного Я это место заполнено пустотой. Вместо бытия текста обнаруживается небытие. Язык оказывается призванным выразить только невозможность речи. Он приводит такие слова Арто: «Я всю жизнь писал, чтобы сказать: я никогда и ничего не делал, не мог ничего делать, и, даже что-то делая, по сути не делал ничего. Все мной написанное построено на этом небытии и ни на чем больше…» И далее Бланшо добавляет: «Здравомыслящие тут же спросят: но если тебе нечего сказать, то, может быть, ничего и не говорить? Однако ограничиться тем, чтобы ничего не говорить, можно, только если за этим „ничто“ нет почти ничего, но только – почти. А здесь, насколько можно понять, речь идет о небытии предельном, и оно самой безмерностью, о которой дает догадаться, самой опасностью, перед которой ставит лицом к лицу, и самим напряжением, которое не слабеет ни на секунду, требует, если хочешь от него освободиться, таких изначальных слов, что всем другим, то или иное говорящим, с ними явно не по пути»[198]198
Там же.
[Закрыть]. Любопытно, что адекватным выражением этой точки абсолютного зияния Бланшо считает некое особое «изначальное слово», недоступное «всем другим».
Речь парадоксально идет о предельной концентрации небытия, как если бы пустота могла быть сверхконцентрированной. Но что такое «изначальное» райское слово, о котором писал Бланшо? Это слово, преодолевающее фрагментацию, разделение на означающее и означаемое, и при этом не позволяющее мысли собраться воедино. Когда Арто говорит, что ему «отказано в жизни», он отсылает к этому языковому удвоению, расслоению, которое делает немыслимым единство мысли и жизни.
В 1925 году Арто провозглашает таким «изначальным словом» неартикулированный крик, устраняющий различие между телом и языком. В тексте под названием «Ситуация плоти» он пишет: «…неописуемые силы меня осаждают, наступит день, когда мой разум будет вынужден принять их, настанет день, когда они заменят более высокую мысль, силы, которые со стороны имеют форму крика. <…> Это то, что я понимаю под плотью. Я не отделяю мою плоть от моей жизни. С каждой вибрацией языка я прохожу все пути моей мысли в моей плоти»[199]199
Artaud A. Selected Writings. P. 110.
[Закрыть].
Отсюда постоянная критика слова и языка, в том числе поэтического, который всегда кажется Арто пустым, отделенным от жизни. Он пишет о необходимости «заменить обычный разговорный язык качественно иным языком, равноценным языку слов по своим выразительным способностям, но истоки которого были бы глубже, чем истоки мысли»[200]200
Арто А. Театр и его двойник. СПб., 2000. С. 201. В процитированном письме Жану Полану от 28 сентября 1932 года Арто пишет: «…слова не хотят выговаривать всего <…> по своей природе и своему характеру, установившемуся раз и навсегда, они останавливаются и парализуют мысль, лишая ее возможности развития» (Там же).
[Закрыть]. Важным при выработке этого «изначального языка» оказывается отказ от символических абстракций знака, таких как «пространство» и «время» и погружение языка в конкретность протяженности и длительности, «поскольку мы находимся в конкретном и протяженном мире. Итак, этот язык способен сжимать и использовать протяженность, то есть пространство, и, используя его, заставлять его говорить; я беру протяженные предметы и вещи в качестве образов и слов, я соединяю их и привожу к соответствию по законам символизма и живых аналогий, вечным законам любой поэзии и любого жизнеспособного языка»[201]201
Там же. С. 201–202.
[Закрыть]. В результате слово обретет материальную связь с телесностью, означающее в нем больше не будет отделено от означаемого: «Слово предстанет как необходимость, как результат последовательных сдавливаний, ударов, сценических маневров и столкновений»[202]202
Там же. С. 202.
[Закрыть].
Жиль Делёз сравнил язык Арто (в котором он видел проявление шизофрении) с языковыми экспериментами Льюиса Кэрролла (однажды попытавшегося перевести на французский «Бармаглота» – «Jabberwocky» – из «Алисы»). Язык Кэрролла – это, по мнению Делёза, язык чистых поверхностей, восходящий к стоикам. Арто же, довольно презрительно отзывавший о Кэрролле именно за его «поверхностность», описывается как создатель языка телесных глубин, в которых звук должен соединиться с телом, проникнуть в него. Вот как описывает Делёз обретение Арто языковой изначальности, преодоление расщепления семиотики и семантики (в терминах Бенвениста): «Любое слово физично и немедленно воздействует на тело. Процедура состоит в следующем: слово – часто пищеварительной природы – проявляется в заглавных буквах, напечатанных как в коллаже, который его обездвиживает и освобождает от смысла; но в тот момент, когда пришпиленное слово лишается своего смысла, оно раскалывается на куски, разлагается на слоги, буквы и, более того, на согласные, непосредственно воздействующие на тело, проникая в последнее и травмируя его. Мы наблюдали это в случае с шизофреником, изучающим языки: в тот момент, когда материнский язык лишается своего смысла, его фонетические элементы становятся сингулярно ранящими. Слово больше не выражает атрибута состояния вещей, его фрагменты сливаются с невыносимо звучащими качествами, они внедряются в тело, где формируют смесь и новое состояние вещей так, как если бы они сами были громогласной, ядовитой пищей или упакованными экскрементами. Части тела, его органы определяются в зависимости от разложенных элементов, аффектирующих и атакующих их. В муках такой борьбы эффект языка заменяется чистым языком-аффектом…»[203]203
Делёз Ж. Логика смысла. М., 2011. С. 119. Пер. Я. И. Свирского.
[Закрыть]
Слово становится неким пищеварительным элементом (часто экскрементом), который вызывает невыносимые телесные муки. Муки эти связаны с фрагментацией. А фрагментация – это всегда продукт семиотизации, разделения знака. Победа над этим ранящим словом «может быть достигнута теперь только благодаря введению слов-дыханий, слов-спазмов, где все буквенные, слоговые и фонетические значимости замещаются значимостями исключительно тоническими, которые нельзя записать и которым соответствует великолепное тело как новое измерение шизофренического тела, – организм без частей, работающий всецело на вдувании, дыхании, испарении и перетеканиях…»[204]204
Там же. С. 120.
[Закрыть] Это и есть исток знаменитого «тела без органов», возникающего в «Анти-Эдипе».
Вокализация слова в крике важна для Арто потому, что именно в нем слово и предстает «как результат последовательных сдавливаний, ударов». Арто писал о том, что театр должен основываться на дыхании, которое оказывается физической стихией нового языка. Он говорил о «законе» нового языка: «…единственный закон – это поэтическая энергия, которая движется от сдавленной тишины к зачатку спазма, от отдельного слова на mezzo voce до тяжело ширящейся бури медленно нарастающего хора»[205]205
Арто А. Театр и его двойник. С. 203.
[Закрыть].
Сильвер Лотренже взял интервью у доктора Жака Латремольера, который был психиатром, лечившим Арто в психиатрическом учреждении в Родезе. Латремольер выразил удивление интересом исследователей к Арто, которому, по его мнению, «нечего было сказать»[206]206
Lotringer S. Mad Like Artaud. Minneapolis, 2015. P. 67.
[Закрыть], и вспоминал о бесконечных, иногда многочасовых криках Арто[207]207
«Я видел, как он кричал, я слышал, как он кричал. <…> Эти крики за занавесом, чудовищная суета, которую он устроил в Париже. Там он тоже орал. Он потерял бумаги и начал орать» (Ibid. P. 68). «Он орал, – все его творчество – это в основном крик. <…> Когда он оказывался с друзьями в кафе, он начинал орать во всю силу дыхания. Орать бессмыслицу» (Ibid. P. 98). Латремольер был ассистентом доктора Гастона Фердьера, который подвергал Арто мучительному «лечению» электрошоками (эта терапия была придумана за пять лет до этого Уго Керлетти, экспериментировавшим на свиньях). После некоторых электрошоков в области черепа Арто впадал в кому до полутора часов и, по его признанию, испытал состояние смерти. Любопытно, что Фердьер был глубоко убежден в том, что до применения электрошоков Арто был совершенно не способен писать (Barber S. The Screaming Body. N. p., 1999. P. 42–45).
[Закрыть].
Эти длительность, протяженность, сдавленность, интенсивность – направлены целиком против семиотической природы языка. Соссюр спрашивал, каким образом нерасчленимая акустическая материя членится и превращается в сегменты, обретающие смысл. Арто стремится восстановить бесконечное разворачивание звуковой материи, уничтожающей членения и, соответственно, смысл. Речь идет о погружении в поток времени, предшествующий речи. Юлия Кристева когда-то назвала языковую практику Арто «языком исторжения» (language du rejet). Исторжение протекает в длительности и имеет отношение к кантовскому субъекту, проживающему во времени. Субъект речи – Я – не имеет длительности, он корпускулярен и атомичен. Он связан с членением в момент высказывания.
Кристева назвала такой субъект, связанный с «временем разрушения» и, соответственно, уничтожения субъектного единства, – «субъектом в процессе» (le sujet en procès), не собирающимся в некое единство и определяющимся зиянием, пустотой (о которых Лакан говорил, что они конституируют субъект). Кристева утверждала, что «унитарный субъект» (аналогичный точке «Я – здесь и теперь» Бенвениста) – это относительно поздний социальный конструкт, идентифицируемый с Единичным и Именем отца, включенным в иерархию отношений с сыновьями и дочерьми, то есть собственно в конструкцию общества, отражаемую в языке. Но эта «символическая функция» возникает в результате первичного членения на сознание и бессознательное, а следовательно, и в результате первичного вытеснения бессознательного, описанного Фрейдом.
Но само формирование унитарного субъекта, необходимого для речи, предполагает предшествование ему некоего зияния, разжижения форм, процесс. Этот предшествующий речевому Я субъект и есть «субъект в процессе», к которому возвращает нас тянущийся во времени крик Арто. Кристева предполагает, что точке Я следует предпослать «подвижное место-вместилище процесса» (le lieu mobile-réceptacle du procès)[208]208
Kristeva J. Polylogue. Paris, 1977. P. 57.
[Закрыть], которое она называет вслед за платоновским «Тимеем» «хорой»[209]209
«Такого рода хора – это семиотическая невербальная артикуляция процесса – музыка, архитектура – лучшие ее метафоры, нежели лингвистические грамматические категории, которые она перераспределяет. Она – логика „конкретных операций“, „подвижности“ (о которой говорит Арто), проходящих через практическое тело в социальном пространстве (трансформация объектов, отношений с родителями и социального целого)» (Ibid. P. 69).
[Закрыть]. Такой субъект должен вобрать в себя, по мысли Кристевой, желание, конституирующее психоаналитический субъект и гегелевскую негативность. Эта негативность уже присутствует в первичном фрейдовском членении субъекта на составляющие его инстанции, а сам «субъект в процессе» функционирует через повторение этого разрыва, разреза недифференцированного протоединства, через «разделение»: «…он является множественностью ис-торжений (re-jets), которые бесконечно возобновляют его функционирование.
Исторжение исторгает несогласованность означающего и означаемого вплоть до изоляции субъекта как значащего субъекта, но оно уничтожает и все перегородки, за которыми субъект может спрятаться ради того, чтобы себя конституировать»[210]210
Kristeva J. Polylogue. P. 58. «Jet» часть слова re-jet – исторжение – обозначает струю, мощный выплеск. Жак Деррида найдет у Арто несколько случаев употребления слова «subjectile», в котором субъект оказывается соединенным с этим актом выбрасывания, исторжения, морфологически родственным слову «projectile» – снаряд. Это редкое слово было найдено Деррида в словарях, где оно обозначает грунт, лежащий под верхним слоем живописи и как бы обозначающий глубину под поверхностью, через поры которой он способен проступать (Derrida J. To Unsense the Subjectile // Derrida J., Thevenin P. The Secret Art of Antonin Artaud. Cambridge, Mass., 1998. P. 64).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































