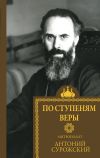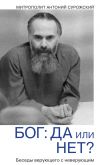Читать книгу "Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смысла"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Есть ли в выборе свобода?[9]9
Выступление митрополита Антония в Пушкинском клубе 22 марта 1968 года. Пушкинский дом – старейший независимый русский культурный центр в Лондоне. Основан в 1954 году на Ноттинг-Хилл группой русских эмигрантов под руководством М.М. Кульманн (Зерновой) как гостеприимное место встречи, знакомства с русской культурой во всех ее формах, обмена мнениями в свободной неформальной обстановке. Перевод с англ. Г. Гладышева под ред. А. Дик.
[Закрыть]
Как сказал когда-то Достоевский, говорить следует или о том, что знаешь, или о том, что любишь. И наверное, как и все люди, у которых нет дара давать свободу другим, я люблю свободу. И лишь по этой причине мне представляется, что я могу о ней говорить.
Сегодня, когда на эту тему сказано уже так много, когда наука продвинулась так далеко, часто может казаться, что о свободе вообще очень тяжело говорить. Много ли у нас этой свободы в действительности? Если просто обратиться к самым основам христианской веры – к утверждению, что мы являемся продуктом творения и движемся к суду над собой, что мы не создаем сами себя, что нас определяет и действие Бога, Который дает нам нашу природу, и сложное переплетение всего, что эту природу обогащает, искривляет, изменяет и обуславливает в течение жизни, – может показаться, что понятие свободы и вправду иллюзия в чистом виде. Действительно, мы призваны из небытия односторонним действием Бога. Мы есть, потому что мы приведены в бытие Его волей. В результате мы оказываемся обладателями человеческой природы, которую не выбирали, природы, которую, к счастью или к несчастью, унаследовали уже измененной, сформированной десятками и сотнями предыдущих поколений. И при этом мы не можем отказаться от того, что предлагает нам Бог. Нельзя просто сказать в какой-то момент: «Дальше без меня. Меня больше не существует». Из жизни, конечно, уйти можно, но нельзя прекратить быть. Даже если совершить самоубийство, это не отменяет нашего объективного физического присутствия и реальности. Но даже если бы можно было уйти от этой реальности и нашего физического присутствия, не говоря уже о вечной душе, мы никогда ни при каких обстоятельствах не смогли бы убежать от факта, что мы обладаем бытием. Так что мы пленники, как ни посмотри. Мы возникаем помимо какого-либо свободного действия с нашей стороны. Мы неизбежно движемся к жизни вечной. И все, что мы имеем, чтобы стать тем, чем мы станем, для нас заранее задано и предопределено.
Насекомое, попавшее в стакан, движется вперед, назад и по кругу, и, куда бы оно ни ползло, везде оно натыкается на стекло. И чтобы освободиться, насекомое может сделать лишь одно – взлететь вверх, преодолеть ограниченность этого стакана, обусловленность земным.
Правда, с точки зрения обретения свободы это сделать не так легко, как, должно быть, крылатому насекомому – взлететь.
* * *
Вполне можно усмотреть противоречие между свободой и предопределенностью, причем предопределенность – нечто очевидное, а свобода – отнюдь нет. И если признать, что свобода все же существует (об этом я скажу чуть позже), мы все равно сталкиваемся с проблемой – проблемой, которая требует решения и которая заставляет рассматривать свободу иначе, нежели с прямолинейной уверенностью в том, что было бы желание – а способ найдется, и что для того, чтобы быть свободным, достаточно просто этого хотеть.
Как говорил русский мыслитель XIX века Алексей Хомяков, Божия воля – это проклятие для бесов, закон для неискупленных и свобода для святых. Важно понимать, что во всех трех случаях речь идет об одной и той же Божественной воле. Для одних она может быть свободой, для других – вечным неизбежным пленом, для тех, кто посередине, – ограниченностью тварной природы.
Теперь давайте попробуем вместе немного поразмышлять о том, что такое свобода. Обычно мы определяем свободу через понятие выбора: мы не признаем наличия свободы там, где нет выбора между двумя или более возможностями. Мы привыкли к этой мысли и довольно редко осознаем, что такая свобода уже имеет изъян, что рассуждать о свободе с точки зрения выбора ошибочно, потому что любой выбор всегда предполагает выбор между жизнью и смертью, добром и злом, Богом и дьяволом. Речь может идти о большом или малом зле, о большом или не очень большом добре, но выбор всегда делается между плюсом и минусом. И хотя нам кажется, что способность делать выбор, не обусловленный внешними ограничениями и причинами, независимо, по собственной прихоти – это и есть свобода, но на самом деле такой выбор – уже проявление порабощения и испорченности нашей природы.
Дело в том, что если перестать рассуждать о добре и зле в целом (великие слова, которые не всегда связаны у нас с четкими образами) и вместо этого подумать о конкретных проявлениях добра и зла – например, о здоровье и болезни, – то разве не очевидно, что если, совершая выбор беспристрастно, спокойно, мы способны предпочесть болезнь так же свободно, как и здоровье, то это уже говорит о нашей глубокой поврежденности в силу некоего отсутствия целостности. Это очень четко показано в греческом переводе Библии, Септуагинте, – в седьмой главе Книги пророка Исаии, которая в православных храмах читается в канун Рождества. Там говорится о Господе Иисусе Христе как о Младенце, Который, прежде чем уразумеет доброе и худое, изберет доброе (см. Ис. 7: 14–17). Можно сказать, что в этом нет никакой свободы, потому что нет колебания и сомнения – но нет и беспристрастия. С другой стороны, можно сказать, что это единственная здравая ситуация, потому что здоровое нравственное устроение, как и здоровый организм, как и здоровое общество, не может беспристрастно выбирать между жизнью и смертью, между разрушением и созиданием, между цельностью и распадом. Оно устремляется к цельности, а не к распаду, к жизни, а не к смерти, к добру, а не ко злу, к Богу, а не к дьяволу.
Таким образом, понимание свободы как выбора, который не определен никаким внутренним законом, ничем не обусловлен, который равно правомерен и в одном, и в другом случае, не подходит для здорового нравственного или физического организма. Равнодушно выбирать между возможностью распада и возможностью жизни – это уже признак поврежденности.
И хотя на практике, в жизни наша свобода непрерывно выражается через совершение выбора, через приблизительные суждения, через состояние напряжения, которое возникает, когда нас привлекает одно, а зовет другое, – такое определение свободы все равно не может считаться достаточным. Конечно, мы прекрасно понимаем, что проводим жизнь в колебаниях. Господь призывает, дьявол соблазняет. И внутри нас есть те самые два закона, о которых апостол Павел говорит, что один из них воюет с другим. Но эта внутренняя брань, междоусобная война внутри нас – это уже состояние, в котором нет целостности, в котором нет гармонии.
Те, кто слышал меня раньше, наверное, знают, что у меня есть нездоровая страсть к семантике, к поиску значений вещей через понимание значений слов, которыми они обозначаются[10]10
Далее идет разбор митрополитом Антонием этимологии слов liberty, freedom и свобода — об этом подробно см. на с. 43–53.
[Закрыть]. […] Я не раз уже говорил о том, что в Древнем Риме свобода определялась не тем фактом, что человек родился свободным, а тем, что он был способен эту свободу защитить. Ребенок, рожденный в свободной семье, должен был получить образование свободного человека, которое призвано приучить его к такому господству, чтобы над ним не было господина, к такой власти, чтобы никто не смог отнять у него эту власть. А это предполагает трудное, суровое обучение науке господства над самим собой, которое является единственным способом достижения свободы. Так что с точки зрения ребенка, из которого предстоит сделать свободного человека, его жизнь в доме – одна из самых жестоких форм порабощения. Ему никогда не позволят лениться, проявлять слабость, поддаваться страсти и находиться под ее властью. Его будут учить господству, которое начинается с дисциплины и послушания. […] Этот способ обретения свободы крайне важен. Мы можем стать свободными только в том случае, если наша младенческая вольность готова уступить тому, что зрело, что благонамеренно, тому, кто для нас является образом. И если применить эту терминологию, которая очень ясно предстает на примере жизни раннего римского общества, к отношениям между человеком и Богом, то обнаружится нечто очень важное: Бог по отношению к нам действительно выступает как pater familias[11]11
Отец семейства (лат.).
[Закрыть]. И именно таким же образом, в идеале, Он олицетворяет не внешнюю власть, не силу, которая сокрушает нас с небес, а совершенный образ, предельный ad quern[12]12
Кому (лат.).
[Закрыть] – то, к чему мы движемся. Мы не призваны быть рабами и раболепно подчиняться Богу – мы призваны быть наученными Им, чтобы возрасти в ту свободу, которая сделает нас истинно, по-настоящему детьми Божьими.
Такие отношения, такое положение возможны, только если речь идет о чем-то большем, чем власть в современном смысле этого слова (как сила, которая подавляет или может определять нашу жизнь, наше положение и иногда наше существование против нашей воли, будь то воля добрая или злая), и только если это связано с любовью.
И через того, кому мы подчиняемся, кому мы уступаем и сдаемся – но именно потому, что мы любимы им и любим сами, пусть даже в нас эта любовь еще только зарождается, – мы должны в результате стать полностью, настолько совершенно, насколько это нам возможно, такими, какими мы можем быть. […]
Но понятие «быть собой» не предполагает противопоставления или сравнения. Еще меньше оно предполагает ситуацию выбора, беспристрастного выбора. Выражение «быть собой» означает нечто за пределами сравнения: мы являемся собой не просто потому, что мы отличаемся от других. После определенного этапа говорить об отличиях вообще бессмысленно. Согласно православному богословию, быть отличным от других – значит быть индивидом, быть собой – значит быть личностью. Я знаю, что сегодня слово «личность» подвергают сложному анализу.
Но я бы хотел просто объяснить, что оно значит.
Индивид, исходя из самого значения слова, – это последний предел дробления. Это то, что больше нельзя разделить, в том же смысле, в каком атом нельзя разделить пополам и далее. Говоря, что такой-то человек – индивид, мы просто утверждаем, что в этом сложном дроблении человечества, народов, рас, церквей и чего угодно эту единицу нельзя делить дальше, не потеряв ее цельности. Если попытаться поделить меня на более мелкие составляющие, то окончательным результатом будет труп и отделившаяся душа, но это буду уже не я – в каком сколько-нибудь приемлемом значении и земном смысле.
То есть «индивид» – это последний предел, дальше которого идти некуда. И поскольку индивид представляет собой результат дробления целого, он обладает характеристиками, присущими этому целому, – они лишь сгруппированы, соотнесены друг с другом таким образом, что индивид становится узнаваемым. Каждый из нас имеет размер, объем, цвет, особое звучание и так далее. Но это общие характеристики, которые не принадлежат лишь кому-то одному из нас. Кто-то наверняка говорит таким же голосом, как у меня, кто-то наверняка имеет поразительное внешнее сходство с кем-нибудь еще.
Личность – нечто гораздо более неуловимое. Она реальна, но ее нельзя просто «ухватить», определить через противопоставление или положение. В конечном счете личность – это то, что в каждом из нас уникально, неповторимо, что появляется на свет лишь однажды и отличается от других не потому, что ее характеристики сгруппированы иначе, чем у другой личности, но потому, что другой такой, как она, не существует.
Это можно пояснить, донести через образ из книги Откровение, где говорится, что каждый, кто принадлежит к Царству Божию, получит белый камень с написанным на нем именем, которого, как гласит Откровение, не знает никто, кроме Бога и того, кто получает камень. Это значит, что имя, написанное на нем, – не просто имя, по которому нас знают в обычной жизни (Джон, Питер или господин такой-то), не наши «прозвища», которые можно умножать до бесконечности, ничего этим не меняя. Имя, о котором идет речь в Откровении, – это имя, точно соответствующее всему, что мы есть, идентичное, если хотите, тому, что мы есть. И если вам будет угодно применить воображение, а не Писание как таковое, то вы
можете сказать, что это вполне может быть имя, которым Бог вызвал нас из радикального небытия, чтобы поместить в бытие. Как бы то ни было, это означает, что между этой личностью и Богом есть родство, уникальное и неповторимое, и не только лишь уникальное и неповторимое, но и непередаваемое. Я могу знать, кто я и что я, но никто другой не может этого знать, потому что если бы могли знать друг друга так, как мы познаны Богом, мы были бы идентичны друг другу. И в этом смысле прекратила бы существование не только наша уникальность – мы и сами перестали бы существовать.
С этой точки зрения «быть собой» в полном совершенном смысле не зачаточной возможности, но полностью вызревшей действительности – это и есть свобода. И если подумать об этих разных словах, которые я попытался разобрать, то можно увидеть, что, хотя на практике свобода может определяться как неуверенный, приблизительный выбор, в конечном счете свобода – это отношения между нами и Богом, наши отношения друг с другом, отношения, которые еще пока не являются свободой, но становятся свободными по мере нашего превращения в чад Божьих, превращения в возлюбленных и любящих ответно, превращения в нас самих, какими нас и замыслил и какими призвал стать Сам Бог.
Вы можете сказать, что в конечном счете такая свобода никуда не годится, потому что если вся свобода, которой я могу обладать, заключается в том, чтобы открыть, кем неотвратимо, без вариантов, неизбежно я должен стать и сказать: «вот это – я», то такая свобода может утешить, но не будет свободой в истинном смысле. Эта свобода и не была бы свободой в истинном смысле, если бы не произошло того события, которое решает стоящую перед нами задачу. А задачу эту могут решить истинные отношения сыновства и отцовства с Тем, Кто Своей волей привел нас в бытие и Кто хочет, чтобы мы были собой не только в тварном, ограниченном смысле, – Он призвал нас причаститься Божественной природе, призвал нас быть по причастию, благодаря причастию, тем, Кем является Единородный Сын Божий. И если мы видим наше призвание в том, чтобы стать по причастию тем, Кем является Бог, то конечная точка свободы – это такое вхождение в саму Божественную природу, что мы становимся свободными свободой Самого Бога.
Богословие красоты
Первая беседаНеосмотрительно соглашаясь провести беседу[13]13
Обе беседы состоялись 6 августа 1976 года в Христианском центре деловых встреч городка Хай-Ли (High Leigh ССТ conference centre). Перевод с англ. В. Ерохиной под ред. А. Дик.
[Закрыть] на тему богословия и красоты, я ошибочно полагал, будто у меня есть хотя бы несколько ясных мыслей по этому поводу. Но потом я попытался расширить свои познания, стал читать труды по теме, и теперь у меня в голове путаница, как бывает, когда сталкиваешься с новым материалом и не успеваешь его толком усвоить. Поэтому я попытаюсь поговорить с вами о богословии и красоте, но предупреждаю: вы будете разочарованы.
Многие из вас, наверное, читали книгу Павла Евдокимова, которая называется «Богословие красоты». Она посвящена иконам, и это не моя тема. Я бы хотел поговорить о двух понятиях, составляющих название этой книги, – богословии и красоте – и постараться соотнести их, но не в связи с иконами и даже не в связи с религиозным искусством. Прежде всего, рассуждая о богословии, можно рассматривать его либо как науку, либо как опыт, и, я думаю, в обоих случаях можно говорить о нем в связи с красотой. Если воспринимать богословие как науку – то есть в виде вероучительных формул, как оно выражено в богослужении, в литургическом искусстве, – в нем явно видны гармония, стройность и красота. В то же время Бог, о Котором мы говорим, тот мир, который возник благодаря Его акту творения, наше призвание к такой полноте, которая есть Царствие Божие, все это – видение красоты.
Если же оставить в стороне все выразительные средства (и богословские, и художественные): звук, очертания, цвет, – если предстать пред лицом Живого Бога в момент почитания, поклонения, молитвы, когда это почитание достигает такой глубины, какую можно обрести только лишь в созерцательном молчании, мы сталкиваемся с опытом, который описан пережившими его скорее с точки зрения красоты, нежели с точки зрения истины или иных понятий и категорий. Потому что мы слишком привыкли, говоря об истине, сводить ее к умственной формулировке, а говоря о других вещах, ограничивать их материальным или земным выражением. Если понимать богословие таким образом, его можно определить, по словам Григория Нисского, не как информацию о Боге, но как знание Бога, и в этом смысле Бог может являться для нас красотой, святостью, Самим Собой.
Итак, говоря о красоте, мы должны попытаться понять, что имеется в виду. Принимаясь за исследование письменных источников, я очень надеялся найти что-нибудь ценное в Британской энциклопедии. Я стал искать определение слова «красота» и обнаружил, что такой статьи в Британской энциклопедии нет. В силу природной любознательности и неотложной необходимости подготовиться к этой беседе я подумал, что если посмотрю слово «эстетика», то найду что-нибудь и о красоте. И в самом деле, я обнаружил, что прежние поколения считали эстетику теорией красоты или разделом философии, посвященным красоте, однако они глубоко ошибались, потому что эстетика не имеет отношения к красоте как к чисто субъективному понятию, которое нельзя ни определить, ни изучить. Далее из Британской энциклопедии можно с интересом и, вероятно, с пользой для себя почерпнуть много чего о других аспектах эстетики, только о красоте там нет ни слова. Эстетика связана с процессом художественного творчества, его социальными причинами, психологическим и психиатрическим воздействием на аудиторию и на автора и так далее. Но, как я уже сказал, красота не вписывается в эту картину, будучи явлением слишком субъективным.
Затем я обратился к другим источникам и подумал, что можно найти что-нибудь о красоте в трудах по психологии. Тогда я взял два хороших трактата на французском и немецком языках и обнаружил, что слово «красота» не упоминается и там, и это открытие поразило меня еще больше, чем отсутствие подобной статьи в Британской энциклопедии. Я полагал, что субъективный опыт вполне мог бы быть предметом исследования психологии. Осмелюсь утверждать, что психология, в моем довольно невежественном представлении, весьма часто занимается субъективным опытом.
Затем я подумал, что, может быть, мне поможет метафизика. У меня оказалась только одна хорошая книга по метафизике, это был немецкий трактат, и я был в какой-то мере вознагражден, встретив в нем целое примечание о красоте: примерно на полторы страницы таким мелким шрифтом, который почти невозможно прочитать.
Я вам все это рассказываю не для того, чтобы просто потянуть время или найти оправдание своему незнанию темы. Но разве это не примета нашего времени, что красоте не нашлось места в словаре толщиной чуть ли не полтора метра, в котором содержится огромное количество информации об огромном количестве вещей? Что ей не посвящено ни строчки в двух трудах по психологии и всего лишь одно примечание в немецкой книге по метафизике? Разве это не крайне любопытный факт и не результат того, что с течением столетий мы постепенно стали считать красоту не чем иным, как субъективным опытом, не имеющим никакого иного смысла? Чем-то чувственно воспринимаемым без какой бы то ни было объективной основы или критериев и, следовательно, неактуальным, чуть ли не аутистическим проявлением?
Такие аутистические проявления вполне могут быть широко распространенными. Все мы можем увлекаться подобными реакциями, и тем не менее авторам очень разных книг они представляются невыразимыми и бессмысленными. Но все же, повторюсь, это чрезвычайно распространенный опыт, и он играет важнейшую роль в жизни, поскольку многие наши суждения – это суждения о красоте не только в отношении видимых вещей, но и в отношении нравственной оценки. Мы говорим о красивых поступках и рассуждаем с позиции красоты или уродства о человеческих ценностях, которые имеют отношение не только к внешнему миру.
* * *
Пытаясь понять, что люди имеют в виду под красотой, мы, разумеется, обнаруживаем существенные различия в подходах. Например, я помню две работы Эдгара По, два эссе о красоте, в которых изложены его философия и его понимание. В обеих работах раскрывается одна общая уникальная мысль: нельзя назвать красивым то, что несопоставимо с мерой человека. Все, что слишком мало, вызывает у человека чувство сдавленности. Оно душит, давит, словно смирительная рубашка, и потому не может восприниматься как красота. Другая крайность, которая мне кажется гораздо более серьезной: все, что слишком велико или слишком масштабно, все, что заставляет человека столкнуться с чем-то большим, чем он сам, нельзя назвать красивым. Оно вызывает ощущение ужаса, трепета, собственной малости, уязвимости, опасности для себя и, следовательно, должно быть признано некрасивым. В своих двух работах По описывает два поместья, которые, с его точки зрения, воплощают подлинную красоту. Статьи довольно длинные, и поместья, о которых идет речь, показались мне весьма тесными и убогими, так что я не буду приводить их подробную планировку, однако принцип состоит в том, что если у дома есть аллея, она должна поворачивать и заканчиваться тупиком до того, как смотрящий на нее человек почувствует страх пространства. Если есть возвышенность, то она должна быть такова, чтобы контролировать ощущение высоты. Если открывается вид на окружающее пространство, то это пространство должно быть ограничено, чтобы не охватило ощущение беспредельности. Иными словами, чтобы ни на одно мгновение, ни при каких обстоятельствах не столкнуться с осознанием собственной малости по сравнению с чем-то, что слишком широко, слишком велико или слишком масштабно.
Для меня такая позиция – как раз таки отрицание роли и значения красоты не только в связи с Богом или богословием, но даже и в связи с человеческим измерением. Потому что если бы мы приняли подобный подход и могли каким-то образом создать для каждого из нас мир, который полностью удовлетворял бы таким требованиям – услаждал бы наш взор и не нарушал бы ощущения безопасности и границ, – это был бы чудовищный мир, из которого не было бы никакого выхода. Мы бы сделали все, чтобы никогда не столкнуться ни с величием, ни с чем-либо, что отличается от нас самих или ставит под угрозу наши безопасность и спокойствие.
Но, я уверен, всем нам знакомо – и я сейчас говорю совершенно субъективно – ощущение ликования и вдохновения от созерцания того, что пугает, что больше нас и именно потому вдохновляет. Один из примеров, который приводит Эдгар По, – травмирующий опыт наблюдения грозы: она страшна, и человек чувствует себя таким беспомощным… Но я уверен, что многие из нас видели в грозе красоту и испытывали ощущение величия мира, в котором мы живем, ощущение глубины, бескрайности и сложности космоса, силу природы – и сделали какой-то положительный вывод не только о собственной хрупкости, но и о принадлежности к такому огромному, таинственному и мощному миру. Все мы наверняка созерцали море, равнины, горы, небо, и все это в некотором смысле слишком велико для нас: мы не можем вместить их, мы не можем контролировать их, они безграничны и являют собой силу и мощь, которая превосходит нас. Не один ли это из способов встречи с красотой лицом к лицу, встречи, которая заставляет перерасти нашу ограниченность?
С другой стороны, называть красотой все, что приносит нам чувство удовлетворения, недостаточно. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что противоположность красоты – это не уродство. Наверное, всем нам встречались лица, которые объективно некрасивы и при этом приковывают к себе внимание – потому что в них есть смысл, значительность, содержание. Если бы нас спросили, красиво такое лицо или уродливо, мы бы ответили: «Это прекрасное лицо, оно являет собой смысл, и этот смысл привносит измерение красоты».
Антоним красоты – не уродство, а бессмыслица, так же как антоним истины – не ошибка, а ложь[14]14
Этот абзац – ответ митрополита Антония на вопрос, заданный в конце беседы.
[Закрыть]. Я думаю, здесь столь же разительное отличие. Если нам покажут нечто, в чем никто из нас не увидит никакого смысла, это не может быть названо красотой. Мы можем сказать: тут приятные цвета, гармоничные линии – и так и не прийти к тому, чтобы назвать это красивым. Однако я думаю, что с точки зрения истины приблизительную истину нельзя считать неверной. То есть не приблизительность и неполнота противостоят или противоречат истине, но утверждение, которое каким-либо образом ее отрицает. Мне кажется, у истины есть дополнительный оттенок нравственности, так же как оттенок истины есть в красоте.
* * *
Боюсь, у меня весьма скудные познания в английской литературе, но сейчас мне вспоминается стихотворение Шарля Бодлера «Падаль». Оно полностью оправдывает свое название. Поэт идет по дороге и набредает на труп собаки. К тому моменту она, вероятно, была мертва уже давно, потому что труп кишит червями, над ним вьется рой мух и так далее. Поэт описывает, что он видит, но в какой-то момент меняет тему и говорит: «Вот что случится с моей возлюбленной». Его описание чрезвычайно поражает своим реализмом и изобразительными средствами. Однако следующий уровень, на котором поэт сталкивает нас с человеческой проблемой, по сути с проблемой человеческой судьбы, превращает описание разложения и уничтожения в поэму о смыслах – и тогда в ней появляется красота.
В последнее время я довольно много читал о математике, и две статьи произвели на меня особенно сильное впечатление. В одной из них американский ученый по фамилии Харди [15]15
Годфри Харолд Харди (1877–1947) – английский математик, известный своими работами в теории чисел и математическом анализе. Помимо этих исследований Харди прославился благодаря очерку, посвященному эстетике в математике.
[Закрыть] объясняет свои занятия математикой и представляет апологию этой науки в целом. Автор другой статьи – русский математик, о котором некоторые из вас, вероятно, слышали, – Игорь Шафаревич[16]16
'"'"Игорь Шафаревич (1923–2017) – выдающийся советский и российский математик, русский мыслитель и общественный деятель.
[Закрыть]. Сейчас это один из самых мужественных людей в советской России, он член Академии наук, профессор математики, и при этом взял на себя заботу и труд бороться за права человека и, в частности, за права верующих в СССР. Недавно он произнес речь о том, что для него значит математика, и отметил, что говорить о красоте в этой науке можно только тогда, когда в математике есть смысл. Он видит проблему в следующем. В медицине, физике, химии и любой другой прикладной науке легко найти смысл, потому что они имеют практическое применение и потому что смысл работы ученого, теоретика или практика, заключается в том, чтобы сделать что-то на благо либо человечества, либо отдельного человека.
Математика, казалось бы, развивается бесцельно, без продуманного плана. Если ее достижения и оказываются применимы в физике, химии или астрономии, то это побочный продукт. Цель математики не состоит в разработке математических инструментов или механизмов, или категорий мышления, или подходов к применению в других науках. Математика занимается поиском того, что истинно, что может иметь или не иметь прикладного характера, но обладать ценностью, заключающейся в неотъемлемой истине и значении. И актуальность и важность достижений математики не зависят от того, можно ли их применить на практике. В этом смысле математику можно сравнить с чистым искусством, искусством ради искусства.
Таким образом, Шафаревич ставит основной вопрос: можно ли найти разумный смысл в математике, если ее исследования в данный момент, а может быть, и никогда не смогут послужить решению практической задачи? И он отвечает: да, можно, в ней есть смысл, и этот смысл – в красоте и предельных сущностях, которые он называет религией и Богом. Как и для Харди, для Шафаревича смысл и красота математики коренятся в том факте, что определенная теорема истинна.
Все виды математики опирались на факты, к примеру, древняя геометрия изучала пространство, арифметика – счет. Современная математика в большей степени абстрактная наука, которая не связана с окружающей материей, но и она не отступает от интеллектуальной логики и рационального развития. А красота, как пишет Харди, приобретает особое значение, когда новая формула приводит к более широкому пониманию вещей. Чем обширнее пространство истины или чем большее число истин вмещает в себя формула, тем больше в ней красоты.
Следуя логике Шафаревича, можно прийти к заключению, что математика должна выражать предельную истину. Тогда это ведет нас к идее Пифагора о том, что в конечном итоге математика способна выразить вечные категории, включая Бога. И тогда всю тайну тварного мира можно заключить в одной математической формуле, не применимой ни к чему, потому что ее цель не в том, чтобы найти практическое применение, а в том, чтобы стать совершенным выражением смысла, цели, сути вещей. Ее можно потом поделить на вторичные элементы и сделать прикладной, но конечный результат, самое большое достижение будет в уникальном видении, вмещающем сразу все смыслы.
Это один из подходов к математике, который можно использовать и в других сферах. Я помню, как несколько лет назад в Россию приехал профессор Никос Ниссиотис[17]17
Никос Ниссиотис (1924–1986) – греческий богослов, философ, публицист, общественный деятель.
[Закрыть]. Ему показывали все, что стоило посмотреть, – выставку достижений советского сельского хозяйства и промышленности, музеи, церкви. Сводили его и на балет. Он увидел выступление одной из великих балерин. Я не помню, о каком спектакле шла речь, но он сказал мне после, что, глядя на ее танец, он подумал: «Никто не может так станцевать смерть (кажется, это все-таки была „Жизель“), не пережив чисто религиозный опыт». Красота этого танца передавала смысл, превосходящий человеческое понимание смерти. В этом умирании было измерение смысла, предельного значения. Эта женщина, сказал Ниссиотис, не могла бы так танцевать, если бы она не молилась своим танцем, и, глядя на ее танец, он разделял с ней эту молитву.
Я не знаю, кто именно тогда танцевал, но если танец, если красота жеста может передавать молитву, значит, красота – это не просто то, что услаждает зрение и слух или дает ощущение гармонии материального мира. Красота – это то, что ведет нас за пределы видимого мира. И за эти пределы много лет назад, в VII веке, заглянул святой Исаак Сирин, который в одном из своих трудов говорил, что танец – это вечное занятие ангелов.
Я, говоря об этих вещах, делаю акцент именно на танце, потому что это непривычный подход. Есть более распространенное представление о небесах как о месте, где ангелы играют на скрипке и флейте (которое вызывает у меня священный ужас). Но вспомните уже упомянутые слова о танце Исаака Сирина, одного из величайших аскетов сирийской пустыни, который жил отнюдь не в Голливуде, вспомните, что царь Давид плясал перед ковчегом… Если вы задумаетесь о значении танца – да вот возьмите хотя бы это название – Lord of the Dance[18]18
Ирландское танцевальное шоу, в буквальном переводе «Бог танца».
[Закрыть], вы поймете, что красота хореографии – ничто, если за ней не стоит человеческий опыт, а за человеческим опытом – не субъективное переживание, не аутистическая реакция, не красота как субъективный взгляд на вещи, но переживание, несущее в себе опыт общечеловеческий. Не все из нас танцуют или могут выразить себя в хореографическом движении, не все из нас умеют рисовать или писать красками, или петь, или выражать красоту так, чтобы ее можно было легко распознать. И тем не менее мы все можем ее воспринимать и выражать – если в том, что мы делаем, есть смысл, есть универсальность и предельные цели, предельное содержание.