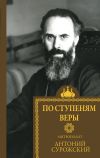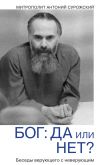Читать книгу "Хаос. Закон. Свобода. Беседы о смысла"

Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Это приводит нас к пониманию того, что мне кажется очень важным: красота – это, безусловно, субъективный опыт, но субъективный опыт того, что объективно реально и истинно. Здесь, если можно, я замечу в скобках, что как только мы говорим об опыте, каким бы он ни был, будь то познание или физическое переживание, ощущение или что-либо еще, мы имеем в виду нечто субъективное, потому что это происходит с одним из нас. Если я открою или познаю абстрактную истину математики, физики, биологии, музыки, танца, живописи, скульптуры – до тех пор, пока объект остается только лишь объектом и ничем иным, – этот опыт не будет принадлежать мне. Но как только я опытно познаю объект, этот опыт становится субъективным. И в этом смысле столь часто встречающееся пренебрежение к слову «субъективный» – как будто это что-то замкнутое на себе, рожденное внутри человека вне связи с чем-либо объективным – неверно. Ничто объективное нельзя воспринять, пока оно не станет субъективным опытом. И в этом смысле – здесь скобка закрывается – каким бы субъективным ни было переживание красоты, прежде всего, в нем есть элемент универсальности. Даже если картина, или статуя, или какое-нибудь другое произведение создано одним человеком и воспринято только одним человеком, это произведение уже имеет смысл, потому что оно передало заложенное в него значение кому-то еще.
Я помню, как обсуждал абстрактное искусство с Ланским, одним из русских абстракционистов, работавших в Париже. Он видел абстрактное искусство как язык, на котором говорит только один человек, а понимают его, вероятно, четверо-пятеро, в зависимости от степени абстракции и уникальности формы выражения. Но даже воспринимая искусство так, вы все же этим признаете, что между автором и зрителем есть связь в виде смысла и понимания. Если бы смысла не было, зритель смотрел бы на поверхность и не видел бы ничего, кроме поверхности, покрытой красками, ничего, что позволило бы говорить о красоте. Потому что если мы говорим о красоте, значит, то, что мы наблюдаем, несет для нас какой-то смысл.
Итак, мы приходим к тому, что и с точки зрения христианства, и с точки зрения других религий (как-то один индиец, хранитель Бостонского музея, говорил мне примерно то же самое) подлинное значение искусства не в чувственном удовлетворении, а в передаче смысла. И как мы видим на примере учения Платона, Упанишад и огромного опыта творческих и восприимчивых людей, красота – это притягательная сторона истины. Красота – это и есть истина, доходящая до нас определенным образом. Говоря о красоте пейзажа, можно забыть или не обратить внимания на то, что она открывается нам, потому что мы видим в пейзаже смысл. Я имею в виду не умственный смысл, не тот, над которым мы можем размышлять, говоря «так вот что это значит», словно мы переводим слово с одного языка на другой, а тот смысл, что несет, что являет в себе тайну жизни.
В математике совпадение красоты и истины абсолютно, то есть в одном лишь акте восприятия можно одновременно прочесть формулу, понять ее значение, увидеть направление ее перспективы и восхититься ею. Восторженный возглас и созерцательное, изумленное молчание полностью совпадают. Примерно в одном ряду с математикой (с точки зрения взаимосвязи между истиной и красотой, смыслом и запредельностью) стоит, на мой взгляд, притча.
Наше восприятие притчи искажено, потому что мы слишком часто видим в ней исключительно иллюстрацию, помогающую понять некое утверждение. И действительно, читая множество «притч», которые на протяжении многих лет придумывали учителя, чтобы объяснить что-то, мы видим, что часто притчи сводятся к следующему: слишком абстрактная истина, слишком трудная для понимания формулировка облекается в образ. Однако это не первоначальное и не единственное значение притчи. Я прошу прощения, если кому-то не по вкусу столь частые обращения к математике, однако есть такое математическое понятие, как парабола[19]19
Во многих европейских языках слова «притча» и «парабола» звучат и пишутся одинаково, например, по-английски «притча» – parable. (Прим, перев.)
[Закрыть]. Если бы здесь была доска, я бы вам нарисовал параболу, а так попытаюсь описать ее на словах. Если взять окружность, у нее, как вы, наверное, знаете, есть центр. Если она не нарисована на бумаге, а сделана из гибкого материала, например металла, то при сдавливании окружность изменит форму, вытянется, и в ней появятся два центра, которые называются фокусами эллипса.
Если же нажать достаточно сильно, фигура сломается. При этом происходит следующее. У вас была окружность с центром, затем в результате сжатия появились две окружности, все еще связанные друг с другом, и, соответственно, два центра. При разломе получится одна полуокружность со своим центром и двумя линиями, уходящими в бесконечность.
И вот что характерно для притч, например, в Евангелии: вам дается утверждение, которое относится к видимому центру, – но этот образ, эта притча не иллюстрирует то, что внутри окружности, а опытным путем приобщает вас ко второму фокусу, который теперь оказался в бесконечности. И смысл притчи в том, что, понимая, что говорится о точке в центре, и обращаясь к собственному опыту (в зависимости от вида притчи это может быть разный опыт), человек продвигается к бесконечности – не к пониманию трудного утверждения, но к точке в бесконечности или к бесконечному, где нет точек, в которых можно остановиться. Таково значение всех притч в Евангелии. И мы глубоко заблуждаемся, если используем их просто как иллюстрацию какой-то темы, воображая, будто Христос приводил эти примеры, потому что бедные люди вокруг него были слишком дремучими, чтобы понять Его слова, а вот с нами-то Ему бы не пришлось так говорить, потому что мы эрудированные, и нам было бы ясно любое утверждение.
Дело в том, что в притчах Христос дает нам точку отправления – но точки прибытия нет. Есть только то, чего мы не всегда ожидаем: конец – это не точка в пространстве или во времени, это – Человек, Которого мы встречаем.
Те из вас, кто имеет хорошее образование и читает по-гречески, и без моей помощи, вероятно, заметили, что в книге Откровение Иоанна Богослова автор, говоря о конце света, использует не средний род, как было бы правильно по-гречески, а мужской, потому что для него конец – это не конец времени или пространства, но встреча лицом к лицу с Живым Богом, Который одновременно начало, конец, путь и дверь. И в этом смысле мы находимся внутри параболы – здесь нам дается видение, которое должно привести нас к личной встрече с Богом Живым.
Так, через понятие красоты у Платона, через понятие красоты в математике, в танце, во всем видимом и осязаемом, через понятие красоты, поддерживающее и связывающее все воедино, которое есть смысл и только смысл, я вижу связь красоты с притчей и богословием. С богословием, которое есть встреча с Богом, дающая нам созерцательное, личное, абсолютно субъективное знание Бога. И только Он, единственный абсолютно объективный, делает нас – через эту Встречу в созерцании – причастниками Божественного естества, общниками Божественной жизни. Объективно через субъективный опыт.
Приятно видеть, как вы рады, что я закончил говорить.
Вторая беседаВ своей второй беседе я бы хотел рассмотреть несколько мыслей, которые не очень тесно связаны, и из-за нехватки времени я, видимо, не успею соотнести их друг с другом, проводя параллели. Я не буду их вам перечислять, потому что тогда смогу обращаться то к одной, то к другой мысли по ходу своей бессвязной речи.
Первый вопрос: как красота соотносится с Богом? В начале Книги Бытия мы читаем, что, когда Бог вызывал живые существа, одно за другим, из того радикального отсутствия, которое мы называем «ничто», он провозглашал, что они «хороши» – слово, которое, как я узнал от более образованных людей, означает как на древнееврейском, так и на греческом одновременно благо и красоту. Вопрос, который я хочу задать, звучит следующим образом: как представить себе, что нечто, бывшее хорошим, красивым, то есть находившееся в полной гармонии с Божественным видением и с сотворенным Богом миром, могло исказиться до такой степени, что стало миром падшим? Когда мы читаем о грехопадении человека, вопросов не возникает, потому что в нем участвовал змей. Но откуда змей берет свою злую змеиную сущность? Как так случилось, что в христианском и в древнееврейском богословии говорится о падении ангелов? Что произошло с добром, отчего оно стало злом?
Очевидно, к этому вопросу можно подойти двояко. Можно либо сказать, что зло пришло в тварный мир извне – но тогда придется обвинить Бога в том, что Он наряду с добром создал зло, что одновременно с сотворением красоты, гармонии и призвания к той полноте, что зовется Царствием Божиим, Он создал разрушение, смерть и проклятие. Либо поставить перед собой вопрос, могло ли добро каким-то образом превратиться в зло.
Вероятно, вы знаете, что писатели в течение нескольких веков уделяли внимание этой теме. Я бы хотел вспомнить только одного из древних авторов (я сейчас не помню его имени), который предлагает решение, близкое, как мне кажется, к тому, о чем мы говорим. Он говорит, что движение навстречу Богу, прогресс, возрастание от славы к славе, от красоты к красоте – ведь слово «слава» означает «величие», «великолепие», – от святости к новой степени святости не обязательно подразумевает естественный, органический, почти эволюционный рост. Это означает, что на каждом шагу творение, которое было призвано к Богу, в глубину общения с Живым Богом, должно быть готово отвергнуть ту степень красоты, блаженства, которая ему принадлежит, совлечь с себя все это, чтобы встать в совершенной наготе становления и двинуться в неизвестность. И этот автор выдвинул предположение, которое мне видится единственным хоть сколько-нибудь удовлетворительно объясняющим падение ангелов – не предполагая при этом ни сотворения Богом зла, ни совершенно непостижимого обращения добра во зло. Это единственное объяснение, которое я нашел, состоит в том, что когда ангелы Божии возрастали от славы к славе, от красоты к красоте, в какой-то момент один или несколько ангелов, глядя на себя, дивясь своей собственной красоте, задумались: «А есть ли смысл? Стоит ли рисковать всей этой красотой, всей славой, всем великолепием, всем величием, чтобы снова стать полностью нагими и двигаться дальше? А что если следующий шаг будет не таким, как мы ожидаем?»
В некотором смысле это сродни проблеме, которую много лет спустя поднимает Гете в «Фаусте». «Когда я воскликну: „Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" – говорит Фауст сатане, – можешь заковать меня в кандалы, и пусть время для меня перестанет течь, я буду готов к смерти». Это та же проблема, то же настроение ума: пусть остановится время, пусть остановится движение. То, что уже достигнуто, обладает такой совершенной красотой, что невозможно желать большего. И здесь мы сталкиваемся с определенной дилеммой, потому что предполагается, что мы призваны никогда не удовлетворяться, никогда не говорить «этого достаточно», ни на одном этапе тварного существования. Ничто не является достаточным для любого сотворенного существа, кроме полного приобщения к Богу, причастия Божественному естеству. И это наш долг, неизбежность нашего призвания – на каждом этапе говорить: «Каким бы прекрасным, каким бы великолепным это ни было, оно ничто по сравнению с моим подлинным призванием, и я должен быть готов отвергнуть даже ту меру святости, то величие, которые во мне есть, чтобы двигаться дальше, куда бы ни повел меня Бог».
Я думаю, утверждение Фауста, такой подход к грехопадению – единственное, что может объяснить, почему нечто благое и красивое могло одновременно стать соблазном – потому что существо, им обладавшее, было не готово, по слову святого Викентия де Поля, оставить Бога ради Бога. Или, если хотите, скажу словами немецкого мистика Ангелуса Силезиуса, что обрести Бога можно, только если оставить все и покорить себя Богу. И как же чисты те, кто готов оставить Самого Бога, чтобы стать Божьим!
Теперь я хотел бы обратиться к тому же предмету, но на другом уровне. Минуту назад я сказал, что во всей красоте, во всем осуществлении заложена возможность отвергнуть собственное призвание – из-за созерцания этой красоты, – если при этом нет свободного отказа от себя и предания воле Божией.
В последовании венчания в Православной Церкви есть слова, которые мне кажутся очень интересными с этой точки зрения. В начале обручения после первого благословения и ектеньи читается короткая молитва к Богу о том, чтобы Он даровал невесту и жениха друг другу, как даровал Исааку Ревекку. В этой параллели интересно не просто упоминание прототипа из Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете можно было бы найти и другие примеры красивых и славных браков. Интересно то, что Ревекка в самом подлинном смысле, по-настоящему была дарована Исааку в акте Божественного откровения. Как вы помните, посылая слугу в Месопотамию найти своему сыну невесту, Авраам сказал слуге, что тот узнает невесту по знаку: женщина подойдет к колодцу, держа в руках кувшин с водой. Это был знак, это было действие Божие. В чем здесь мы можем провести своего рода параллель с браком? Будущие муж и жена не открываются друг другу с помощью формального ритуала или чудесного знамения. В чем же тогда знак? Если позволите, я предположу, что это знак, в котором есть черты откровения.
Вы знаете, как часто люди толпятся вместе: мужчины и женщины, мальчики и девочки – и как часто человек может видеть другого изо дня в день, никогда не замечая в нем ничего особенного, но однажды он посмотрит и увидит этого другого в славе, в свете Преображения, увидит не как одного из многих, но в его уникальности, которую нельзя отбросить или забыть. Святой Мефодий Патарский говорит, что до того, как мужчина полюбит, он окружен мужчинами и женщинами, когда же он встретил свою невесту, у него есть невеста, а вокруг – просто люди. Я думаю, это крайне интересная мысль: видение одного и того же человека, который не стал иным в этот конкретный день, но увиделся нам сияющим изнутри или окруженным светом Преображения. Мы смотрим на человека глазами, которые видят, но это вйдение не дается тому или иному без разбора, и здесь уместно высказывание Гете: «Красота в глазах смотрящего». Бог дает смотрящему видеть то, что Он Сам видит всегда и неизменно. Он дает этому человеку увидеть чудо преображенного мира в ком-то одном. И это знак, который мы называем «любовью». И подразумевается, что любовь – это откровение, раскрытие красоты и смысла.
Потом бывает по-разному. Мы можем встретить того же самого человека на следующий день и увидеть его снова обыкновенным, ни в коей мере, никоим образом не отличающимся от других. Сияния не видно, «шехины» нет, ничего не происходит. И тогда мы можем сказать: «Да, это видение было обманом. Я думал, что это светлячок, но потом посмотрел на него в свете фонаря и увидел, что это обычный жучок». Или же, напротив, мы можем воскликнуть: «То, что я вижу сегодня, обыденность этого человека – это завеса. Реальность – это то, что я видел, и та реальность подлиннее не только наружности, но и подлиннее любого свидетельства. Любые вещественные доказательства, что этот человек не уникален, – ложь». И это – момент, в который видение, истина о человеке, слава Воскресения и красота сливаются воедино.
Это явление, наверное, можно сравнить с тем, как мы смотрим на витражное окно. Когда на него падает солнечный свет, проникая сквозь, – нам открывается несколько вещей. Во-первых, проявляется сюжет витража. Это может быть Воскресение Христово, Преображение, это может быть один из сюжетов Ветхого или Нового Завета или сюжет из истории Церкви, и он раскрывается в цвете, в котором есть красота, и именно красота и великолепие изображения привлекают наше внимание, сосредоточивают на себе и заставляют воспринять сюжет и то, о чем он говорит. Затем, если мы способны понять, нам открывается нечто большее: что эта красота не просто создана чьими-то руками – ведь ее не было мгновение назад, она ожила благодаря лучу извне, который прикоснулся к окну и залил его светом. Некоторое время спустя, придя в то же самое место, мы могли бы обнаружить, что солнце ушло, красота витража больше не живет, ее
уже не существует, есть всего лишь серое пятно на серой стене. В чем же истина? Витражное окно – это раскрытие сюжета, то есть смысла и красоты, или же это ничто, а наше видение было обманом?
Именно поэтому, мне кажется, когда в упомянутой ектенье мы молимся за жениха и невесту, мы просим Бога дать им веру. Не только религиозную веру, веру в Него, но и такое качество веры, которое можно назвать «уверенностью в вещах невидимых» (может быть, увиденных, но ушедших и уже незримых), веру, которая поможет нам, увидев однажды, запомнить навсегда. Увидев красоту, и смысл, и истину, никогда не оставлять уверенности в этом видении.
* * *
Нечто похожее мы видим в Евангелии. Петр встречает воскресшего Христа на берегу Тивериадского озера (см. Ин. 21:15–17). Он предал своего Господа, трижды отрекся от Него, и вот впервые после этого встречает Его наедине, и Христос не спрашивает Петра, покаялся ли тот, стыдно ли ему, Он спрашивает, любит ли Его Петр, любит ли Его с чистотой совершенной любви – «агапе» – и любит ли он Его как друг – «филиа». И то и другое – неправда, если судить по тому, что произошло. Петр оказался неверным другом, неспособным любить с чистотой совершенной любви. И тем не менее Петр, говоря правду вопреки очевидному, трижды отвечает: «Я люблю Тебя», и в третий раз после третьего вопроса, осознавая, что все свидетельствует против него, он говорит Христу: «Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, что я отрекся от Тебя, и Ты знаешь, что я люблю Тебя». Как и то, и другое сочетается в одном сердце, как они переплетаются в одной жизни – это другой вопрос, но и то, и другое – правда. Однако больше истины не в том, что Петр предал Христа, а в том, что он любит Его, а меньше истины в том, что, испугавшись, он поступил не по любви.
Другой пример – женщина, взятая в прелюбодеянии. Эту женщину привели ко Христу, все вещественные доказательства свидетельствовали против нее, не было никакой необходимости что-либо еще выяснять, ситуация была очевидна: ее застали на месте преступления. Вопрос: надо ли побить прелюбодейку камнями? Христос не говорит, что совершившую прелюбодеяние не следует побивать камнями. Вот что Он видит: женщина, которую уличили в измене и привели, чтобы побить камнями, внезапно поняла совершенную тождественность греха и смерти – что грех означает смерть, что грех и есть смерть, – и в тот момент, когда она это поняла (мы можем сделать такой вывод почти наверняка), вероятно, она подумала: «Теперь, когда я поняла, что грех убивает, если бы мне только позволили жить, я бы не грешила». И именно этой женщине Христос говорит: Где твои обвинители?.. И Я не осуждаю тебя, иди (Ин. 8: 10–11). Он не призывает к сентиментальному сочувствию, которое противоречило бы ветхозаветному суду. То, что Он говорит, относится к женщине, которая прошла через смерть и которую теперь Он обращает к новой жизни воскресения в пределах прожитого в тот момент.
Я привожу вам этот пример, поскольку в каждом человеке есть реальность, которую мы не видим, потому что слепы, но которая есть реальность красоты, истины, реальность приобщения к Тому, Кто настоящий, то есть к Живому Богу.
Однако, как я говорил вначале, в красоте и в любви есть нечто двойственное, неоднозначное, опасное, потому что, увидев витражное окно, мы можем оказаться порабощенными, плененными в прямом смысле слова, сделаться рабами красоты стекла и забыть, что эта красота возможна лишь при условии сияния света снаружи, что стекло само по себе – это лишь стекло, которое потухнет, как только исчезнет свет.
С другой стороны, можно помнить о свете, но забыть о самом окне. И то, и другое в равной степени неправильно.
Те, кто интересуется этой взаимосвязью образа и откровения, могут почитать работу Чарльза Уильямса[20]20
Чарльз Уильямс (1886–1945) – английский поэт, прозаик, богослов.
[Закрыть] «Образ Беатриче», где автор утверждает, что только через образ можно заметить отблеск реальности. Но, заметив этот отблеск реальности, следует быть очень осторожным, чтобы не отбросить сам образ, потому что у него есть право на существование и своя собственная реальность. В примере, который я вам привел (из службы венчания), есть две опасности: первая заключается в том, что, увидев человека в славе и потом перестав видеть саму славу, мы отказываемся от всего этого и отвергаем человека, полагая, что ошиблись. Но есть и опасность превратить человека в самодостаточную красоту, иными словами, в идола, и сосредоточить внимание только на человеке, не замечая, игнорируя, отвергая тот факт, что без света свыше в этом человеке не останется никакого сияния. И это чрезвычайно важный момент, потому что именно так мы относимся к людям, которых любим, к друзьям, так мы ведем себя с другими все время. Мы либо отвергаем их, потому что в них погас свет, либо восхищаемся, потому что они сияли или сияют светом, и забываем, что, если бы их не было, мы не смогли бы увидеть свет. У них есть свое место в этом откровении Промысла Божия, и тем не менее они не являются конечным и предельным объектом откровения.
Рассуждая в таком ключе, мы видим ту взаимосвязь, которую я только что довольно неясно описал (иначе мне потребовалось бы намного больше времени, чем у меня есть). Существует связь между красотой, которую мы воспринимаем, и Богом, существует связь между видением и тем фактом, что никакого вйдения не может быть, пока Бог не откроет мне то, что хочет показать. С одной стороны, витражное окно сияет благодаря свету, с другой – красота в глазах смотрящего. Верно и то, и другое одновременно, но это остается верным, если только мы не превратим увиденное в идола и тем самым не отвергнем откровение красоты, истину о человеке, потому что человек может принять свет, но он сам – не источник света.
* * *
Теперь я бы хотел перейти к третьему пункту. Я понимаю, что всего лишь даю вам направление мыслей, вероятно, озадачивающих, но я хочу рассказать еще об одной стороне вещей. Сегодня утром мне задали вопрос, который на самом деле мог бы стать темой целой конференции или, по крайней мере, отдельной беседы: каково значение слова «смысл». Приблизительно говоря, объект, человек, ситуация – все, о чем можно рассуждать, – имеют смысл в той мере, в которой относятся к предельным вещам – то есть, в моем понимании, к Богу. То, что направлено к Богу или удаляется от Него, имеет смысл. В первом случае этот смысл может проявляться как красота, святость, совершенство, во втором – как грех, разрушение, смерть. Однако в обоих случаях оно обретает смысл, когда соотносится с тем, что является предельной точкой, отталкиваясь или приближаясь к которой можно двигаться или рассуждать.
Но, имея в виду эту общую идею, надо понимать, что в жизни мы сталкиваемся не только с предельными, но и с ближайшими смыслами, есть задачи и этапы, которые намного ближе к нам. Однако можно обнаружить, что такие ограниченные приблизительные смыслы порой теряют для нас свою значимость – и нам приходится пересматривать их. Когда мы думаем о пересмотре смысла (то есть о том, в чем мы до этого момента были уверены), мы пытаемся использовать критическое мышление, анализировать отдельные элементы, критиковать их, стремясь найти слабое место в модели, теории или гипотезе, которую создали. Это может привести к поправкам и уточнению или же к уничтожению прежней модели и построению новой на противоположных принципах – однако все это укладывается в одну категорию мышления. Это «нет» вместо «да», «больше» вместо «меньше» или «меньше» вместо «больше», но это не есть нечто, коренным образом отличное от прежнего. Пытаясь переоценить ближайшие смыслы в свете их предельной значимости, мы должны попробовать сместить их составляющие и перейти в точку, где можно напрямую воспринимать изначальный смысл, а не его дальнейшие выражения.
Увидеть, как рушится высший смысл, можно в двух случаях[21]21
Этот абзац – ответ митрополита Антония на вопрос, заданный в конце беседы.
[Закрыть]. Можно видеть, как это делает кто-то другой, – и тогда нет необходимости принимать это разрушение как прогресс, это просто может оказаться деградацией, или же можно разрушить смысл самому. В этом случае вы ставите вопросы, касающиеся творческого подхода к сомнению, вы смотрите на то, что почитали за истину, и говорите: «Надо проверить, есть ли в этом истина».
Декарт писал, что научное сомнение (то есть сомнение ученого, а не только сомнение в науке) должно быть систематическим. При этом оно должно быть героическим, потому что подрывает собственные установки. Оно должно быть смиренным, потому что заключается в слушании, в попытке обнаружить предельную или хотя бы приближенную к предельной истину. И если бы мы применяли сомнение в религиозном опыте, так же как оно применяется в научных исследованиях, оно могло бы стать творческим деланием. Выстраивая теорию, гипотезу, модель, ученый собирает все имеющиеся данные, чтобы соединить их в одно целое. Но если это добросовестный и творческий ученый, то, собрав данные, первым делом он задастся вопросом: где слабое место в его конструкции? Он будет искать не те факты, которые подкрепят его теорию, но тот несовпадающий факт, который подорвет ее неопровержимость. И когда такой факт разрушит его модель, ученый будет благодарен, потому что ее крушение даст возможность сделать шаг к более совершенной версии.
Ученый не станет поступать так, как мы, к сожалению, поступаем в вопросах веры. Ученый говорит: «Моя модель разрушена, но реальность все же существует, она невредима, и я все ближе и ближе к ней». Верующий обычно совершает ошибку. Он говорит: «Моя модель разрушена. Бога больше нет». Этологическая ошибка, просто глупость и своего рода трусость, которая очень характерна для верующих в наши дни.
Если не возражаете, я использую образ или пример из физиологии, которая, как вы, вероятно, уже поняли, мне ближе, чем философия. Когда человек или животное впервые смотрит на окружающий мир, то пока через опыт жизни в этом мире, приобретаемый с помощью зрения, осязания и общих ощущений, он не научится вычленять из того, что наблюдает, конкретные цельные объекты, все, что он видит, – это множество пятен из света и тени. И лишь постепенно, благодаря всему опыту наблюдения под разными углами, с разных расстояний, благодаря прикосновению, восприятию формы и так далее мы начинаем из плоской массы пятен выделять формы живых существ. Те, кого интересуют такого рода вещи, могут почитать книгу «Разумный глаз», написанную профессором физиологии Грегори[22]22
Ричард Грегори (1923–2010) – английский нейрофизиолог, внес существенный вклад в развитие когнитивной психологии.
[Закрыть]. Эта книга не для ученых, а для людей, способных читать и понимать. В ней автор представляет ряд фотографий. Одна из них очень актуальна в свете того, что я говорил, – черно-белая фотография далматинца, который стоит на земле, покрытой маленькими лужицами. При первом взгляде вы не видите ничего, кроме лужиц или, если хотите, черно-белых пятен. На то, чтобы различить фигуру собаки, требуется довольно много времени, потому что на фотографии у далматинца нет контуров и он сливается с фоном. И это очень важно – попытаться вернуться назад и посмотреть на все не так, как мы привыкли, а с первобытной прямотой. И порой можно обнаружить нечто совершенно иное, чем мы ожидали.
Такие упражнения можно проделывать разными способами, и здесь абстрактное искусство может либо помочь, либо помешать.
Можно посмотреть на ту или иную вещь и попытаться разъединить заключенные в ней традиционные смыслы, разрушить привычные формы того, что мы видим, чтобы посмотреть на все заново, свежим взглядом. Однако если на этом остановиться, мы вернемся в первичный хаос из Книги Бытия (1: 1), в котором нет смысла, который содержит и вынашивает еще нераскрывшиеся, неявленные смыслы. То есть бывают примеры абстракции, в которых нет ничего, кроме раздробления на части и возвращения к хаосу. Но бывает иное – если художник способен, отказавшись от принятого видения, достаточно долго всматриваться в предмет, чтобы начать различать в нем более богатую и подлинную систему смыслов и форм.
Обычно мы занимаемся тем, что разбираем все на части, как дети, которые могут разобрать часы, порадоваться тому, что они видят, а затем оставить детали в беспорядке. Очень немногие из нас подобны часовщикам, способным собрать детали обратно в часы. Однако есть и еще одна опасность, касающаяся красоты и истины, Бога и человека, того, что окружает нас: подменить нечто реальное чем-то воображаемым и, возможно, еще более губительным.
Читая начало Книги Бытия, мы видим, что все Божие творение – это хаос. И хаос можно понимать двояко: как безнадежный бардак, какой бывает, когда хочешь разобрать один из своих ящиков и вываливаешь все на пол, или как то, что есть не конец порядка, а некое неупорядоченное начало. Именно об этом мы читаем в первой главе Книги Бытия: о хаосе, несущем в себе все возможности, из которых пока ни одна не явлена. В дни сотворения мира мы видим Бога, Который возвел из небытия всю совокупность этих возможностей, Который одну за другой вызывает их из этого хаоса, чтобы они обрели форму, приобщились реальности и начали собственный путь к полноте.
Обычно мы боимся хаоса, материальный хаос нас тревожит. Когда материальный хаос достигает определенной меры, он нас пугает. Однако когда речь идет о нашем внутреннем хаосе, хаосе нашего разума, наших эмоций, наших взаимоотношений, обычно мы (и, пожалуй, «обычно» – это слишком мягко сказано, точнее будет сказать «практически всегда») слишком страшимся принять хаос внутри себя, забывая о том, что так красиво выразил Ницше: нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить звезду. Вот что делает с хаосом Бог: он вызывает из него разнообразные возможности, как бы заклиная их, взывая, пока они не выйдут наружу самостоятельно, не обретут форму, не начнут двигаться, следуя зовущему их гласу. Когда мы сталкиваемся с хаосом (если не пугаемся настолько, чтобы просто закрыть глаза и ничего не делать), мы пытаемся его упорядочить. И порядок – враг красоты, возможно, даже больший, чем сам хаос. Если хаос может стать гармонией, то навязанный, искусственно созданный человеком порядок никогда не приведет к ней. Это будет замороженная, окаменелая реальность, и спасти ее можно, только раздробив на кусочки, расплавив и вернув снова к хаосу.
И это одна из проблем, которую я вижу в абстрактном искусстве или в некоторых попытках богословской мысли – попытках, заключающихся в отказе от смыслов, когда мы не готовы и не способны встретиться лицом к лицу с хаосом: нам не хватает терпения, проницательности, смирения и Божественного руководства, чтобы увидеть нечто новое, рождающееся из него.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!