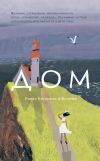Текст книги "Лилия и лев"

Автор книги: Морис Дрюон
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Глава III
Вызов, брошенный в Нельской башне
Когда епископ Генри Бергерш, казначей Англии, явившийся в сопровождении Уильяма Монтегю, ныне графа Солсбери, Уильяма Боухена, ныне графа Нортгемптона, Роберта Уффорда, ныне графа Сеффолка, в День Всех Святых передал в Париже картель короля Эдуарда III Плантагенета Филиппу VI Валуа, этот последний, подобно царю Иерихонскому перед Иисусом Навином, расхохотался посланцам прямо в лицо.
Да нет, он, наверное, ослышался! Стало быть, его юный кузен Эдуард требует, чтобы ему вручили корону Франции? Филипп переглянулся с королем Наварры и с герцогом Бурбоном – своими родичами. Он только что встал из-за стола, где обедал в их обществе, и находился в превосходном расположении духа, его гладкие щеки, его мясистый нос чуть порозовели, и, не выдержав, он снова фыркнул.
Если бы епископ, с таким благородством опирающийся на посох, если бы трое этих английских сеньоров, застывшие как изваяния в своих боевых кольчугах, явились сюда с какой-нибудь более скромной вестью: скажем, передали бы отказ своего государя выдать Франции Робера Артуа или протестовали бы против приказа о захвате Гиени, – Филипп, безусловно, разгневался бы. Но требовать его корону, да и государство в придачу?.. Нет, ей-ей, это не послы, а шуты какие-то!
Да-да, он не ослышался: салического закона, оказывается, не существует, он правит страной не на законном основании…
– А того обстоятельства, что пэры по доброй воле выбрали меня королем, что архиепископ Реймский вот уже девять лет как короновал меня, этого тоже, по вашему мнению, мессир епископ, не существует?
– С тех пор многие пэры и бароны, что выбирали вас, уже отошли в лучший мир, – ответствовал Бергерш, – а те, кто еще жив, не так уж уверены, что Господь Бог одобрил их деяние!
Откинув голову, сотрясаясь всем телом, Филипп, уже не сдерживаясь, залился громким смехом, показав присутствующим всю свою глотку.
– А когда король Эдуард прибыл в Амьен принести Филиппу Шестому свою вассальную присягу, что ж, он и тогда не признавал его права на престол?
– Тогда наш король был еще несовершеннолетним. Вассальная присяга, которую он вам принес и которая могла иметь цену лишь в том случае, если бы была одобрена Регентским советом, – все это дело рук изменника Мортимера, а его уже давно повесили.
Ну и ну, апломба этому епископу не занимать стать, а ведь он был канцлером при Мортимере и первым его советником, ведь это он сопровождал Эдуарда в Амьен и сам прочел в соборе формулу вассальной присяги!
А что он сейчас вещает теми же самыми устами? Чтобы, мол, он, Филипп, в качестве графа Валуа приносил вассальную присягу Эдуарду! Ибо король Англии великодушно признает за своим кузеном право на владение Валуа, Анжу, Мэном и даже не оспаривает его права на пэрство… Воистину слишком уж он великодушен!..
Но где мы, Всевышний Господь, вынуждены выслушивать подобную чепуху?
Да в Нельской башне, потому что, направляясь в Венсенн после пребывания в Сен-Жермене, Филипп VI остановился на денек в этом отеле, пожалованном им своей супруге. Ибо если самый захудалый из его сеньоров говорит: «Перейдем в большую залу», или «в малую гостиную с попугаями», или же «будем ужинать в зеленой столовой», то король заявляет: «Нынче я обедаю во дворце в Сите», или же «в Лувре», или же «у моего сына герцога Нормандского в бывшем отеле Робера Артуа».
Таким образом, старинные стены Нельского отеля и еще более древняя башня, которую было видно из окон, стали свидетелями разыгравшегося фарса. Видно, существуют такие места, как бы нарочно созданные для того, чтобы в них под видом комедий разыгрывались драмы, меняющие судьбы целых народов. В той самой башне, где Маргарита Бургундская так славно развлекалась в объятиях конюшего д’Оне, обманывая своего супруга Людовика Сварливого, даже в мыслях не имея, что любовные ее утехи нарушат ход французской династической иерархии, именно здесь король Англии бросал вызов королю Франции, а король Франции от души хохотал над этим вызовом![33]33
…а король Франции от души хохотал над этим вызовом! – Воображение романиста смутило бы такое совпадение, которое и в самом деле кажется слишком грубым и нарочитым, если бы не правда фактов. Впрочем, оглашение вызова Эдуарда III, юридически начавшее Столетнюю войну, отнюдь не завершает странную судьбу Нельского дворца. В нем проживал коннетабль Рауль де Бриенн, граф д’Э, пока не был арестован в 1350 г. по приказу Иоанна Доброго, приговорен к смерти и обезглавлен. Дворец стал также обиталищем Карла Злого, короля Наваррского (внука Маргариты Бургундской), который поднял оружие против французского королевского дома. Позже Карл VI Безумный отдал его своей жене, Изабелле Баварской, которая впоследствии заключила договор, отдавший Францию англичанам, и объявила собственного сына, наследника престола, незаконнорожденным. Карл VII, едва успев передать дворец Карлу Смелому, умер, а Смелый вступил в конфликт с новым королем Людовиком XI. Франциск I предоставил часть Неля Бенвенуто Челлини; потом Генрих II велел устроить там мастерскую для чеканки монеты; там и по сию пору располагается Парижский монетный двор. Уже одно это дает представление о размахе площади, которую занимали постройки и земли дворца. Карл IX, нуждаясь в деньгах, чтобы платить своим швейцарским гвардейцам, велел выставить на продажу дворец и башню, которые были приобретены герцогом Неверским, Луи де Гонзагом. Новый владелец велел их снести, чтобы построить на том месте Неверский дворец. Наконец, Мазарини, приобретя Неверский дворец, разрушил его и заменил Коллежем Четырех Наций, который существует и по сей день, – там теперь размещается Институт Франции.
[Закрыть]
Он до того смеялся, что почти умилился душой, ибо узнал за этим безумным посольством руку Робера. Только один Робер мог выдумать такой демарш. Нет, положительно наш молодчик рехнулся. Нашел себе другого короля, помоложе, попростодушнее, который поддается на его дикие выдумки. Но интересно знать: где же этому конец? Вызов от одного королевства другому! Заменить одного короля другим… Когда уже превзойден предел безумия, вряд ли стоит гневаться на человека, если он перегибает палку, что, впрочем, вполне в его натуре.
– Где вы остановились, монсеньор епископ? – любезно осведомился Филипп VI.
– В отеле Шато Фетю, улица Тируар.
– Чудесно! Возвращайтесь туда, повеселитесь недельку в нашем славном городе Париже, а ежели пожелаете видеть нас и ежели есть у вас какие-нибудь не столь нелепые предложения, милости просим. Честно говоря, я ничуть на вас не гневаюсь, и, раз вы взяли на себя такое поручение и, передавая его мне, даже ни разу не улыбнулись, как я успел заметить, вы, по моему мнению, лучший из всех посланников, каких я когда-либо принимал…
Филипп и впрямь не ошибся, ибо, направляясь в Париж, Генри Бергерш проехал через Фландрию. И там он тайно совещался с графом Геннегау, тестем английского короля, с графом Гельдерландским, с герцогом Брабантским, с маркизом Юлихским, с Яковом ван Артевельде и эшеванами Гента, Ипра, Брюгге. Он даже направил часть своей свиты к императору Людвигу Баварскому. Филипп еще не знал, какие там происходили беседы, какие были приняты соглашения.
– Государь, вручаю вам картель!
– Сделайте милость, вручайте, – ответил Филипп. – А мы сохраним эти милые листочки и будем перечитывать их как можно чаще, чтобы разогнать грусть в печальные минуты. А сейчас вам поднесут чего-нибудь выпить. Вы столько тут наговорили, что у вас, должно быть, совсем пересохло в горле.
И он хлопнул в ладоши, вызывая пажа.
– Бог меня накажет, – воскликнул епископ Бергерш, – ежели я стану предателем и выпью вина у врага, которому я всем сердцем намерен причинить столько зла, сколько смогу!
Тут Филипп Валуа снова расхохотался во всю глотку и, уже не обращая внимания ни на посла, ни на троих лордов, полуобнял за плечи короля Наваррского и возвратился в свои апартаменты.
Глава IV
Близ Виндзора
Луга вокруг Виндзора сочно-зеленые, чуть холмистые, какие-то особенно милые. Кажется, будто замок не венчает пригорок, а как бы сливается с ним, и при виде его закругленных стен невольно приходит мысль, что его сжимает в своих объятиях великанша, задремавшая в густой траве.
Как все здесь похоже на Нормандию, на Эвре, на Бомон или на Конш.
Этим утром Робер Артуа отправился в окрестности Виндзора и не пускал опрометью, как обычно, своего коня, а ехал шагом. На левой его руке сидел красавец сокол, вцепившись когтями в кожаную перчатку. Впереди по берегу реки ехал сокольничий.
Робер скучал. Война с Францией никак не начнется. В конце минувшего года послали картель в Нельскую башню и на этом успокоились; правда, желая подкрепить свои воинственные намерения, захватили принадлежавший графу Фландрскому островок на Шельде неподалеку от Брюгге. Французы в отместку предали огню несколько прибрежных поселений на юге Англии. И тут же папа приказал прекратить эту еще не начавшуюся войну, и обе стороны охотно пошли на перемирие, и пошли по не совсем обычным причинам.
Филипп VI, так и не принявший всерьез притязаний Эдуарда на французский престол, был, однако, весьма встревожен, узнав, какого мнения придерживается в этом вопросе его дядя, король Роберт Неаполитанский. Этот государь считался среди всех прочих властителей ученейшим мужем, даже чересчур ученым, и, кроме него, только еще один – «порфирородный» византиец – вошел в историю под именем Астролог, так вот этот дядя тщательно изучил гороскопы Эдуарда и Филиппа, и то, что сказали ему небесные светила, так его потрясло, что он взял на себя труд лично написать королю Франции: «Избегать сражения и никогда не воевать против английского короля, ибо во всех его начинаниях успех будет на его стороне». Согласитесь, что подобные предсказания грузом ложатся вам на сердце, и даже такой прославленный турнирный боец и тот призадумается, прежде чем подъять копье против самих звезд.
Со своей стороны Эдуард III был отчасти напуган собственной отвагой. Если разобраться строго, авантюра, на которую он пустился, могла показаться несколько чрезмерной. Он боялся, что его армия недостаточно многочисленна и не слишком хорошо обучена; он слал послов за послами во Фландрию и Германию, желая укрепить с ними союз. Генри Кривая Шея, уже почти совсем ослепший к этому времени, заклинал его действовать благоразумно, в отличие от Робера Артуа, который побуждал его действовать незамедлительно. Чего, в сущности, ждал Эдуард, почему не начинал похода? Почему фламандские сеньоры, которых удалось наконец сплотить, молчат, словно воды в рот набрали? Неужели у Иоганна Геннегау, которого ныне изгнали из Франции, хотя он долгое время находился в фаворе при королевском дворе, и который снова перебрался в Англию, – неужели не хватает у него решимости поднять свой меч? Неужели сукновалы Гента и Брюгге упали духом и, видя, что король Англии не торопится сдержать свои обещания, предпочитают по-прежнему безропотно покоряться королю Франции?.. Эдуард хотел заручиться поддержкой императора, но императору вовсе не улыбалось быть вторично отлученным от церкви еще до того, как английские войска вступят на континент! Болтали, вели переговоры, топтались на месте, а откровенно говоря, просто струсили.
А на что, в сущности, было сетовать Роберу Артуа? Вроде бы и не на что. Ему пожаловали замки и выдавали особое содержание, он обедал за одним столом с Эдуардом, пил вместе с Эдуардом, ему воздавались все положенные ему почести. Но он устал от бесполезных своих усилий в течение целых трех лет, усилий, потраченных ради людей, которые никак не желали идти на риск, ради юноши, которому он протягивал корону – да еще какую корону! – и который отнюдь не спешил схватить ее. А главное, Робер чувствовал себя одиноким. Изгнание, пусть и позолоченное, угнетало его. Ну о чем он мог беседовать, скажем, с молоденькой королевой Филиппой, разве что рассказывать ей о ее деде Карле Валуа и ее бабке Анжу-Сицилийской?! Временами ему чудилось, что и сам он превратился в предка.
Как бы ему хотелось повидаться с королевой Изабеллой, единственным в Англии человеком, с которым его связывали общие воспоминания. Но королева-мать уже не появлялась при дворе; жила она в Касл Ризинг в Норфолке, где ее изредка навещал сын. После казни Мортимера она потеряла интерес ко всему на свете.[34]34
После казни Мортимера она потеряла интерес ко всему на свете. – Королеве Изабелле предстояло прожить еще двадцать лет, но она уже не принимала никакого участия в делах своего века. Дочь Филиппа Красивого умерла 23 августа 1358 г., в Хартфордском замке, и ее тело было погребено в ньюгейтской церкви францисканцев в Лондоне.
[Закрыть]
Робер на собственном опыте изгоя познал, что такое тоска по отчизне. Думал он и о своей супруге мадам де Бомон: какой-то станет она после стольких лет заточения, когда они снова встретятся, если только суждено им увидеться? Узнает ли он своих сыновей? Заглянет ли хоть когда-нибудь в свой парижский отель, в свой замок в Конше, да и увидит ли вообще Францию? Если война, которую он разжигал из последних сил, будет идти таким же ходом, как сейчас, вряд ли ему даже столетним старцем удастся вернуться на родину.
Поэтому-то нынче утром он, хмурый и злой, отправился на охоту один, надеясь убить время и забыться. Но трава, мягко стелившаяся под копытами коня, густая английская трава была еще роскошнее, еще сочнее, чем трава у них в Уше. Небо над головой было блекло-голубое, и по этой приглушенной лазури плыли на головокружительной высоте обрывки облачков; майский ветерок ласково поглаживал уже расцветшую жимолость живой изгороди и одетые белым цветом яблони, совсем такие же, как яблони и жимолость у них в Нормандии.
Скоро Роберу Артуа стукнет пятьдесят, а что он сделал за эти полвека? Пил, обжирался, распутничал, охотился, изъездил немало дорог, и по своим личным делам, и по государственным, сражался на турнирах, вел тяжбы – столько тяжб не вел, пожалуй, ни один его современник. На чью еще долю выпала такая бурная жизнь, полная волнений и превратностей судьбы! Но никогда он не умел пользоваться настоящим. Никогда не прерывал своих неусыпных трудов за обладание графством Артуа, дабы насладиться мгновением. Мысль его непрестанно обращалась к завтрашнему дню, к будущему. Пил ли он вино, оно казалось ему кислым, потому что ему хотелось пить вино в своем Артуа; на ложе плотских утех он ни на миг не переставал думать о победе над Маго; на самом шумном турнире он сдерживал свой воинственный пыл, памятуя о возможных союзниках. К похлебке в первой попавшейся харчевне, к пиву, которое он тянул в минуты отдыха, примешивался горький вкус злобы и ненависти бесприютного изгоя… Да и сейчас о чем он думал? О завтрашнем дне, о том, что произойдет потом. Яростное нетерпение мешало ему упиться этим прекрасным утром, этим прекрасным небосводом, этим воздухом, которым только дышать и дышать, этим соколом, диким и одновременно покорным, слегка сжимавшим когтями его перчатку… Значит, вот это и зовется жизнью и от пятидесяти лет, прожитых на земле, остается лишь прах надежд?
Из горьких этих размышлений его вывели крики сокольничего, посланного вперед и подстерегавшего дичь на дальнем холме.
– Взлетела, взлетела! Спускайте сокола, ваша светлость, спускайте сокола!
Робер выпрямился в седле, прищурился. Красавец сокол в кожаном клобучке на голове, оставлявшем открытым лишь один клюв, затрепыхал крыльями на его руке: он тоже узнал знакомый голос. Послышался шорох потревоженного тростника, и с берега реки взлетела цапля.
– Летит, летит! – надрывался сокольничий.
Огромная птица летела на небольшой высоте против ветра и двигалась прямо на Робера. Робер дал ей приблизиться и, когда цапля была от него примерно на расстоянии трехсот футов, снял с сокола кожаный клобучок и резким движением руки подбросил птицу в воздух.
Сокол описал три круга над головой своего хозяина, снизился, пронесся над самой травой и тут, заметив добычу, полетел прямо на нее, подобно пущенной из арбалета стреле. Завидев преследователя, цапля вытянула шею, выбросив рыбу, которой она наглоталась в речке, и, освободившись от груза, полетела резвее. Но сокол нагонял ее; он набирал высоту, описывая круги, словно следуя виткам невидимой спирали. А цапля резким взмахом огромных крыльев поднималась в небо в надежде, что хищной птице не угнаться за ней. Она взлетала все выше, выше, уменьшалась на глазах, но расстояние между ней и преследователем все укорачивалось, потому что летела она против ветра, что замедляло полет. Ей пришлось повернуть обратно; сокол снова проделал свои вихревые витки и набросился на цаплю. Цапля резко рванулась в сторону, и хищник не удержал ее в своих когтях. Но, оглушенная ударом, голенастая цапля рухнула как камень с пятидесяти футов высоты и принялась бежать по траве. Сокол снова начал кружить над ней.
Задрав голову, Робер с сокольничим следили за всеми перипетиями этой борьбы, где проворство одерживало верх над тяжестью, быстрота над силой, воинственный пыл злобы над мирными инстинктами.
– Смотри, смотри на эту цаплю, – с жаром кричал Робер, – вот уж и впрямь самая трусливая птица на свете! В четыре раза больше моей маленькой птички, да она могла бы одним ударом длиннющего своего клюва уложить сокола на месте, а она – вот уж впрямь робкое создание, бежит, смотри, бежит! Добивай ее, мой храбрец, добивай скорее! Ох до чего же отважная птица! Смотри, смотри, поддается, сейчас он ей покажет!
Он пустил коня галопом, чтобы поскорее добраться до места будущей схватки. Сокол уже сжимал когтями шею цапли; полузадушенная птица слабо шевелила крыльями и в своем падении увлекла за собой победителя. Когда до земли оставалось всего несколько футов, сокол разжал когти, и добыча его сама рухнула на землю, и тут он снова набросился на свою жертву и прикончил ее ударом клюва в глаза и голову. Робер с сокольничим подоспели вовремя.
– Прикормку, прикормку! – крикнул Робер.
Сокольничий отцепил от своего седла дохлого голубя и бросил его как прикормку соколу. Откровенно говоря, «полуприкормку»: хорошо натасканный сокол должен довольствоваться этим и не трогать добычи. И маленький отважный красавец с окровавленным клювом пожрал дохлого голубя, держась одной лапой за цаплю. С неба на траву медленно падали, кружась, серые перья, вырванные во время борьбы.
Сокольничий спешился, взял цаплю и подал ее Роберу – великолепная цапля! И сейчас, когда ее держали на весу, она от клюва до кончиков ног была ростом с человека.
– Вот уж и впрямь трусливая птица! – твердил Робер. – Даже охотиться на нее нет никакого удовольствия. Эти цапли здоровы только горланить, а собственной тени боятся и начинают верещать, когда ее увидят. Нет, пусть за такой дичью охотятся вилланы.
Насытившийся сокол, повинуясь свисту, снова уселся на руку Робера, а Робер надел на него кожаный клобучок. Потом охотники рысцой затрусили по направлению к замку.
Вдруг сокольничий услышал, как Робер Артуа засмеялся коротким звучным смешком, хотя вроде бы ничего смешного не произошло, и лошади тревожно повели ушами.
Когда они вернулись в Виндзор, сокольничий спросил:
– Что прикажете, ваша светлость, сделать с цаплей?
Робер поднял глаза к королевскому стягу, развевавшемуся над Виндзорской башней, и злобно-насмешливая ухмылка исказила его лицо.
– Возьми ее, и пойдем в поварню, – ответил он. – А потом отыщи мне одного или двух менестрелей из тех, что сейчас в замке.
Глава V
Клятва над цаплей
Обед подходил уже к концу, четыре перемены из шести успели убрать, а слева от королевы Филиппы все еще пустовало место графа Артуа.
– Неужели наш кузен Робер не вернулся? – удивленный отсутствием Робера, спросил Эдуард III, когда только еще усаживались за стол.
Один из многочисленных пажей, стоявших за спинами обедавших, набрался храбрости и сказал, что видел, как граф вернулся с охоты, уже часа два назад. Чем объяснить подобное нарушение этикета? Предположили даже, что Робер утомился, охотясь, или занемог, но он должен был послать своего слугу, чтобы тот от имени господина принес королю извинения.
– Робер, сир, племянник мой, ведет себя при вашем дворе, будто он в харчевне. Впрочем, ничего тут удивительного нет, от него всего можно ждать, – заметил Иоганн Геннегау, дядя королевы Филиппы.
Иоганн Геннегау, имевший претензии считать себя образцом рыцарской учтивости, недолюбливал Робера, в его глазах граф Артуа был просто клятвопреступником, изгнанным французским королем за подделку печатей, и он порицал Эдуарда III за то, что тот слишком доверяет своему родичу. К тому же в свое время Иоганн Геннегау, так же как и Робер, был влюблен в королеву Изабеллу, и со столь же малым успехом, но его до глубины души уязвляла манера Робера где-нибудь в сторонке шутливо беседовать с королевой-матерью.
Эдуард промолчал и опустил свои длинные ресницы – так он давал себе время не поддаться первому порыву раздражения. Он удержался от гневного замечания, услышав которое люди решили бы: «Король говорит, не подумав, король произнес несправедливое слово». Потом поднял взгляд и посмотрел на графиню Солсбери, безусловно самую пленительную даму при английском дворе.
Высокая, с роскошными черными косами, с овальным бледным личиком без румянца, с лиловатой тенью на веках, отчего глаза ее казались чуть приподнятыми к вискам, графиня Солсбери словно была вечно погружена в какие-то тайные свои мечты. Такие женщины всегда опасны, ибо при всем своем мечтательном облике они не мечтают, а мыслят. И глаза, окруженные лиловатой тенью, слишком часто встречались с глазами короля.
Ее супруг, Уильям Монтегю, граф Солсбери, не обращал внимания на эту перестрелку взглядов, прежде всего потому, что верил в добродетели жены, равно как и в благородство своего друга короля, а также и потому, что сам в эту минуту с удовольствием слушал смех, остроумные замечания и щебетание дочки графа Дерби, своей соседки по столу. Почести одна за другой сыпались на Солсбери: его только что назначили смотрителем Пяти портов и маршалом Англии.
Но королеву Филиппу глодала тревога. Женщину всегда гложет тревога, когда она в тягости, а глаза ее мужа слишком часто ищут чужого взгляда. Филиппа снова ждала ребенка, но на сей раз Эдуард не выказывал ей былой признательности, восхищения, на которые был так щедр в те времена, когда она носила под сердцем первое дитя.
Эдуарду уже минуло двадцать пять; он решил отпустить бородку, и, так как решение это принято было всего несколько недель назад, мягкие белокурые волосы вились лишь на подбородке. Уж не для того ли он ее отпустил, чтобы понравиться графине Солсбери? А может быть, желал придать своему все еще юношескому лицу выражение властности? С этой бородкой Эдуард вдруг стал похож на своего отца: казалось, Плантагенет пожелал проявить себя в его особе и возобладать над Капетингом. Человек, просто потому, что живет на свете, неизбежно становится хуже и теряет в чистоте то, что приобретает во власти. Ручеек, столь прозрачный в самом своем истоке, превратившись в реку, несет с собой грязь и тину. Так что мадам Филиппа имела немало оснований тревожиться…
Вдруг за распахнувшимися створками двери раздались пронзительные звуки виолы и лютни, в залу вошли две юные прислужницы, лет по четырнадцати, не более, в венках из листьев, в длинных белых рубашках, с корзинками на руке, откуда они полными пригоршнями кидали на пол ирисы, маргаритки и алый шиповник. И обе пели: «Иду в зеленые луга, туда зовет любовь меня». За ними следовали два менестреля, аккомпанируя девушкам на виолах. А позади шагал Робер Артуа, на целых полкорпуса возвышаясь над своим маленьким оркестром, и на высоко поднятых руках нес он серебряное блюдо, где красовалась жареная цапля.
Все присутствующие сначала улыбнулись, потом дружно расхохотались над этим шутовским шествием. Робер Артуа в роли стольника! Ну кто, кроме него, мог так мило и так забавно извиниться за опоздание?
Слуги застыли на месте, кто с ножом, кто с кувшином в руках, готовые в любую минуту присоединиться к кортежу и принять участие в веселой игре. Но вдруг громовой голос покрыл все остальные звуки – и песни, и лютни, и виолы:
– Расступись, негодные людишки! Это я вашему королю хочу преподнести свой дар!
Смех возобновился. Ловко придумал – «негодные людишки». А Робер тем временем остановился возле Эдуарда III и, делая вид, что хочет стать на колени, протянул ему блюдо.
– Государь! – воскликнул он. – Вот эту цаплю поймал мой сокол. Цапля самая что ни на есть трусливая птица во всем белом свете, ибо улепетывает она ото всех без разбору. По моему мнению, жители вашей страны должны свято чтить ее, и куда сподручнее было бы поместить на гербе Англии не львов, а именно цаплю. И вам, король Эдуард, приношу я ее в дар, ибо он по праву предназначен самому робкому и трусливому изо всех государей, которого лишили Французского королевства – его законного наследства – и которому не хватает мужества отвоевать то, что ему принадлежит по праву.
Воцарилась тишина. Смех сменило гробовое молчание: кто испугался, кто вознегодовал. Оскорбление было нанесено прямо в лицо Эдуарду III. Приподнявшись с места, Солсбери, Сеффолк, Вильгельм Мауни, Иоганн Геннегау уже готовились броситься на дерзкого по первому знаку короля. Не похоже, чтобы граф Артуа был пьян. Значит, рехнулся? Конечно рехнулся, слыханное ли дело, чтобы при каком-либо королевском дворе и по более серьезному поводу чужеземец, выгнанный из родной страны, осмелился действовать таким образом.
Лицо короля залил румянец. Эдуард посмотрел прямо в глаза Роберу. Выгонит ли он сейчас его из зала пиршественного, выгонит ли его за пределы своего королевства?
Как и всегда, Эдуард ответил не сразу: он знал, что любое королевское слово, будь то даже «спокойной ночи», брошенное на ходу своему пажу, не простое слово. Силой заткнуть рот дерзкому – это не значит еще снять оскорбления, изреченные дерзкими устами. Эдуард был мудр и, кроме того, честен. Мужество доказывается вовсе не тем, что вы в гневе лишите всех пожалованных вами благ вашего родича, которому вы дали приют и который верно вам служит; мужество доказывается не тем, что вы прикажете бросить в темницу человека только за то, что он обвинил вас в слабости. Мужество доказывается тем, что вы сумеете опровергнуть предъявленное вам обвинение. Он поднялся с места:
– Коль скоро со мной обошлись как с трусом в присутствии дам и моих баронов, лучше будет, если я выскажу по этому поводу свое мнение, и, дабы убедить вас, дорогой кузен, что вы обо мне судите неправильно и что совсем не трусость до сих пор удерживает меня, даю вам клятву, что еще до конца этого года я переплыву море и брошу вызов тому, кто мнит себя французским королем, и буду биться с ним, пусть даже против его десяти человек я сумею выставить только одного. Я благодарен вам за цаплю, вашу охотничью добычу, и принимаю ее с доброй душой.
Сотрапезники по-прежнему молчали, но чувство каждого как бы изменилось в самой своей сути, в самом своем накале. Губы жадно хватали воздух, распрямлялись плечи. С неестественно громким звоном упала оброненная кем-то ложка. Глаза Робера засветились торжеством. Он согнулся в поклоне и произнес:
– Сир, мой юный и доблестный кузен, я и не ждал от вас иного ответа. В вас заговорило благородное ваше сердце. Я радуюсь вашей славе, а мне вы подали надежду, что я вновь смогу увидеть свою супругу и детей. Клянусь перед Господом Богом, который слышит нас на небесах: я во всех битвах буду впереди вас, и сколько бы мне ни было отпущено на этой земле лет, все они будут отданы на служение вам и на отмщение моим врагам.
Потом он обратился ко всему застолью:
– Благородные мои лорды, хочу надеяться, что у каждого из вас хватит мужества принести клятву, как только что принес ее ваш обожаемый король!
Все еще не выпуская из рук блюда с жареной цаплей, крылья и гузку которой затейник повар убрал перьями, Робер шагнул к Солсбери:
– Благородный Монтегю, к вам первому обращаюсь я!
– К вашим услугам, граф Робер, – ответил Солсбери, всего несколько минут назад чуть не бросившийся на дерзкого.
И, поднявшись, он громко провозгласил:
– Коль скоро государь наш назвал своего врага, то и я назову своего. И так как я маршал Англии, даю обет не знать ни отдыха, ни срока до тех пор, пока не разобью наголову в бою маршала короля Филиппа, лжекороля Франции!
Присутствующие встретили его слова рукоплесканиями восторга.
– А я тоже хочу принести клятву, – воскликнула, хлопая в ладошки, графиня Дерби. – Почему дам лишают права приносить клятвы?
– Да нет, никто их такого права не лишает, милейшая графиня, – возразил Робер, – и это только пойдет на пользу всем – мужчины еще крепче будут держать свое слово. А ну, отроковицы, – крикнул он двум девчушкам в венках из свежих зеленых веток, – а ну-ка спойте нам в честь дамы, которая хочет принести обет.
Менестрели и отроковицы снова завели: «Иду в зеленые луга, туда зовет любовь меня». Когда пение закончилось, графиня Дерби, перед которой Робер держал серебряное блюдо с цаплей, уже успевшей покрыться слоем остывшего жирного соуса, прощебетала своим пронзительным голоском:
– Даю обет и клянусь перед Всевышним, что я не выйду ни за кого замуж, будь то принц, граф или барон, прежде чем благородный лорд Солсбери не выполнит свой обет. И если он останется в живых и вернется сюда, я пожалую ему свое тело с доброй душой.
Этот обет был выслушан присутствующими не без удивления, а Солсбери слегка покраснел.
Но графиня Солсбери даже не повернула в сторону говорившей свою головку, увенчанную короной роскошных темных кос, только губы слегка тронула насмешливая улыбка да глаза, обведенные лиловатой тенью, она подняла к Эдуарду, как бы говоря: «Чего же нам-то после этого стесняться…»
Робер поочередно останавливался возле каждого сидевшего за столом, но, чтобы каждый успел собраться с мыслями, какой ему дать обет и выбрать себе личного врага, приказывал менестрелям играть на виолах, а отроковицам петь. Граф Дерби, отец той самой щебетуньи, что громогласно дала чересчур смелый обет, поклялся вызвать на бой графа Фландрского; новоиспеченный граф Сеффолк выбрал себе короля Богемского; юный Готье де Мони, только недавно посвященный в рыцари и не успевший растратить свой пыл, сумел расшевелить всю компанию, заверив, что превратит в пепел все города, лежащие по соседству с Геннегау и принадлежащие Филиппу Валуа, и пусть до тех пор он будет смотреть на свет божий одним глазом.
– Ну что ж, пусть будет так, – сказала сидящая с ним рядом графиня Солсбери, прикрыв двумя пальчиками его правый глаз, – и когда вы сдержите ваше слово, тогда я отдам свою любовь тому, кто любит меня сильнее прочих, – вот и я тоже дала обет.
Во время всей этой небольшой речи графиня пристально глядела на короля. А простодушный Готье, поверивший, что клятва красавицы адресована ему, так и сидел, прижмурив один глаз, даже когда графиня убрала свои пальчики. Но и этого показалось ему мало, он вытащил красный носовой платок и завязал им глаз, чтобы тот действительно оставался закрытым, и затянул платок узлом на затылке.
Минута подлинного величия миновала. Раздались смешки вперемешку с похвальбой, каждый старался превзойти собеседника. Блюдо с цаплей уже перекочевало к мессиру Иоганну Геннегау, хотя тот в душе сильно надеялся, что вся эта комедия худо обернется для ее творца. Никому не дано поучать его в вопросах чести, и поэтому на его румяном лице читалась явная досада.
– Когда мы сидим в таверне и изрядно выпиваем, – обратился он к Роберу, – то легко даем любые обеты и клятвы, лишь бы привлечь к себе взоры дам. И тогда кажется, будто находимся мы среди одних Оливье, Роландов и Ланселотов. Когда же мы бросаемся в атаку на наших боевых конях, прикрываясь щитом, нацелив на неприятеля острие копья, и когда сближаемся с врагом, мы не в силах побороть ледяного холода страха, о, сколько же хвастунишек предпочли бы отсидеться в такую минуту где-нибудь в погребе!.. Король Богемский, граф Фландрский и маршал Бертран – такие же бесстрашные рыцари, как и мы с вами, дражайший кузен Робер, и вы сами это прекрасно знаете! Ибо, хоть нас с вами обоих, правда по различным причинам, прогнали от французского двора, мы их достаточно хорошо узнали; они еще полностью не рассчитались с нами! Что касается меня лично, то я просто даю обет в том, что, ежели наш король Эдуард захочет пройти через Геннегау, я неизменно буду при нем и буду поддерживать его дело. И это будет уже третья война, где я верой и правдой послужу ему!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.