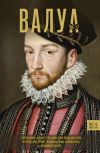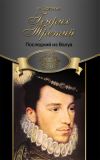Текст книги "Лилия и лев"

Автор книги: Морис Дрюон
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава X
Судилище
В самой середине подмостков, на кресле с подлокотниками, заканчивающимися львиными мордами, сидел Филипп VI с короной на голове и в королевской мантии. Над ним колыхался шелковый балдахин, вышитый гербами Франции; время от времени король наклонялся то влево, к своему кузену, королю Наваррскому, то вправо, к своему родичу, королю Богемии, призывая их оценить его долготерпение и доброту.
В ответ король Богемии в негодовании понимающе тряс своей красивой каштановой бородой. Ну как, скажите, мог рыцарь, пэр Франции, словом, как мог Робер Артуа, принц крови, вести себя подобным манером, ввязаться в грязные махинации, о чем как раз сейчас зачитывал судья, как мог опозорить себя, вожжаясь с разным темным сбродом?
Среди светских пэров впервые восседал наследник престола, которого только что по приказу отца сделали герцогом Нормандским, – принц Иоанн, неестественно высокий для своих тринадцати лет мальчик, с хмурым, тяжелым взглядом и с непомерно длинным подбородком.
В свите принца состояли граф Алансонский – брат короля, герцоги Бурбонский и Бретонский, граф Фландрский, граф Этампский. Пустовали лишь два табурета: один – предназначенный для герцога Бургундского, который, как участник тяжбы, не мог заседать в судилище, другой – для короля Англии, которого на сей раз даже никто не представлял.
Среди церковных князей присутствующие узнавали монсеньора Жана де Мариньи, графа-епископа Бовезского, и Гийома де Три, архиепископа Реймского.
Желая придать судилищу еще больше торжественности, король пригласил также архиепископов Санского и Экского, епископов Аррасского, Отенского, Блуазского, Форезского, Вандомского, герцога Лотарингского, графа Вильгельма Геннегау и его брата Иоганна и всех высших сановников короны: коннетабля, обоих маршалов, Миля де Нуайе, сиров Шатийонского, Суайекурского и Гарансьерского, которые входили в Малый совет, и еще многих других, сидящих вокруг подмостков вдоль стен большой Луврской залы, где происходило судилище.
Прямо на полу, где были разостланы квадратные куски ткани, пристроились, скрестив ноги, те, кто проводил дознание, и советники парламента, а также судейские писцы и священнослужители рангом пониже.
Перед королем, на расстоянии шести шагов, стоял главный прокурор Симон де Бюсси в окружении тех, кто вел расследование, и уже третий час подряд читал вслух по листкам свою обвинительную речь, самую длинную из тех, что ему когда-либо доводилось произносить. Пришлось ему начать с самого истока возникновения дела о графстве Артуа, еще с конца минувшего века, припомнить о первой тяжбе 1309 года, прекращенной Филиппом Красивым, о вооруженном мятеже, поднятом Робером против Филиппа Длинного в 1316 году, о второй тяжбе 1318 года и лишь затем перейти к изложению теперешнего дела о лжеклятвах, принесенных в Амьене, о первом дознании и контрдознании, о бесчисленных свидетельских показаниях, о совращении свидетелей, о подложных бумагах, о взятии под стражу сообщников.
Все эти факты, которые один за другим вытащили на свет божий, подробно объяснили собравшимся и прокомментировали в их последовательности, в их сложнейшем взаимопереплетении, представляли собой не только материал для крупнейшего гражданского процесса и для неслыханного доныне уголовного дела, но и непосредственно касались истории французского государства за последние четверть века. Присутствующие были одновременно заворожены и ошеломлены – ошеломлены сообщениями прокурора и заворожены тем, что на суде была показана тайная жизнь знатного барона, перед которым еще вчера все трепетали, с которым каждый старался быть в дружбе и который в течение столь долгого времени вершил дела всей Франции! Скандальное разоблачение тайны Нельской башни, пребывание Маргариты Бургундской в узилище, расторжение брака Карла IV, Аквитанская война, отказ от Крестового похода, поддержка, оказанная Изабелле Английской, выборы Филиппа VI – всему этому душой был Робер Артуа: это по мановению его руки творилась история, или же он направлял ее в желательное для него русло, движимый единственной мыслью, единственным стремлением – графство Артуа, наследство Артуа!
Сколько же присутствовало здесь таких, что обязаны были своим титулом, своей должностью, своим богатством этому клятвопреступнику, этому подделывателю родовых грамот, этому преступнику… начиная с самого короля!
Скамья подсудимых была чисто символически занята двумя вооруженными приставами, державшими огромный шелковый щит с изображением герба Робера «с лилиями Франции, разделенный на четыре части пурпурового цвета, и в каждой части по три золотых замка».
И всякий раз, когда прокурор упоминал имя Робера, он поворачивался к этому куску шелка, словно бы к живому человеку.
Наконец он дошел до бегства графа Артуа:
– Невзирая на то что местопребывание ему назначено было через мэтра Жана Лонкля, бальи Жизора, в обычных его жилищах, упомянутый выше Робер Артуа, граф Бомон, не предстал перед судом государя нашего короля и его судейской палаты, будучи вызван на день двадцать девятый месяца сентября. Со всех сторон доходили до нас слухи, что лошади и сокровища упомянутого выше Робера в Бордо погружены были на корабль, а его золотые и серебряные монеты неправедным путем вывезены за пределы государства, а сам он, не представ перед королевским правосудием, бежал за рубеж.
Шестого октября, года 1331, некая Дивион, признавшая себя виновной во многих злодеяниях, совершенных ради выгоды оного Робера и своей собственной, в том числе в подделке важнейших бумаг, чужим почерком писанных, а равно подделке печатей, сожжена была в Париже на площади Пурсо, и прах ее развеян в присутствии его светлости герцога Бретонского, графа Фландрского, сира Иоганна Геннегау, сира Рауля де Бриена, коннетабля Франции, маршалов Робера Бертрана и Матье де Три и мессира Жана де Милона, прево города Парижа, который и доложил королю об исполнении…
Перечисленные выше потупились: до сих пор в ушах их отдавались вопли Дивион, привязанной к столбу, до сих пор в глазах полыхали отблески пламени, пожиравшего ее пеньковое платье, вздувшуюся кожу на ногах, лопавшуюся от огня, не забыли они также страшного зловония, которое гнал им в лицо октябрьский ветер. Так кончила дни свои любовница бывшего епископа Аррасского.
– Октября двенадцатого и четырнадцатого дня мэтр Пьер, советник из Оксера, и Мишель Парижский, бальи, уведомили мадам де Бомон, супругу оного Робера, сперва в Жуи-ле-Шатель, затем в Конше, Бомоне, Орбеке и Катр-Маре, где обычно пребывание она имеет, что король отсрочил суд на четырнадцатое декабря. Но оный Робер и в то число вторично перед судом не предстал. По великой милости своей сир, король наш, вновь суд отсрочил, считая две недели после праздника Сретения, и, дабы оный Робер сослаться не мог на то, что ему это неведомо, велено было сделать громогласно объявление сначала в верхней палате парламента, затем за мраморным столом в большой дворцовой зале и после с тем же поручением в Орбек и Бомон, а также и в Конш отряжены были оные Пьер из Оксера и Мишель Парижский, где им, однако ж, беседу иметь не удалось с мадам де Бомон, но перед дверью опочивальни ее они в полный голос постановление прочли, так что она не услышать не могла…
Всякий раз, когда упоминалось имя мадам де Бомон, король с силой проводил всей ладонью по лицу, так что даже сворачивал на сторону свой мясистый, солидный нос. Ведь речь-то шла о его сестре!
– В парламенте, где король должен был вершить правосудие в указанное выше число, оный Робер Артуа и на сей раз не предстал, но, однако ж, представительство за себя поручил мэтру Анри, старейшине Брюсселя, и мэтру Тьебо из Мо, канонику Камбре, уполномочив их место его занять и изложить причины отсутствия своего. Но коли судилище отсрочено было на понедельник, считая две недели после дня Сретения Господня, а уполномочивавшие их бумаги вторником были подписаны, по причине сей полномочия их признаны не были и в третий раз неявка перед судилищем была вменена подзащитному в вину. А как стало известно и ведомо, что тем временем Робер Артуа найти себе убежище пытался поначалу у графини Намюрской, сестры своей, но государь наш король распорядился запретить графине Намюрской оказывать помощь и принимать у себя мятежника, и она отказала брату своему, оному Роберу, пребывать во владениях своих. После чего оный Робер вознамерился убежище себе испросить у его светлости графа Вильгельма в его государстве Геннегау, но по настоятельной просьбе государя нашего короля граф Геннегау отказал оному Роберу пребывать во владениях своих. И еще упомянутый выше Робер попросил убежища и приюта у герцога Брабантского, каковой герцог по просьбе государя нашего короля не склоняться на мольбы оного Робера ответил поначалу, что он-де не вассал короля Франции и волен принимать на землях своих любого, кого ему заблагорассудится и кому гостеприимство оказывать ему по душе. Но затем герцог Брабантский внял увещеваниям Иоганна Люксембургского,[27]27
Но затем герцог Брабантский внял увещеваниям Иоанна Люксембургского… – Эти «увещевания» зашли довольно далеко, поскольку Иоанн Люксембургский, чтобы угодить Филиппу VI, собрал коалицию и угрожал герцогу Брабантскому вторгнуться в его земли. Герцог Брабантский предпочел удалить Робера д’Артуа, но выторговал при этом выгодную для себя сделку: брак своего старшего сына с дочерью короля Франции. Иоанн Богемский тоже был вознагражден за свое вмешательство заключением брака его дочери Бонны Люксембургской с наследником короля Франции, Иоанном Нормандским.
[Закрыть] короля Богемии, и наиблагопристойнейшим образом Робера Артуа выпроводил из герцогства своего.
Филипп VI повернулся сначала к графу Геннегау, затем к королю Иоганну Богемскому, и взгляд его выражал дружескую признательность, не без примеси, однако, печали. Король явно страдал, да, впрочем, и не он один. Пусть Робер Артуа и впрямь повинен во всех этих преступлениях, люди, близко знавшие его, как бы воочию представили себе, как мчится беглец из одного маленького графства в другое, где его принимают на день, а назавтра изгоняют прочь, и как забирается он все дальше и дальше, но лишь затем, чтобы снова его изгнали. Ну почему он с таким неистовым ожесточением искал собственной погибели, когда король до последней минуты готов был протянуть ему руку помощи?
– Невзирая на то что расследование закончено, после того как выслушаны семьдесят шесть свидетелей, из коих четырнадцать находятся в королевских тюрьмах, и королю все ведомо стало, невзирая на то что все перечисленные злоупотребления явными стали, государь наш король во имя старой дружбы дал знать оному Роберу Артуа, что выдано ему будет охранное свидетельство, дабы мог он возвратиться в наше государство и преступить за рубежи его, буде на то его желание, и не будет ему причинено никакого зла, ни ему, ни людям его, дабы мог он выслушать выдвинутые против него обвинения, представить доказательства в защиту свою, признать вину свою и получить помилование. Однако ж оный Робер не пожелал преклонить слух свой, и отверг предложенную ему милость, и вернуться в королевство намерения не возымел, а во время скитаний своих сошелся с разными дурными людьми, изгнанными за рубежи Франции, и врагами короля; и многие слышавшие подтверждают, что неоднократно он говорил о своем намерении погубить мечом или через порчу канцлера, маршала де Три, и многих советников государя короля нашего и те же угрозы произносил против самого короля.
По рядам прошел не сразу смолкший ропот негодования.
– Все вышесказанное стало нам ведомо и достоверно ввиду того, что оный Робер Артуа в последний раз получил отсрочку, о чем во всеуслышание заявлено было, на эту нынешнюю среду, восьмое апреля, дня перед Вербным воскресеньем, и призывают его явиться в четвертый раз…
Симон де Бюсси прервал чтение, махнул приставу-булавоносцу, а тот громогласно провозгласил:
– Мессир Робер Артуа, граф Бомон-ле-Роже, входите.
Все взоры невольно обратились к двери, как будто присутствующие и впрямь ждали, что войдет обвиняемый. Так прошло несколько секунд среди гробового молчания. Затем пристав пристукнул булавой по полу, и прокурор продолжал:
– …И, учитывая, что оный Робер снова закон преступил, от имени государя короля нашего выносим вышеозначенный обвинительный приговор: Робер лишается всех своих титулов, прав и преимуществ пэра Франции, равно как и всех прочих своих титулов, сеньорий и владений; сверх того, все добро его, земли, замки, дома и все имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее ему, конфисковано будет и передается казне, дабы распоряжались им по воле короля; сверх того, все гербы в присутствии пэров и баронов будут уничтожены, и не станет их отныне ни на стягах его, ни на печати, а сам он навсегда изгоняется из пределов Французского королевства с запрещением всем вассалам, союзникам, родичам и друзьям государя короля нашего давать ему приют и убежище; вынесенный здесь приговор будет глашатаями и трубачами громогласно оглашаться на всех главных перекрестках Парижа, и приказано бальи городов Руана, Жизора, Экса и Буржа, равно как и сенешалям Тулузы и Каркассона, поступить точно так же… именем короля.
Мэтр Симон де Бюсси замолк. Король, казалось, погрузился в свои мысли. Рассеянный взгляд его обегал ряды присутствующих. Потом он склонил голову, сначала направо, затем налево, и произнес:
– Жду вашего совета, мои пэры. Если все молчат, значит одобряют!
Ни одна рука не поднялась, ни одни уста не промолвили ни слова.
Ладонью Филипп VI хлопнул по львиной голове, которой заканчивался подлокотник кресла:
– Решение принято!
Тут прокурор приказал двум приставам, державшим шелковый герб Робера Артуа, подойти к подножию трона. Канцлер Гийом де Сент-Мор, один из тех, кого обещался покарать из своей дали изгнанник Робер, подошел к гербу, взял из рук одного из приставов меч и ударил по ткани. С противным скрипом шелк с нарисованным на нем гербом, рассеченный мечом, разодрался пополам.
Пэрство Бомон приказало долго жить. Тот, ради кого оно было создано, принц крови, потомок Людовика VIII, гигант, прославленный своей силой, неутомимый интриган, превратился в простого изгоя – он уже не принадлежал более тому государству, которым правили его предки, и ничто в этом государстве не принадлежало ему.
В глазах этих пэров и сеньоров, всех этих людей, для коих гербы были не просто знаком владычества, но и самой сутью их существования, по приказу которых эти эмблемы красовались на крышах замков, на чепраках лошадей, развевались на копьях, были вышиты на груди их парадного одеяния, на плащах их оруженосцев, на ливреях их слуг, намалеваны на креслах и стульях, выгравированы на посуде, которые, как клеймом, отмечали людей, животных и вещи, зависящие от их воли или составляющие их личное достояние, – в глазах этих пэров и сеньоров удар меча по куску шелковой ткани был своего рода не церковным, а светским отлучением, был куда позорнее плахи, салазок для перевозки преступников или виселицы. Ибо смерть заглаживает вину, а обесчещенный так и умирает обесчещенным.
«Но коли человек жив, еще не все потеряно», – думал Робер Артуа, бродя за пределами своей отчизны, без толку колеся по враждебным ему дорогам в поисках новых всесветных злодеяний.
Часть четвертая
Зачинщик войны
Глава I
Изгой
Целых три года Робер Артуа, как подстреленный тигр, бродил у рубежей французского государства.
Родич королей и принцев всей Европы, племянник герцога Бретонского, дядя короля Наваррского, брат графини Намюрской, свояк графа Геннегау и принца Тарантского, кузен короля Неаполитанского, короля Венгерского и еще многих других, он на сорок шестом году жизни превратился в одинокого бродягу, перед которым одна за другой захлопывались двери всех замков. Денег у него было в избытке, недаром он взял у сиенских банкиров заемные письма, но никогда ни один паж не заглядывал в ту харчевню, где останавливался Робер, чтобы попросить его отобедать в замке от имени своего сеньора. Случались в этих краях и турниры. Каждый ломал голову, как бы половчее не пригласить Робера Артуа, этого изгоя, этого подделывателя бумаг, которого прежде усадили бы на самое почетное место. Управитель почтительным, но ледяным тоном передавал ему приказ: его светлость граф сюзерен просит Робера Артуа избрать себе для прогулок какое-нибудь более отдаленное местечко. Ибо его светлость граф сюзерен, или герцог, или маркграф отнюдь не желал ссориться с королем Франции и отнюдь не стремился оказывать гостеприимство опозорившему себя человеку, лишенному гербов и собственного знамени.
И Робер пускался куда глаза глядят в сопровождении одного лишь своего слуги Жилле де Неля, весьма подозрительного субъекта, который вполне созрел для петли, но зато был слепо предан своему хозяину, как некогда был предан ему Лорме. За это Робер платил ему тем, что дороже денег, – близостью знатного сеньора, попавшего в беду. Сколько вечеров во время своих блужданий провели они, играя в кости, пристроившись на уголке стола захудалой харчевни! И когда им уж очень становилось невтерпеж, оба дружно направлялись в первое попавшееся непотребное заведение, а во Фландрии их не счесть, да и дебелых девок предостаточно.
Именно в таких местах и доходили до Робера вести о том, что делается во Франции, узнавал он их от торговцев, возвращавшихся с ярмарки, или от содержательниц непотребных домов, которые умели разговорить путешественников.
Летом 1332 года Филипп VI оженил своего старшего сына Иоанна, герцога Нормандского, на дочери короля Богемии Бонне Люксембургской. «Ах, так вот почему Иоганн Люксембургский велел своему родичу выставить меня из Брабанта, – решил Робер, – вот какой ценой оплатили его услуги!» По рассказам очевидцев, празднества в честь этого бракосочетания, состоявшегося в Мелене, пышностью своей превосходили все пиры и торжества, бывшие доселе.
А Филипп VI, воспользовавшись тем, что в Мелен съехалось разом столько принцев крови и высшей знати, велел в торжественной обстановке пришить к своей королевской мантии крест. Ибо на сей раз вопрос о Крестовом походе был решен окончательно. Петр Палюдский, патриарх Иерусалимский, тоже прибывший в Мелен, вещал с соборной кафедры, и все шесть тысяч приглашенных на бракосочетание, в том числе тысяча восемьсот немецких рыцарей, дружно лили слезы умиления. Крестовый поход проповедовал в Руане епископ Пьер Роже, только что получивший эту епархию после Аррасской и Санской. Поход был назначен на весну 1334 года. В портах Прованса – в Марселе, в Эг-Морте – спешно строили целую флотилию. А епископ Мартиньи уже плыл по морям, ибо уполномочен он был передать вызов на бой Египетскому Судану!
Но ежели короли Богемии, Наварры, Майорки, Арагона, состоявшие, так сказать, в прихлебателях у короля Франции, ежели герцоги, графы и крупнейшие бароны, а также некоторые рыцари, любители военных авантюр, с восторгом последовали примеру французского короля, то провинциальные дворянчики с куда меньшим воодушевлением брали из рук проповедников красные, вырезанные из сукна кресты и не так уж рвались вязнуть в египетских песках. А король Англии, в свою очередь, отмалчивался, будто никакого похода в Святую землю и не предполагалось, а сам спешно обучал свой народ военному делу. И дряхлый папа Иоанн XXII, к тому же жестоко разругавшийся с Парижским университетом и его ректором Буриданом по вопросу о блаженном видении, тоже ухом не вел. Он только в весьма сдержанных выражениях благословил Крестовый поход, но явно жался, когда его просили принять участие в общих на это расходах… Зато торговцы пряностями, благовониями, шелками, священными реликвиями, а также оружейники и кораблестроители, что называется, из кожи вон лезли, готовясь к походу.
Филипп VI уже назначил Регентский совет на время своего отсутствия и взял клятву с пэров, баронов, епископов[28]28
…и взял клятву с пэров, баронов, епископов… – 2 октября 1332 г. присяга, которую потребовал Филипп VI от своих баронов, была клятвой в верности герцогу Нормандскому, «который по праву наследник и государь Французского королевства». Не будучи прямым наследником короны и сам получивший ее лишь по выбору пэров, Филипп VI обратился к обычаю выборной монархии времен первых Капетингов.
[Закрыть] в том, что, ежели ему суждено окончить дни свои в заморских краях, они беспрекословно будут во всем повиноваться сыну его Иоанну и коронуют его на престол без дальних слов.
«Значит, Филипп не так-то уж уверен в законности своего правления, – решил про себя Робер Артуа, – раз он заранее хлопочет о том, чтобы сына его уже сейчас признали наследником престола».
Сидя за столом в харчевне перед кружкой пива, Робер не посмел признаться своим случайным собутыльникам, сообщившим ему эту весть, что он лично знаком с великими мира сего; не посмел он также признаться им, что состязался на копьях с королем Богемским, раздобыл митру для Пьера Роже, что подбрасывал на коленях теперешнего короля Англии и делил застолье с самим папой. Но запомнил все в надежде, что рано или поздно сумеет обернуть эти события себе на пользу.
Его держала только ненависть. Сколько лет ему отпущено еще прожить на этом свете, столько лет при нем останется эта оголтелая ненависть. В какой бы харчевне ни проводил он ночь, эта ненависть будила его с первым солнечным лучом, пробивавшимся в незнакомую комнату сквозь щелочку ставен. Ненавистью, как солью, он приправлял свою еду, ненависть стала его путеводной звездой.
Принято считать, что люди, сильные духом, как раз те, что умеют признать свою неправоту. Но, быть может, еще сильнее тот, кто никогда ее не признает. Робер принадлежал именно к этим, ко вторым. Всю вину он валил на других, на мертвых и на живых: на Филиппа Красивого, на Ангеррана, на Маго, на Филиппа Валуа, на Эда Бургундского, на канцлера Сент-Мора. И от одного перегона до следующего все рос и рос список его врагов, куда он внес уже и свою сестру графиню Намюрскую, и своего свояка Геннегау, и Иоганна Люксембургского, и герцога Брабантского.
В Брюсселе он приблизил к себе весьма подозрительную личность, стряпчего по имени Ги, и его секретаря Вертело – так, с этих двух сутяг, он и начал сколачивать свой двор.
В Лувене стряпчий Ги раскопал монаха, невзрачного на вид и весьма неблаговидного поведения, некоего брата Анри де Сажбрана, который больше понаторел в ворожбе и угодных Сатане делах, нежели в молитвах и милосердии. Припомнив уроки Беатрисы д’Ирсон, бывший пэр Франции с помощью брата Анри де Сажбрана давал христианские имена вылепленным из воска фигуркам и протыкал их иглой, приговаривая: «Вот это Филипп, это Сент-Мор, а это Матье де Три».
– А вот эту, видишь, эту, постарайся-ка проткнуть от макушки до пяток, ибо звать ее Жанна, она же хромоногая королева Франции. Только никакая она не королева, а сущая дьяволица!
Он раздобыл также симпатических чернил и писал на пергаменте заклинания, кои должны были упокоить вечным сном того, чье имя упоминалось в заклятии. Правда, требовалось еще сунуть пергамент в постель того, от кого надо было отделаться! Брат Анри де Сажбран, получив некоторую толику денег и целую кучу обещаний, отправился во Францию под видом нищенствующего монаха, запрятав под рясу целый пук заклятий, долженствующих упокоить вечным сном всех упомянутых в этих бумажонках.
Со своей стороны Жилле де Нель вербовал наемных убийц, воров по призванию, всех сумевших убежать из тюрьмы молодчиков со зверскими рожами, которые готовы были на любое преступление, лишь бы не гнуть на поле спину. И когда Жилле вымуштровал своих доблестных вояк, Робер отрядил их во Французское королевство и повелел действовать преимущественно в дни больших сборищ или празднеств.
– Когда все глаза устремлены на ристалища или же в ушах стоит звон от проповедей, призывающих к Крестовому походу, спина являет собой превосходную цель для кинжала.
После многодневной гонки по дорогам Робер сильно исхудал; морщины избороздили гладкое лицо, и злоба, сжигавшая его с минуты пробуждения до поздней ночи, не оставлявшая его даже во сне, придала его чертам какую-то законченность. Но в то же самое время от всех своих многочисленных приключений он помолодел душой. Ему нравилось в новых странах пробовать новые кушанья, да и новых женщин тоже.
И если его попросили покинуть Льеж, то не за его былые прегрешения, а за то, что он нанял себе дом у некоего господина Аржанто и с помощью верного своего Жилле превратил его в настоящий притон с веселыми девками, так что шум по ночам мешал спать соседям.
Выпадали у него и славные деньки, выпадали и скверные, как, скажем, тот день, когда он узнал, что брата Анри де Сажбрана схватили в Камбре вместе со всем его грузом заклятий; был и другой, не лучше, когда один из его наемных убийц, вернувшись, объявил, что все его дружки не сумели пробраться дальше Реймса и что гниют они сейчас в тюрьмах «короля-подкидыша».
А тут еще Робер заболел, причем самым глупым образом. Как-то, когда он тихо жил в домике на самом берегу канала, где происходили состязания на шестах с лодок, он любопытства ради просунул голову до самой шеи в отверстие верши, которой было затянуто окошко. И просунул так здорово, что освободился лишь с трудом, расцарапав себе все щеки о проволоку. Царапины загноились, и вскоре у него началась лихорадка; четыре дня он стучал зубами в ознобе и уже готовился отойти в лучший мир.
Фламандские края ему окончательно опостылели, и он отправился в Женеву. Тут, болтаясь без цели по берегам озера, он узнал, что схватили его супругу графиню де Бомон и его троих сыновей. Филипп VI, желая наказать Робера, не остановился перед тем, чтобы заточить свою собственную сестру сначала в Немурскую башню, а затем в Шато-Гайар. В узилище Маргариты! Воистину Бургундия сумела взять реванш!
Из Женевы Робер Артуа под вымышленным именем, в скромной одежде горожанина пробрался в Авиньон. Тут он пробыл две недели и усиленно плел интриги в защиту своего правого дела. Столица христианского мира утопала в злате и окончательно погрязла во грехах. Только здесь тщеславие, суетность, пороки скрывались не под турнирными латами, нет, скрывались они под сутанами священнослужителей; свидетельством мощи были не наборная сбруя чистого серебра или шлем, украшенный страусовыми перьями, а митры, украшенные драгоценными камнями, золотые дароносицы, пожалуй вдвое тяжелее, чем кубок короля. Здесь сводились счеты не на поле боя, здесь ненавидели ближнего в ризнице. Исповедальни и те стали ненадежными, а женщины были изменчивее, злее, порочнее, чем где бы то ни было, коль скоро только путем греха они могли пробиться в знать.
И тем не менее никто не пожелал наживать себе неприятности, связавшись с бывшим пэром Франции. Они делали вид, будто такого не помнят. Даже в этом болоте Робер был как зачумленный. И к списку его врагов прибавились новые имена.
Однако ему отрадно было слышать от людей, что дела его кузена Валуа идут не так уж блестяще, как можно было подумать. Церковь подкапывалась под Крестовый поход. Если Филипп VI со своими союзниками уплывет в заморские края и оставит Западную Европу на милость императора и английского короля, что-то с нами будет? И не дай бог, если эти два правителя еще к тому же и объединятся… Общий поход уже отложили на два года. Кончилась весна 1334 года, а еще ничего не было готово. Теперь шли разговоры уже о 1336 годе.
А Филипп VI, лично председательствовавший на сборище парижских богословов, состоявшемся на холме Сент-Женевьев, грозил выпустить грамоту против девяностолетнего старика папы и обвинить его в ереси, если тот не отречется от своих теологических заблуждений. Впрочем, кончина Иоанна XXII казалась всем неминуемо близкой – но так считали уже целых восемнадцать лет!
«Главное – выжить, – твердил про себя Робер, – выстоять, дождаться часа, когда в выигрыше окажусь я».
Кое-кто из его врагов уже уснул вечным сном, и это вселяло надежду. В конце минувшего года скончался главный казначей Форже; вслед за ним умер канцлер Гийом де Сент-Мор; тяжко заболел наследник престола Иоанн Нормандский, и, по слухам, даже самому Филиппу VI что-то неможется. Видать, ворожба Робера оказалась не таким уж никчемным занятием…
Во Фландрию Робер возвратился в одеянии послушника. И впрямь странный монах получился из этого великана! Капюшон его плыл над толпой, и он шествовал по двору аббатства военным шагом и просил приюта, в коем не отказывают людям святой жизни, просил тем же самым голосом, каким требовал у оруженосца свое копье!
В городе Брюгге, сидя в монастырской трапезной и склонившись над миской с похлебкой на краешке длинного, в сальных пятнах стола, делая вид, что шепчет про себя молитвы, хотя из каждой помнил только по два слова, Робер вслушивался в голос брата-чтеца, который, устроившись в нише, выбитой как раз на половине стены, читал жития святых. Унылый, монотонный голос взлетал к сводчатому потолку, а оттуда обрушивался на застолье монахов, и Робер думал: «Почему бы и не кончить вот так? Покой, всеобъемлющий монастырский покой, свобода от всех и всяческих забот, отказ от мирской суеты, крыша над головой, размеренная по часам жизнь, конец бессмысленным скитаниям…»
Даже самый непоседливый, самый тщеславный, самый жестокий человек испытывает подчас эту тягу к покою, жаждет положить конец бурной своей деятельности. К чему вся эта борьба, все эти напрасные усилия, раз не миновать человеку превратиться в могильный прах? Робер подумывал об этом так же, как лет пять назад подумывал удалиться от света вместе с женой и детьми и зажить спокойной жизнью крупного сеньора-землевладельца. Но такие мысли нестойки. А Роберу они вечно приходили с запозданием, в ту самую минуту, когда уже назревало какое-нибудь новое приключение и возвращало к тому, что было подлинным его призванием, – другими словами, к действию и битвам.
Два дня спустя Робер Артуа повстречался в Генте с Яковом ван Артевельде.
Был он примерно ровесником Робера – тоже на пятом десятке. Квадратное лицо, большое брюхо, крутые бедра, этот обжора и выпивоха никогда не терял разума от лишней кружки вина. В молодости он состоял в свите Карла Валуа, когда тот находился на острове Родосе, и постранствовал с ним немало; Европу он знал назубок. Этот пивовар, крупный торговец сукном, вторым браком женился на девушке благородного происхождения.
Человек высокомерный, жесткий и изобретательный, он к тому же скоро стал влиятельным лицом сначала в родном своем городе Генте, который прибрал к рукам, а вслед за тем и во всех крупнейших фламандских коммунах. Когда сукновалы, суконщики, пивовары, в чьих руках сосредоточились все богатства Фландрии, желали сделать какое-нибудь представление сиятельному графу или даже самому королю Франции, они обращались именно к Якову ван Артевельде, дабы передал он их пожелания или изложил их претензии своим звучным голосом и ясными словами. Титула у него никакого не имелось, был он просто мессиром ван Артевельде, но все перед ним гнули шею. Врагов у него хватало с избытком, и в дорогу он пускался только с эскортом из шестидесяти до зубов вооруженных слуг, и те терпеливо ждали у ворот дома, куда их хозяин был приглашен на обед.
Артевельде и Робер Артуа оценили друг друга и чуть ли не с первого взгляда поняли, что люди они одного пошиба, отважные, ловкие, здравомыслящие, и оба одержимы страстью господствовать.
То обстоятельство, что Робер изгнанник, ничуть не смущало Артевельде, напротив, эта встреча с бывшим знатным сеньором, с зятем короля, некогда самым могущественным человеком во Франции, а теперь ее заклятым врагом, могла обернуться для Гента неожиданно большой удачей. А в глазах Робера этот тщеславный купец заслуживал куда больше уважения, нежели дворянчики, захлопывающие перед его носом двери своих замков. Артевельде враждебно относился к графу Фландрскому, сиречь и к Франции, и пользовался среди сограждан неограниченным влиянием – а это главное.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.