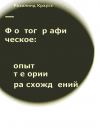Автор книги: Наль Подольский
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
А вот Александр Китаев по гороскопу оказался на границе Скорпиона и Стрельца, и по характеру больше близок к последнему. Он склонен к объемному, масштабному изображению города, и постоянно применяет открытую композицию. Замкнутую композицию он использует только в портрете и ню, да и то не всегда. Натюрморт он вообще не снимает.
О центрах композиции и о фанерных щитах
В рисунке и живописи различают геометрический и смысловой центры композиции. Эти понятия существенны и для фотографии.
Геометрический центр, приблизительно, есть точка пересечения основных композиционных линий. Смысловой центр – точка или небольшой участок изображения, куда постоянно возвращается взгляд при рассматривании фотографии, а также когда мы пытаемся осмыслить снимок в целом или резюмировать свое впечатление. Но в геометрический центр зритель тоже постоянно возвращается, поскольку глаз при осмотре в основном следует композиционным линиям. Если оба центра расположены в разных местах, циркуляция взгляда между ними неизбежна – по сути, императив для зрителя, задающий стартовый импульс энергии для общения с фотоснимком.
Отсюда становится понятной рекомендация умудренных творчеством мастеров и учителей композиции – не следует геометрический и смысловой центры совмещать в одной точке.
«Ну вот еще! – скажет иной фотограф. – Только этих центров мне не хватало!»
Но все же центры композиции стоят внимания фотографа, и весьма поучительным примером может служить портретная серия, отснятая когда-то Александром Китаевым в один из его ранних периодов. Он ставил модель в угол комнаты, но не в такой угол, где наказывают, а в почетный. В композиционной схеме было всего три линии – вертикальная (стык двух стен) и две, в ракурсе наклонные, – стыки пола и стен (либо контуры предметов, которые в любой мастерской обычно расставляются вдоль стен). Получалось нечто похожее на три оси трехмерной системы координат, и в точке их пересечения, в начале координат, размещался портретируемый. Геометрический и смысловой центры оказывались в одной точке, да еще в некоторых снимках и в геометрическом центре листа. Эффект от композиции неожиданно получился унылый. У взгляда зрителя просто не было повода для какого-либо движения внутри фотографического пространства. Любой персонаж, стоящий в углу, превращался автоматически в ВИП-персону, но разглядывать его лицо почему-то не хотелось. Все это напоминало фанерные щиты уличных фотографов-будочников, их в Ленинграде было много после войны, в середине прошлого века. На щитах были намалеваны гигантские картины, например истребитель, у пилота которого вместо лица была дыра. Портретант просовывал голову в дыру и сразу же становился военным летчиком и героем.
В общей сложности в китаевский ВИП-угол было поставлено всего несколько человек, в том числе художники Глеб Богомолов и Родион Гудзенко. Фотограф быстро утомился экспериментом и свернул его. С тех пор Китаев крайне редко совмещает оба центра композиции. Более того, время от времени он дает нам примеры оптимального размещения геометрического и смыслового центров.
Работа «Дом на Садовой»* – энергетически мощный снимок, и в нем содержится целый ряд интересных творческих находок. Подробно об этой фотографии написано ниже, в главе о космизме, а здесь мы остановимся только на том, какой удивительный эффект может дать удачное расположение центров композиции.
Дом снят с торца, и выглядит, скорее, как башня, устремленная в небо, в космос. Сила импульса, направленного вверх, поражает, и ее не удалось бы добиться только за счет двух вертикальных линий, контуров башни, и контраста между ярко освещенной башней и остальными, затемненными, частями кадра. Секрет снимка во многом в том, что место схождения основных композиционных линий, то есть геометрический центр, расположено у подножия башни, а смысловой центр – на ее верхушке. Взгляд зрителя все время курсирует между этими двумя точками, и потому в почти физическое ощущение прыжка в темное окно неба между облаками вкладывается энергия всей композиции. Снимок этот, в числе прочих смыслов, можно считать художественным изображением процесса накачки лазера.
Иногда Китаев вводит в снимок и третий полюс изображения – пункт внимания, который служит и точкой отсчета в движении глаза, и как бы подсказывает зрителю, откуда нужно начинать читать и понимать фотографию. На снимке «Фонтанка на рассвете»* такой пункт – крохотная фигурка прохожего в левой части листа.
В заключение главы заметим, что отношения фотографа к центрам композиции не всегда однозначны, хотя любой состоявшийся фотограф умеет создавать эти центры в нужном месте и выделять их по своему усмотрению. Геометрический центр композиции может располагаться не на пересечении композиционных линий, и вообще не на них. Например, в случае круговой композиции геометрический центр находится в центре круга. А в любом парном портрете смысловых центров два, а геометрический центр оказывается между ними. В известной фотографии Ольги Корсуновой «Портрет Леонида Десятникова»* тоже два смысловых центра – лицо композитора и гипсовая голова Сократа, которую он придерживает рукой, геометрический же центр, соответственно, посередине.
Гипероткрытая композиция – путь в неведомое
Чтобы исчерпать вопрос о замкнутой и открытой композициях, стоит поговорить заодно и о композиции, которую можно назвать гипер-, или сверх-, открытой. Если открытая композиция – такая, где композиционные линии замыкаются за пределами кадра, то в случае гипероткрытой некоторые композиционные линии уходят в даль, вообще не замыкаясь, либо замыкаясь в бесконечности. С точки зрения математики это одно и то же.
В живописи такого понятия нет, да оно там и не нужно. Все же единичные примеры использования гипероткрытой композиции в живописи привести можно. Известный советский художник Георгий Нисский был заворожен железной дорогой и писал ее много раз, преимущественно в часы заката, – станции и полустанки, светофоры и водокачки, и уходящие к горизонту рельсы, рельсы, рельсы.
В чем магия железнодорожных рельсов? В том, что они, будучи объектом сугубо материальным, уводят взгляд зрителя далеко за пределы всего реального, видимого и даже воображаемого – в бесконечность. Рельсы – единственное изделие рук человеческих, по своей геометрии соразмеримое с земным шаром.
В глубине сознания каждого человека гнездится стремление заглянуть за горизонт, которое у отдельных людей, например у древних мореплавателей, может принимать маниакальные формы. Вот отрывок из полинезийской морской песни.
Рукоять моего рулевого весла рвется к действию,
Имя моего весла – Кауту-ки-те-ранги.
Оно ведет меня к туманному, неясному горизонту
К горизонту, который расстилается перед нами,
К горизонту, который вечно убегает.
К горизонту который вечно надвигается.
К горизонту который внушает сомнения.
К горизонту который вселяет ужас.
Это горизонт с неведомой силой.
Горизонт, за который еще никто не проникал.
Над нами – нависающие небеса,
Под нами – бушующее море.
Впереди – неизведанный путь,
По нему должна плыть наша ладья.
Тяга к горизонту и за горизонт, с разной степенью осознанности, есть в любой творческой личности. Это, по сути, крайнее из доступных художнику проявлений пассионарности. Разумеется, вирус пассионарности присутствует и у фотографов, и для фотографа путь за горизонт реализуется именно с помощью гипероткрытой композиции. Здесь один из ярких примеров – Александр Китаев. Он постоянно пользуется открытой композицией для расширения внутреннего пространства снимка, то есть изначально склонен к пассионарности. Поэтому, по естественному ходу событий, он рано или поздно должен был прийти к гипероткрытой композиции, и его можно даже считать ее изобретателем, поскольку он первым применил ее в городском пейзаже (и не только) и первым же стал использовать вполне осознанно – с целью вывести взгляд и воображение зрителя в бесконечность.
Снимок «Фонтанка на рассвете»*. Это сложная по своей внутренней структуре фотография, и ее стоит рассмотреть повнимательнее. В левой части листа четыре прямые линии – контуры гранитного тротуара, контур поребрика и верхняя кромка перил – уводят взгляд в даль. Мы, конечно, знаем, что всякая набережная где-то заканчивается, но глаз видит другое – путь в бесконечность. Вдалеке виден смутный, но вполне читаемый легкий силуэт моста. Снимок рассветный, и чем больше мы удаляемся от первого плана, тем сильнее сгущается туман, в котором тонет конец видимой перспективы. Геометрический центр композиции – там, где уже близко сошедшиеся линии набережной пересекаются с мягкой линией моста. Смысловой центр композиции – в серебристом облаке над мостом, оно скрывает в себе то незнаемое и влекущее нечто, ради которого, собственно, и сделан снимок. Пункт внимания – крохотная фигурка одинокого прохожего слева от моста. Несмотря на ничтожные размеры и нечеткость силуэта, фигурка сразу привлекает взгляд, и сколько бы мы ни разглядывали снимок, глаз неизменно возвращается к ней. Этот человеческий муравьишко очень важен для сути снимка – он обозначает то место, где видимая картинка сменяется миром воображаемым, где зрительная реальность переходит в метафизическую беспредельность.
Туман здесь – очень важная часть композиции, именно он, сгущаясь вдали, возбуждает любопытство зрителя и провоцирует воображение. Китаев никогда не понимает композицию как чисто геометрическое построение. Если бы он ограничился лишь демонстрацией линейной перспективы, снимок получился бы скучным, сухим и не внушающим зрителю никаких мыслей о бесконечности.
Как и полагается хорошей композиции, она построена на контрастах. На контрасте между четким рисунком набережной и расплывчатыми силуэтами домов справа; между тяжестью гранита и чугуна и невесомостью спящего города; между лаконичной и жесткой тоновой гаммой набережной и тончайшими бело-серыми растяжками правой части листа.
Все перечисленное, вместе взятое, и образует композицию, которая надолго остается в памяти в виде некой красивой загадки.
Гипероткрытая композиция не обязательно должна основываться на максимальной эксплуатации геометрической перспективы. Например, Людмила Таболина умеет передавать ощущение беспредельности пространства исключительно с помощью свето-тоновых эффектов.
Композиция – брат мой, враг мой
Думать следует до и после съемки, но никогда – во время нее.
Анри Картье-Брессон
Мы уже достаточно обсудили различные аспекты композиции, чтобы теперь попытаться выяснить, в чем же состоят особенности отношений с композицией именно у фотографа.
Законы композиции никто специально не выдумывал. Их открыли и зашифровали в своих работах великие мастера живописи на протяжении многих поколений. Иногда коллизии художник – композиция носили весьма драматический характер. Известны случаи, когда, не справившись с собственным произведением, художник уничтожал свою картину. А темпераментные художники-графики иной раз рвут на клочки неудачные рисунки.
Диалог фотографа с композицией происходит иначе, чем у живописца. Художник, после первого наброска углем на холсте, да и потом, в процессе живописи, может не спеша обдумывать композицию и сравнивать ее с идеальными смутными видениями своего воображения. У фотографа же в момент съемки на это нет времени. Если он начнет думать о композиции, он тут же упустит свой кадр. Не говоря уже о том, что ему одновременно нужно думать и об освещении, о перемещении объектов в кадре и еще о многих других вещах. Возникает чуть ли не безвыходная ситуация – и думать о композиции некогда, и не думать о ней нельзя. Как же быть? Единственно правильный ответ – учиться у мастеров.
Александр Китаев, вспоминая такого интересного фотографа, как Борис Кудряков, однажды сказал: «Фотографом его назвать нельзя, потому что фотография для него не была единственным средством общения с окружающим миром». В этом почти парадоксальном заявлении содержится ключ к пониманию вопроса.
У мастеров – из тех, у кого с композицией всегда все в порядке, – глаз, на что бы он ни смотрел, непрерывно прорабатывает возможные композиционные построения, независимо от воли фотографа и наличия при нем фотокамеры. И как только он заглядывает в видоискатель и кладет палец на кнопку затвора, сознание ему услужливо подсказывает возможные варианты композиции. Это напоминает работу бортового компьютера истребителя, который во время боя непрерывно предлагает пилоту оптимальные варианты маневра и применения оружия. Пилоту думать тоже некогда.
Многие композиции, особенно городского пейзажа, прежде чем воплотиться в кадре, могут вынашиваться и шлифоваться фотографом на протяжении дней, недель и месяцев. И досужие разговоры о том, что фотограф, мол, хорошо устроился, потому как его рабочий день длится одну двадцать пятую секунды, – не что иное, как измышления завистников.
Изложенное можно сформулировать и немного иначе. Подлинный фотограф должен быть маньяком фотографии, ибо в конечном итоге всегда побеждают маньяки.
Обычная практика ученичества в фотографии состоит в том, что молодой фотограф показывает ворох своих снимков сначала товарищам по объективу, а затем и кому-нибудь из мэтров фотографии. Как правило, бракуется большая часть снимков, однако фотографа это не смущает. Помня известный фотографический постулат о том, что отбор и отбраковка есть существенная часть творческого процесса, он с легким сердцем отправляет неудачные снимки в мусорную корзину, а удачные стремится пристроить на какую-либо выставку. Но вот именно с выбрасыванием неудачных фотографий спешить не стоит – их просмотр через какое-то время может принести много пользы.
Весь пафос данной главы заключен в простой мысли – с композицией лучше дружить, чем ссориться. Перефразируя Стивена Спилберга, можно сказать: «Чтобы создать безупречный снимок, нужно, во-первых, иметь хорошую композицию, и во-вторых, нужно тоже иметь хорошую композицию, и в-третьих, конечно же, нужно иметь хорошую композицию».
Поэтому, рискуя вызвать раздражение у тех фотографов, которым надоело слово «композиция», все же сформулируем три ее главных закона:
1. ЗАКОН ЕДИНСТВА ИЛИ ЦЕЛОСТНОСТИ.
Снимок должен представлять собой единое неделимое целое, в нем не может быть самостоятельных, и тем более «лишних», частей. Каждый элемент композиции (предмет, тоновое пятно и т. п.) должен выполнять свою функцию и быть необходимым для целого.
2. ЗАКОН КОНТРАСТОВ.
Контрасты задают внутреннюю энергетику фотоснимка и делают его интересным для зрителя. Все возможные варианты контраста в фотографии перечислить немыслимо. Это прежде всего контраст между светом и тенью, контраст форм, контраст величин, фактуры, контраст между резкостью рисунка и расплывчатостью тоновых пятен в разных частях изображения, смысловой контраст, цветовой (если снимок цветной) – и т. д., и т. п. Список возможных контрастов легко пополнить, глядя на любой интересный выразительный фотоснимок.
3. ЗАКОН ПОДЧИНЕННОСТИ ВСЕХ СРЕДСТВ КОМПОЗИЦИИ ЕДИНОМУ ЗАМЫСЛУ.
Вся композиция должна выстраиваться вокруг главного объекта съемки – предмета, предметов, их действия или взаимодействия. Второстепенные элементы имеют право присутствовать в композиции только для направления внимания зрителя на главный объект.
Как уже говорилось, эти законы никем специально не придуманы, и потому никто не властен их отменить. «Закон подобен гигантской лиане. Он падает на спину каждому, и от него невозможно увернуться» (Редьярд Киплинг). И не следует забывать, что в искусстве действует тот же принцип, что и в юриспруденции: «Незнание закона не освобождает от ответственности».
Нередко фотографы, уже смирившиеся с необходимостью постоянно думать о композиции, задаются вопросом – а обязан ли Мастер соблюдать законы композиции? Недаром же восточная пословица гласит: «Мудрому закон не нужен»?
Ответ очевиден: безусловно обязан. Но только он получает эти законы не как прописи из учебника, а в виде непререкаемого внутреннего императива. Мастер не может не исполнять законы композиции, как не может не дышать, и слово «обязан» здесь становится уже неточным. Выражаясь несколько пафосно, Мастер – он сам и есть композиция.
Внутренний императив, касающийся композиции, вообще говоря, – порождение гена художника. Эту ситуацию в свое время предельно кратко и четко обозначил Василий Кандинский: «Во всех своих действиях художник должен исходить из внутренней необходимости произведения».
Эта формула Кандинского, в силу своей ясности и емкости, превосходна для понимания отношений «художник – композиция», но в качестве руководства к действию она может оказаться опасной и даже коварной. Особенно для молодых фотографов.
Живое и мертвое
Молодые фотографы, которые снуют по миру в поисках новостей, и не подозревают, что являются агентами Смерти.
Ролан Барт
Представление о том, что фотография превращает живые объекты в неподвижные мертвые изображения, является расхожим литературным клише. Ход мысли при этом запредельно прост. Вот перед фотографом ребенок, живой, резвый и дышащий. А вот он уже на снимке – неподвижный и бездыханный. Фотограф выступает как бы в роли убийцы.
В этой схеме есть две примитивные ошибки. Первая: «неподвижное» не обязательно означает «мертвое». Вторая: оба упоминаемых объекта принадлежат разным мирам, которые соприкоснулись лишь однажды – в объективе камеры в момент щелчка затвора. Чтобы снять с фотографии зловещий флер, нужно помнить, что мы имеем дело с двумя разными вселенными. Фотографическую вселенную населяют не люди, а изображения, и существуют они по своим собственным законам.
Обе ошибки заслуживают подробного рассмотрения – не с целью дезавуировать, в общем-то, спекулятивное клише, а ради прояснения природы жизни и смерти в фотографической вселенной.
Начнем с первой позиции, как с более простой. Представьте себе камень, обыкновенный булыжник, лежащий на земле. На фотографии он выглядит точно так же, как и в исходной натуре, и при поверхностном взгляде легко подумать, что в изображении камень равен самому себе, или более того, что он без изменений переместился из реального пространства в фотографическое. Но это далеко не так.
Заметим попутно, что неодушевленность так называемых неодушевленных предметов и в обычном-то мире – вопрос дискуссионный. Но он к нашей теме прямого отношения не имеет. Зато несомненно вот что: в виртуальном мире любой камень может оказаться одушевленным. А меру его одушевленности определяет только фотограф, как демиург своей вселенной. Это особенно наглядно проявляется в натюрмортах. Недаром в буквальном переводе с немецкого и английского языков слово «натюрморт» (Stilleben, Stil Life) означает «спокойная (или тихая) жизнь».
Почти во всех натюрмортах Бориса Смелова* предметы выглядят живыми. Он изображает именно жизнь предметов. Борис относился с почтением к Йозефу Судеку, и даже считал его одним из своих учителей. Действительно, в натюрмортах Смелова обнаруживается влияние Судека. Однако натюрморты Судека – просто красивые композиции из красивых вещей, а у Смелова мы сплошь и рядом видим популяцию одушевленных предметов, иногда хочется сказать – стайку одушевленных существ. В некоторых снимках просматривается даже аналогия с социумом – выделяются важные, начальственные фигуры и покорные пешки из их свиты.
Вопрос, есть ли у предметов душа, в нашей реальности – спорный, но в своих снимках Борис Смелов однозначно отвечает «да, есть». И он, подобно фее Берилюне из «Синей птицы», выпускает на волю души вещей. В том числе – душу света.
Смелов – яркая иллюстрация того, что фотограф в своем мире властен вдохнуть жизнь во что пожелает, но он не единственный. Александр Никипорец, например, отснял серию о стульях, как о деревянной четвероногой популяции, имеющей свою логику бытия.
Теперь о второй позиции. Чтобы не повторяться, переформулируем вопрос так: если в фотографической вселенной можно оживить всякий предмет, то существует ли в ней смерть вообще? Да, существует, но как понятие, а не как факт. Хотя бы уже потому, что невозможно убить изображение. Смерть в фотографическом мире может быть лишь объектом изображения. Здесь есть определенная аналогия с известной заповедью Михаила Чехова: «Безобразное имеет право присутствовать на сцене только в качестве объекта изображения».
Во избежание путаницы напоминаем, что данная книга посвящена исключительно художественной фотографии. Например, в документальной фотографии смерть может присутствовать во всей своей беспощадной наглости.
В художественной фотографии смерть лишена наводящей ужас и парализующей разум холодной серьезности, что порождает своеобразную иерархию отношений жизнь – смерть и позволяет строить на этой тематике острые, изящные и завораживающие сюжеты. Мера присутствия смерти в снимке, как и степень ее натуральности, бывает различной, ибо фотограф может ее дозировать по своему усмотрению.
Евгений Мохорев* в 2010 году отснял в Летнем саду впечатляющую серию, успев сделать ее до закрытия сада на ремонт. То, что мы увидим через пару лет, уже не будет тем Летним садом, который мы знали. Потому серию Мохорева можно считать прощанием с прежним Летним садом, памятью о нем, и прощание получилось щемяще-грустным. Общая тема серии – человек и мрамор. Модели здесь – дети-подростки. Кое-где они сняты рядом со статуей или на фоне ее, а кое-где – мало того, что на фоне, так на детские фигуры еще и наложены крупные изображения мраморных ликов. Человек оказывается как бы внутри некоего каменного образования. Глаза у одних моделей закрыты, у других – полны страха. Сюжет можно трактовать по-разному как слияние человека с мрамором или как превращение в мрамор – вариантов много. Мохорев не опускается до детальной разработки сюжета, оставляя обширные возможности для воображения зрителя. Но внутреннее напряжение всех кадров таково, что зрителя постепенно начинает одолевать темный первобытный ужас. И не зря.
Превращение человека в камень – один из мрачных архетипов пресловутого коллективного бессознательного. Разновидности подобных сюжетов встречаются в фольклоре и мифологии народов всех континентов, это очень древняя и страшная мифологема. Как только начинает действовать заклятие, у жертвы сначала каменеют ноги, затем туловище, и в последнюю очередь – глаза. Человек превращается в камень и, прежде чем превратиться в камень, он успевает «изведать это».
Сюжеты мохоревской серии можно истолковать и как некие жертвоприношения. Тема сразу переносит нас из доисторических времен в античность, в эпоху разнообразных жертвенных культов. В их контексте наличие подростков в качестве моделей совершенно естественно, ибо идеология всех подобных культов гласит: «Погибнуть должен невинный». И там, где в глазах модели – страх, или глаза закрыты, мраморные лики невозмутимы и безмятежны, а в отдельных случаях даже улыбчиво-кровожадны. Им нравятся жертвоприношения, для них это – как позавтракать.
Фотографии Мохорева обладают предельно заостренным эмоциональным воздействием, они царапают душу и надолго врезаются в память. Утонченность, хрупкое изящество трактовки сюжетов и наличие чувственных оттенков предлагают зрителю вспомнить о нашем российском Серебряном веке. И там для Мохорева уже имеется вполне определенная ниша – в силу перечисленного его обоснованно можно считать акмеистом от фотографии.
Визуальная составляющая мохоревских снимков, как правило, безупречна. Причем возникает ощущение, что фотограф не очень-то печется о зрительной безупречности – она получается у него как-то сама собой. Как и острота эмоций. Дело в том, что Мохорев наглядно демонстрирует действенность принципа «надо снимать не предмет, а состояние». И в данном случае вполне уместно перефразировать известный постулат Станиславского: «Точно найденное состояние порождает и зрительную безупречность, и эмоциональный накал». Если выражаться по-философски, то у Мохорева подход к созданию изображения не технологический, а медитативный.
Теперь другой пример коллизии жизнь – смерть: речь пойдет о добровольной жертве.
Андрей Полушкин* – фотограф причудливый. Он использует весьма сложные, изобретаемые им самим, «гибридные» технологии и любит выстраивать в своих работах гофмановскую, таинственную и порой зловещую, атмосферу.
Вот одна из фотографий изящной серии «Гербарий»*. В левой части кадра – цветок, фантазийный, причудливый и прекрасный. Он сухой, но не плоский, засушен в объеме. Фоном служит страница трактата Леонардо да Винчи в зеркальном изображении, так что рукописный текст на латыни поначалу воспринимается как некие неведомые письмена. В правой части листа – обнаженная девочка, подросток, спиной к зрителю. Ее торс прихотливо изогнут, руки заложены за голову, в волосах папильотки. Сходство девочки с цветком очевидно, она ему – как родная сестра, да и сама, по сути – цветок, и зритель сразу проникается ощущением, что все мы, и люди, и цветы – в каком-то смысле родственники. Но Полушкин не был бы Полушкиным, если бы ограничился демонстрацией столь безобидного обстоятельства. Снимок вызывает беспокойное щемящее чувство, и оно возникает раньше, чем поймешь, в чем дело. Ведь девочка – родная сестра уже засушенного цветка, она снята со спины, и готова сделать шаг внутрь снимка, в научную вечность, чтобы занять свое место на соседней с цветком странице гербария. Прихотливый изгиб спины – ее последнее и неизбежное движение в нашем живом мире. Полушкин – мастер изображения неизбежности. Фотография оставляет сильное и острое впечатление.
В заключение главы мы можем теперь уже вполне обоснованно снять душевное бремя с молодых фотографов – «агентами Смерти» они не являются.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?