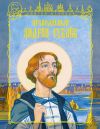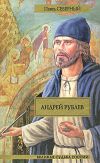Текст книги "Андрей Рублёв, инок"
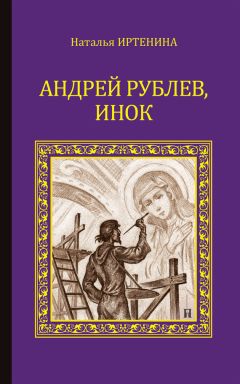
Автор книги: Наталья Иртенина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Брата звать на подмогу и без договора не хочу. Своими силами попытаем удачу, Семен! По пути Курмыш возьмем и по Засурью пройдем, научим нижегородскую сволочь сидеть ниже травы, тише воды.
Юрий снял шапку из бухарского бархата, слипшиеся от пота волосы тут же разворошил ветер. Князь был немолод – тридцать шесть лет, но порывы к свершениям и горячность сохранил от юности. Боярин Морозов, равный ему годами, умерял нетерпеливый пыл Юрия Дмитрича степенными рассуждениями.
– Нижегородцы, вестимо, наказание заслужили. Данила Борисыч как брехливый и кусачий пес – раззявил пасть, наскочил, тяпнул за ногу и бежать. Но я, князь, помышляю так. Данила Василию враг. Даниле нужен его удел. Если ты поможешь ему сесть в Нижнем, то обретешь в нем союзника, какого не найдешь ни в братьях своих младших, ни в прочих удельных князьях, коих Василий уже подписал под своего сына. Те все признали волю Василия, а княжича Ивана – наследником московского стола. Даже если кривя душой подписывали, тебе положиться на них теперь нельзя – покривили раз, покривят и в другой. Если всерьез хочешь спорить за свое право на московский стол, князь, приручай всех, кого еще можешь. Данила Борисыч – первый из таковых.
– За Данилой татарва стоит, – вспыхнул Юрий. – И тех, может, в союзники посоветуешь, Семен Федорыч?
– Татар не посоветую. Ненадежны и лукавы. Василий пытался с Едигеем против литвинов дружить – что из того вышло? Разорение всей земле. Но еще один довод не идти на Данилу скажу тебе, князь. В Курмыше у него нашел пристанище твой тесть, князь смоленский Юрий Святославич. Мои лазутчики вызнали наверняка.
Юрий Дмитриевич воспринял весть с окаменевшим лицом.
– Вот как. Мнилось мне, он скроется вновь в Орде. Видит Бог, Семен, я все сделал, чтобы его имя не всплывало более на Руси! Может, он забыл, что литовский Витовт назвал его своим беглым послужильцем и требовал от Василия выдачи его с головой? Забыл, как Василий грозился исполнить требованье Витовта, тестя своего? Или думает, что мордовские леса надежны? Брат Данилы Семен тоже так думал, когда прятался в тех же лесах от московских воевод!
– Где скрываться изгою, как не у изгоя? – коротко выразился боярин. – Но тебе надо думать о себе, князь. Не хотел прежде говорить, теперь скажу. Мои лазутчики прознали еще кое-что. Не знаю, как им удалось, однако ж… По всему выходит, Юрий Святославич был здесь, когда брали на копье и зорили город.
– Он обезумел и не ведает, что творит, – подавленно произнес князь. – Его дочь – моя жена. Мои дети – его внуки. Он хочет, чтобы его позор покрыл не только его самого, но и моих сыновей! Я не могу позволить этому случиться, Семен!
– Потому и говорю, князь, не трогай Данилу. Не тронь лиха, пока все тихо.
– Хорош твой совет, боярин, – невесело усмехнулся Юрий. – Но он от земли. А духовного совета, от неба, у кого мне просить? Много на Руси духоносных мужей и старцев, да иные в могиле лежат, как отцы мои Сергий и Савва, – он широко осенился крестом, – а иные далече, как белоезерский Кирилл.
– Если сердце твое неспокойно, князь, напиши Кириллу.
Юрий развернул коня в обратную дорогу.
– Так и сделаю, Семен.
– Хочу спросить тебя, князь, – заговорил Морозов, когда расступившиеся посторонь служильцы вновь оказались позади. – Этот грек, который неведомо чем обрел твое благоволение… Проныра со взором блудливой бабы… Халдукис этот…
– Халкидис. Никифор Халкидис.
– Не нравится мне эта греческая крыса, князь.
– Он не крыса, Семен. Он философ! Ты знаешь, кто такие философы?
– Если те, которые всюду вынюхивают, высматривают и пустословием втираются в душу, тогда знаю. Зачем ты взял его сюда, князь?
– Чтобы показать ему славу русского зодчества и искусство лучших изографов. – Юрий немного посветлел лицом. – Никифор ценит красоту. Он считает, что взирать на прекрасное – все равно что говорить с Богом.
– Кроме апостолов и пророков с праотцами, – нахмурился боярин, – кто эти – говорящие с Богом? Чует мое сердце, князь, этот грек – не нашей веры. Еретик латынский, а либо вовсе собака басурманская. Гони его взашей от себя.
– Он ученый, Семен, – спокойно возразил Юрий. – Греческий царь таких приближает к себе, а я буду гнать? Поступать надо по разуму, а не по неразумию.
– Ты уже говоришь, как этот Халдикус, князь, – все более мрачнел боярин. – Не на добро это. Не знаю, как в греках, а на Руси князь приближает к себе разумных и дельных бояр. Будто мало тебе твоих бояр для думы и совета. Еще нужен приблудный греческий сморчок. Не я ли отговаривал тебя только что от неразумного дела? А для учености у тебя хватает чернецов-книжников.
Юрий рассмеялся.
– Семен, Семен! Уж не местничать ли вздумаешь с греком? Ему с тобой родом и знатностью не тягаться, думным боярином не быть. Не отберет он ни у кого места. Но при себе удержу его, – жестко заключил он.
Никифор и в самом деле умел проникнуть в душу князя. С самой первой встречи в звенигородском княжьем соборе, с первых же сказанных им слов. Грек, вдруг возникший перед Юрием, увлек его разговором о мастерстве зодчих, красе стенной росписи, мощи и продуманности градских укреплений, великолепии природы окрест, величии мироздания, божественной его сущности. О человеке – зрителе на празднике бытия. О радости познания, о счастье приближения к первоначалам, о наслаждении созерцанием. О достижении совершенства.
Дворские, имевшие намерение взять грека под руки, отвести к тыну и приложить лбом о бревна, ждали только знака Юрия. Но знака не было. Из храма разговор перетек во дворец, за обеденную трапезу, накрытую скромно, для двоих. Философ развернул пред князем картину мудрого правления. В государстве просвещенного науками и искусствами правителя подвластный ему народ не знает ни бед, ни болезней, ни голода и нищеты, ни войн, ни раздоров, ни ненависти. Беседа перешла на княжьих сыновей: им нужен хороший учитель, от которого они познали бы риторику, поэтику, логику, Аристотелеву этику, Птолемееву географию, Платонову и иную философию, Геродотову и Страбонову историю, начатки астрономии и геометрии. Но главное, он обучил бы их греческому наречию – языку мудрости и учености. Князь в ответ на это заметил: «Знать греческий нужно, чтобы читать церковные книги». Чем вызвал снисходительную улыбку грека, заставившую Юрия устыдиться своего невежества. К завершению трапезы философ из Мистры был утвержден наставником старших детей звенигородского князя – девятилетнего Василия и семилетнего Дмитрия.
Княжьи служильцы ждали седмицу, две, месяц – указания выставить грека вон все не поступало. Наконец плюнув, они перестали ждать. Свыклись с тем, что по хоромам и по двору шатается греческий блудослов – не пойми что такое: не монах, книжной пылью обсыпанный, не духовный отец, не игумен монастырский, вооруженный глаголами Божьими, не епископ, которого в Звенигороде уже давно нет. Отрочата же княжеские Никифора возненавидели за его ученье.
– Помяни мое слово, князь, не на добро к тебе этот грек прилип, – повторил Семен Морозов, когда скакали уже под самым градом.
…В подклете собора воздух был сух и чист, иконные доски нисколько не отсырели. Нашелся даже заготовленный щит нужного размера, скрепленный поперечными шпонками, с выдолбленным ковчегом и уже проклеенный. Но нужно было варить рыбий клей для паволоки и левкаса. С этим Андрей управился в несколько дней. Вынутую из котла с клеем холстяную редянку наложил на щит и долго приглаживал. Потом готовил левкас – измельченный и просеянный мел, растворенный в том же клее. Три дня левкасил: деревянным клепиком наносил тонкий слой, подсушивал, бережно притирал ладонью, сушил до конца и накладывал новый слой. Пока сохло, крошил и растирал в ступках краски – вохры, от светло-желтой до темно-багряной, красно-коричневую, светло-красную и светло-зеленую земли, древесную копченую чернь, осколок киновари, ярь-медянку. Жалостливую женку, что приносила ему скудную снедь, попросил достать свежих яиц и квасу. Поохав и излив множество горестных словес, наутро она приволокла полкорзины яиц и корчагу кваса.
Андрей наметил углем рисунок-графью и сел творить краски. Тщательно, подолгу растирал пальцем в деревянной ложке смесь желтка с квасом и красочный порошок. Сливал в плошку, тер новую порцию, снова сливал, пока не набиралось краски на три дня работы. Тогда брал другую ложку и творил другой цвет.
Наконец позвал успенского попа совершить молебен.
– Как писать будешь, – с недоверием спросил иерей, исполнив дело, – не имея образца?
– По памяти.
– Смотри. Божье дело творишь. А ну как отсебятину налепишь? Без образца только изрядные иконники писать могут.
– Благослови, отче, – смиренно сказал монах.
– Молись, Кузьма.
Ткнув ему в макушку благословляющими перстами, поп удалился.
Никто здесь не помнил Андрея в лицо или не узнавал. Может быть, рытье могил и зрелище бесконечных возов с мертвецами изменили его, сотворив из прежнего Андрея какого-то иного, нового. Он не знал, отчего так случилось. Но для всех выживших здесь и возрождающих град он решил стать Кузьмой. Жив ли, попал ли Рагоза в плен или лег в могилу, теперь не узнать. Однако с собой, в татарщину или в жизнь вечную, он унес обиду на Андрея.
Поэтому здешний люд будет помнить, что список чудотворной Владимирской Богоматери написал для них чернец Кузьма Рагоза. А иконник Андрейка Рублёв пусть побудет в татарском плену, искупая грехи свои.
Сам образ он писал быстро, едва задумываясь. Творил роскрышь иконы – раскрывал изначально скрытое изображение: заполнял красками поля графьи, каждое своим цветом. Перед внутренним взором стояла та самая чудная икона, привезенная некогда на Русь из Царьграда, исполненная тихой, напевной молитвенности. Он лишь кое-что изменил, чтобы этой молитвенности стало больше и сама Богоматерь сделалась бы воплощенной молитвой для людей, переживших весь тот страх и ужас, доныне эхом гуляющий по городу, затаившийся где-то высоко под сводами собора. Ужас тех, кто прятался на хорах – чья жизнь зависела лишь от того, вытерпит ли ключарь Патрикей, не облегчит ли себе муку смертную всего несколькими словами.
Он молился вместе с Пречистой. Ее руки в молитвенном жесте, обращенном к Сыну, стали его руками. До краев наполняло и переполняло пережитое осознание: совершенная любовь изгоняет страх.
Мир, лежащий во зле, дик, страшен и темен. Но в нем посеяны семена света. Лишь увидев тьму, можно узреть и свет, и пойти к нему. И сотворить жертву. Как десятки тысяч, павших на Куликове. Как сермяжный люд, возрождающий жизнь на пустой земле после каждого татарского набега. Как женки, волокущие воз горя по мужьям и сыновьям, поднимающие на ноги новые поколения мужей, сыновей…
В один из дней в собор нагрянул звенигородский князь с немногочисленной свитой. Иконник помнил его. Юрий когда-то пригласил радонежскую дружину подписывать построенный им в Звенигороде каменный храм. С той дружиной работал и Андрей, принявший в Троицкой обители постриг. Князю его художество приглянулось, уговаривал даже инока остаться в Звенигороде, в Саввином монастыре на горе Сторожи. Давно было, лет девять-десять назад. Теперь на лице князя пролегли упрямые складки, взгляд стал жестче – но все такой же прямой, открытый, нелукавый. И вряд ли он узнал бы сейчас того инока.
Андрей, ходивший к колодезю за водой, остановился с полным ведром поодаль от паперти. Догадался – князь приехал смотреть поновленное убранство собора. Когда спешенные служильцы освободили проход, он хотел продолжить путь, но вдруг увидел Алексея. Ведро едва не выпало из руки.
– Алешка!
Отрок не слышал. Он быстро шагал к младшим дружинникам, разговаривавшим поодаль от княжьей охраны. На нем болталась залатанная свитка с чужого плеча, а меча не было. Андрей, поставив ведро, двинулся к нему и услыхал, как Алешка спрашивает служильцев, не боярина ли Семена Федоровича Морозова они люди.
– Ну, Морозова, – лениво подтвердили те. – Тебе что, паря?
– А дочка его, – волновался отрок, – Алена, в девицах еще или замуж отдана?
– Тебе какое дело, голь, до боярских дочек?
Трое окружили его. Заломили руки, один кулаком врезал в поддых. Алешка согнулся, его бросили головой об стену собора и отошли.
– Гуляй отсюда, голодранец, чтоб мы тебя больше не видели.
Андрей видел, как полыхнул яростью отрок. Он заспешил к Алешке, но вдруг упал, поскользнувшись на гнилом огурце. Дворские захохотали.
Послушник наконец заметил его. На лице отрока в одно мгновенье прошла череда самых разных чувств. Последней была крепчайшая досада. Держась рукой за голову, Алешка поднялся с земли и криво побежал прочь. Андрей даже не стал его звать.
Стряхнул с подрясника грязь, вернулся к ведру и пошел в храм. Один из охраны хотел было остановить чернеца, но махнул рукой.
Не глядя по сторонам, монах ушел за столпы, под северные своды хоров, где был стол с лежащей на нем неоконченной иконой. Набрал воды в глиняный достакан, бросил отмокать кисть. Взял другую, вновь погрузился в работу. Голоса Юрия Дмитриевича и его спутников едва проникали в сознание.
– Посмотри, князь, сколь проникнуты эти фрески радостью жизни! – восклицал Никифор Халкидис. – Сколь в них истинного понимания мира и жизни, невзирая на загробную тему! Сколь гармонично связаны меж собой образы. Живописцу, творившему сие, ведома сладость постижения красоты…
Грубая вера русских была мучительным испытанием для ума философа, привыкшего к тонким наслаждениям наук и искусств. В империи, в родной Мистре, Никифор давно отвык от долгих и унылых церковных служб, от сумрачных иконных изображений, над которыми острили в собраниях-театрах приглашенные риторы, соперничавшие перед публикой в глубине мысли, отточенности стиля и изысканности словесных фигур. В театре философа Георгия Гемиста, взявшего себе имя Плифон по созвучию с именем мудрейшего Платона, христианская вера считалась уделом темных селян. Отжившим свое обычаем, от которого скоро, под влиянием возрожденной из забытья древней эллинской мудрости откажутся и при императорском дворе, нужно лишь приложить для этого некоторые усилия. Здесь же, на Руси, суеверия греческих крестьян оставались повседневностью князей и аристократов.
Но тем искреннее было восхищение философа стенными росписями владимирского собора.
– В этом нет устремления к мраку, столь свойственного церковной живописи. Здесь истинная философия, а не примитивная мораль! Человек прекрасен, когда развивает в себе душевные силы, жаждет усовершенствовать свой разум, алчет прикоснуться к божественному в самом себе. Этим он преодолевает зло. Взгляни, князь, на этого благородного мужа.
– Это апостол Петр.
– Неважно, кто он. Посмотри, как он самоотвержен и тверд! Он ведет за собой других, потому что нравственно совершен и достиг обожествления. Сколько в нем чувства и свободы от всего житейского, суетного! Сам человек творец своего бытия, ибо его ум, покоряющий стихии, есть подобие Бога…
– А все те градские, – вмешался в разговор Семен Морозов, – которых тут резали, будто свиней, три седмицы назад. Они тоже сами себе такое бытие сотворили?
– Чернь, – грек покрутил дланью в воздухе, – небрежет умственным развитием. Оттого ее судьба схожа с судьбой скота, многочтимый кирие Симон. Эллинский философ Димитрий Кидонис назвал смерть благодетельницей за то, что она прибирает тех, коим и рождаться не подобало, тех, кого заботит в сей жизни лишь еда и питие. Это и есть свиньи, которых судьба откармливает на заклание.
– Говорил я тебе, князь, не связывайся с философами, – пробрюзжал боярин. – На Руси скоро пахать некем будет, смерды переведутся, эдак облагодетельствовамшись.
– Истинный человек живет в гармонии с миром, ибо мир прекрасен и совершен, – твердил Никифор. – Я хотел бы, князь, познакомиться с живописцем, который так украсил сей храм.
– Московские чернецы подписывали, – ворчливо сказал Морозов.
– Монахи! – встрепенулся грек. – Я не ослышался, досточтимый кирие Симон, ты сказал – монахи?
– А что тебя так взволновало, Никифор? – спросил князь. – Андрей Рублёв – монах. Вон как этот чернец.
Он кивнул на склонившегося над доской иконника.
– Прости, князь, я не считаю монахов способными видеть человека в человеке, – отрезал Никифор и умолк, пораженный.
Юрий, приблизившись, стал смотреть, как трудится изограф. Было готово только доличное – одеяния, нимбы, свет иконы. Теперь иконник высветлял лики и руки, написанные коричневой санкирью. Князь узнал канон Владимирской Богоматери и резко выразил недовольство:
– Почему Ее руки на одном уровне? На подлинном образе не так! У тебя Младенец висит в воздухе, а не сидит на руке. Как такое может быть? Кто учил тебя иконописи, чернец? Сельский поп?
Грек, взглянув, также высказался:
– Бездарен сей монах. Князь, ты как-то говорил мне о людях из ваших северных земель – Новагорода и Поскова. Тех, кого называют еретиками.
– Стригольниками их называют, по имени стригаля, разнесшего эту заразу. Грязные псы, лающие на Христа и Церковь.
– Да, стригольники. Они, говорил ты, в числе прочего отвергают иконы. А не ересь ли, спрошу я тебя, князь, почитать химеры, кои производит воображение пустого и невежественного ума, как у сего монаха? Мир божествен и создан нам на поклонение. Все, что вижу вокруг, то и почитаю. Цветущий сад, плещущее море, игру цветного стекла на солнце, драгоценный сосуд, роскошный дворец, изысканную книгу, бархат звездного неба, очарование юности, красоту женщины…
– Бабу-то чего? – не понял Семен Морозов.
– Не бабу, достославный кирие Симон, а красоту, коей женщина наделена паче всех существ. Среди латинян, которых здесь так не любят и, надо сказать, есть за что, особенно среди италийских, давно объявились художники, пишущие живоподобно, в подражании природе. И Божью Матерь они изображают как совершенно земную жену, творя гимн красоте и материнству…
– Поклонение тварному вместо Творца есть нечестие и невежество.
Все трое обернулись на монаха, сказавшего это. Грек смотрел удивленно, князь – раздраженно. Иконник стоял прямо, оторвавшись от работы, но лица к ним не обращал.
– Что ты знаешь о Творце и твореньи, темный, суеверный монах? – сварливо отозвался философ. – Князь! Если ты все осмотрел в этом храме, мы можем идти.
– Еще не все.
Юрий ушел к алтарю, постоял перед Царскими вратами. Потом развернулся, широким взглядом обвел собор.
– Так говоришь, Семен, будто Василий прямо здесь во всеуслышанье объявил сына своим наследником?
– Объявил, князь.
– Ну это мы еще посмотрим, как выйдет у него порушить отцову последнюю волю, – посуровел Юрий и неожиданно выкрикнул в гулкое пространство собора: – И Андрейку Рублёва ему припомню! Сперва переманил от меня в Москву иконника, а теперь и сам его потерял!
Порывисто двинувшись к левому проему, выводившему в наружный пояс собора, князь на ходу осведомился:
– Семен, когда купцы снаряжались, велели им среди пленных искать Рублёва?
– Велели, князь. Отыщут.
Звуки шагов стихли, но голоса еще звучали во внешней галерее, хотя слов Андрей уже не разбирал.
Князь остановился перед одним из гробов, над которым укреплена была высокая, давно потемневшая икона. Татары не позарились на нее – ни ризы, ни подвесок-даров образ не имел. Юрий пристально смотрел на икону.
– Кто в этом гробе? – спросил грек, видя интерес князя.
На каменной крышке саркофага не было никаких надписей.
– Митрополит Максим. В летописцах сказано: сто лет назад он перенес митрополию из Киева во Владимир. А Киев тогда весь разбежался от татар.
– Каков же смысл твоего стояния над его гробом, князь? – гадал Никифор.
– Здесь Максиму явилась во сне Богоматерь и велела остаться, устроить митрополию во Владимире. Она дала ему знак власти над паствой – архиерейский омофор. Митрополит проснулся и увидел его в руках – покров, расшитый крестами. Потом он рассказал свое видение иконнику, и тот написал этот образ.
Боярин Морозов задумчиво чесал за ухом, рассматривая икону. Богоматерь была изображена в рост. Умаленный в размерах митрополит принимал из рук Царицы наплечный епископский плат.
– Не слыхал про такое. За сто лет много воды утекло. А где тот омофор, князь? В этом гробу?
– Нет. Его запечатали в золотой ларец и хранили в здешней ризнице. – Юрий повернулся к философу: – Что ты думаешь об этом, Никифор?
Грек благодушно развел руками:
– Сколь я понимаю, князь, самого омофора нигде нет? Да и был ли он?
– А икона? – нахмурился Юрий.
– Что икона! Иконы, легенды… Всего лишь иносказания, Эзопов язык. Их нельзя толковать по букве, но надо исследовать дух. А дух этого предания… состарился и умер, князь. Ведь митрополичье место давно в Москве, а не здесь? И русские князья больше не спорят за обладание этим городом, бывшей столицей? И никому более не нужна эта легенда?
– А верно грек говорит, князь, – согласился боярин. – Хоть и лукав, как тот самый Езоп. Омофор давно в Москве пылится, средь прочих древностей в митрополичьей казне.
– Которую к тому же разворовали, – с улыбкой прибавил философ.
– Нет его в Москве! – резко возразил Юрий. – Но здесь он был!
– Знать, татарва уволокла. Либо Данилы Борисыча люди. А на что он тебе, князь? – задумался Семен.
Юрий не ответил.
Вновь заметавшийся под сводами отзвук шагов на миг отвлек иконописца. Добавив в вохру белил и смешав, Андрей опять согнулся над образом. Теперь уже полностью, без остатка погрузился в совершенный покой безмолвия, обращенного к небесам.
Потом, позже, когда закончит работу, он даст тревоге проникнуть в сердце. Позволит зашевелиться беспокойству, которое ощутил мимолетно, когда внимал словам Юрия о старшем брате. Вспомнит об Алешке, в чьей душе разгорелся-таки огонь… да лучше б не разгорался.
Но не теперь.
12.
Никифор Халкидис пребывал в упоенном состоянии духа.
Он был введен в княжье семейство и жил во дворце. Пусть деревянном, но других в этой стране нет. Он учил детей второго по старшинству князя Московии, который в любой миг мог сделаться первым. Не всякий день, но иногда он трапезовал с князем и его супругой княгиней Анастасией. К нему прислушивались. Его ученость уважали. Его приглашали читать вслух – и он умел делать это изящно, живо, чувствительно! Эффектно, как говорят латиняне. Ему, наконец, платили живым серебром из княжьей казны. Пусть не золотом, этим металлом Русь вообще скудна, зато щедрой меркой.
Недаром мессир Джанфранко Галеаццо советовал ему искать подходы к звенигородскому правителю. Князь Юрий, в отличие от старшего брата, удался в отца, князя Димитрия. Мессир Галеаццо много рассказывал об этом Димитрии, прозванном Донским за победу над татарами у реки Дон. О том, как князь желал иметь в русских митрополитах не греческого чужака, а своего подручника. Желал и саму русскую Церковь подвести под свою руку, оторвав от Константинополя. О том, как княжьи слуги однажды побили, раздели и чуть не голым бросили на ночь в темницу митрополита Киприана, навязанного Руси империей. И как десять лет, до самой своей смерти не хотел с ним мириться князь.
Горячая кровь. И вся она, по-видимому, досталась второму сыну Димитрия. Недаром собственные младшие отпрыски звенигородского князя носили одно имя на двоих – в честь деда.
Истинным наследником отца, победителя Мамаевой орды, Юрий видит себя. Страстно желает сесть на московском столе. Во всех неудачах Москвы обличает Василия и ставит себя независимо от старшего князя. Верует, как все русские, едва не до дырки во лбу. Но с греком Фотием доныне не встречался – как и отец, грезит о русском митрополите. И уже не бросается в жаркий спор, когда Никифор будто случайно роняет слова, что истина выше разделения на латынскую веру и православную, что перегородки меж Церквами, от земли растущие, до неба не доходят. Что Константинополь сосет из Руси серебро и золото. Что Русь для того лишь и нужна империи. Что монахи, не имеющие полезных обязанностей, но стяжающие в монастырях столько богатства от князей и вельмож, живут жизнью трутней…
Нет, трогать монахов Юрий не позволял. Чернецы, как их тут называют, его взрастили, вложили в него все те суеверия, коими полны сами. Со временем и это исправится.
Но речам о том, что Московии нужен правитель мудрый и доблестный, который сумеет властно противостать Орде, муж разума и учености, способный расплодить в своей стране эллинские науки и искусства, а не тот, кому великий стол достается по случаю, по старшинству, по прихоти судьбы… Таким словам князь внимал охотно…
Стоя с книгой в руках, как в эллинском театре, посреди широкой и светлой палаты дворцового терема, Никифор читал князю и княгине. Голосом, лицом, а когда и жестом он изображал страстную любовь Каллимаха и Хрисоррои. Их историю философ знал почти наизусть и без труда переводил на язык русичей. Первая встреча героев полна необычайного напряжения. Каллимах находит девицу в несчастном положении: она подвешена за волосы под потолком залы. Жестокий дракон, хозяин замка, мучил ее, принуждая к возлежанию с ним. Девица совершенно обнажена, и юноша изумлен зрелищем. Эту сцену Никифор прочитывал всегда взволнованно, будто сам стоял на месте окаменевшего Каллимаха. «Смотрел лишь на нее одну, стоял и все смотрел он, как будто и она была на потолке картиной. Всю душу красотой своей могла она похитить: умолкнувший немел язык, и замирало сердце. Налюбоваться он не мог чудесной этой девой, на красоту ее смотря и женственную прелесть…»
Князь Юрий взглянул искоса на жену. Та, пораженная, тихо вздыхала и мяла в руках шелковый плат. Так же, украдкой, она бросила взор на мужа.
Чтец старается, накал чувств растет. Спящий дракон повержен. Девица спасена, снята с потолка и воспылала ответной любовью. «Исполненная страсти привстала девушка. Окрыленный любовью юноша предстал перед ней. Языку не под силу описать, с какой страстью, с каким волнением в сердце, с каким упоением бросились они в объятия друг другу». Перед изображением Эрота на стене влюбленные клянутся во взаимной верности…
– Эрот? – Голос Юрия громок, чтобы скрыть неприличное для мужа его лет волнение. – Это греческий святой?
– Нет, князь, это… – Никифор замялся, кинув взгляд на зардевшуюся княгиню, поникшую головой. – Так древние эллины представляли себе любовь. В виде крылатого мальчика с луком и стрелами. Его стрелы поражают людские сердца, вселяя в них любовь.
Князь поднялся, оправил полы домашнего кафтана. Задумчиво посмотрел на жену.
– Ступай-ка, княгиня, в свои покои.
– Но, князь…
Анастасия была без убруса, в одном лишь кружевном волоснике, который не мог скрыть запламеневших щек и ушей княгини.
– Ступай, Настасья, – строже велел Юрий.
Она покорно встала и, легко поклонясь, выплыла из палаты. Когда сенной холоп прикрыл дверь, князь уселся.
– Запрещаю тебе, Никифор, читать оную повесть княгине и боярским женкам, служащим ей. Даже если просить будет втайне от меня.
– Это жестоко с твоей стороны, князь, – пытался возразить философ. – Княгиня будет изнывать от любопытства, а неутоленное женское любопытство недобродетельно.
– Утолять бабье праздное любопытство еще того более недобродетельно. Ты меня услышал, Никифор. Чти далее.
Князь откинулся спиной на мягкие подушки кресла, приготовясь внимать греческому любодейству, которое философ называл возвышенным. Ибо что, как не сладостная горечь любовных мук, говорил он, сильнее возвышает человека над его животными страстями? Лишь страдания и злоключения на пути любви облагораживают это чувство, и только поэтому оно приличествует даже философам.
Однако чтению помешали. Хоромный боярин сообщил, что на посадских пристанях разгружаются купеческие лодьи, плававшие в Булгар и Казань. Привезли до полутора сотен выкупленных на татарском торгу владимирских полоняников. Боярин Дружина Глебов уже там, распоряжается, кого куда: ремесленных, испытав, на посад и княж Городок, прочих – сажать на землю по княжьим вотчинам. Чернецов, набравшихся с дюжину, в Саввин монастырь, а после – куда сами захотят. Монах, даже силой взятый и проданный, по христианскому закону свободен от холопства.
– Гонец сказывал еще, князь, будто среди тех чернецов один иконником назвался.
– Андрейкой Рублёвым?! – взбудоражился Юрий. – Что ж не сразу сказал, боярин!
– Будто Андрейкой, – с сомнением ответил тот. – А может, и не Андрейкой. Купцы бают, будто он не сразу на свое имя выкликнулся. А преж них по торгу ходили московские люди, тоже кричали Рублёва. У наших с теми свара вышла, князь. Подрались, говорят, за полоняников. Кой-кому и бороды проредили.
– За бороды и за службу отплачу купцам. – Юрий взволнованно шагал по палате, забыв о философе. Тот прикрыл книгу и, присел на лавку, скучая. Однако ни единого слова мимо не пропускал. – Пошли, Афанасий, человека с наказом. Иконника в монастыре отмыть, одеть, накормить досыта. Завтра буду там. Пускай ждет.
Боярин скрылся. Юрий, беспокойно разминая костяшки пальцев, опустился в кресло.
– Ну вот и познакомишься с первейшим иконником Руси, Никифор. Ты ведь хотел?
– Взгляну, пожалуй, князь, каков ваш прославленный монах. – Грек вовсе не обрадовался. – Но опасаюсь, что не обрящу в нем разумного собеседника. Монашеская ряса принижает ум, сковывает чувство, порабощает волю. Вкупе все сие делает монаха бездарным и неспособным к истинному познанию мира.
– Отцы мои духовные, старцы Сергий и Савва были прозорливы, – нахмурился Юрий, – знали то, что неведомо и недоступно прочим.
– Познать можно лишь то, что доступно разуму и чувствам! – воскликнул философ. – А иначе сие знание – иллюзия, как говорят латиняне. Обман, коему верят простодушные.
– Не дерзай очернять духоносных старцев! – рыкнул Юрий, разгорячась. – Ты расхваливал мне росписи во Владимире! Так в ком обман?
– Вероятно, мне что-то показалось там, князь, – ответил Никифор, смиренно понизив голос. А затем постарался отвлечь Юрия: – Как посмотрит твой брат Василий на то, что ты перевел в свою землю владимирских людей? Не есть ли это по вашим законам… нечто подобное краже? – осторожно выразился он.
– Не есть. – От удивления Юрий заговорил кратко. – Людей везде не хватает. Кто сумел, тот и взял. Испокон веку на Руси так.
– Однако казна у русских князей большая, – туманно высказался грек.
Князь понял по-своему.
– Отпишу тебе две малых деревни, а серебра больше, чем плачу, не дам.
Никифор приложил руки к груди и показал в поклоне редеющий затылок.
– О благодарю, князь. Щедрость есть добродетель благородного мужа. Но я говорю также и о другом. Десять лет назад русские князья отправили огромную сумму в дар Константинополю, страждущему от турок, кои теснят империю со всех сторон. Митрополит Фотий непременно озаботится отправкой новой суммы. Но эти пожертвования, поверь, князь, пропадают втуне и не идут империи на пользу. Они тотчас расходятся по рукам приближенных императора, вельможных чинов и князей Церкви.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?