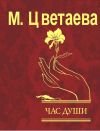Текст книги "Воспоминания. 1848–1870"
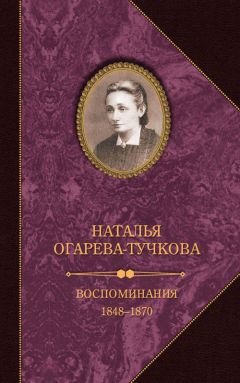
Автор книги: Наталья Огарева-Тучкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
V
В Париже – Соотечественники – Немецкий революционер Гервег – Июньские дни 1848 года – Обыск у Герцена и у моего отца – Анненков и Тургенев – Встреча с Бакуниным в Берлине – Возвращение в Россию – Граф Киселев – Константин Дмитриевич Кавелин – Московский кружок Герцена и Огарева – Астраков
1848—1849
Вскоре нам пришлось оставить Италию; к тому же интересно было взглянуть на республиканский Париж. Мой отец горел нетерпением видеть наяву свои мечты; нам было очень жаль расстаться с Герценами, но они обещали скоро присоединиться к нам в Париже.
Оказалось, что в новой республике не так хорошо, как это думалось издали; сменили заглавие – слово «монархия» на слово «республика», – а содержание осталось то же. В экономическом отношении благосостояние народа ничуть не улучшилось, и никто о нем не думал; народ бедствовал, особенно рабочий класс Парижа; он требовал работы, а испуганное мещанское сословие сокращало все производства, сводило к минимуму все требования и заказы.
Недели через две-три после нашего приезда мы стали свидетелями необычайного явления: рабочие (уверяли, будто тысяч до семнадцати) шли в мэрию просить работы, шли в большом порядке и пели «Марсельезу». Я никогда не слыхала ничего подобного; всякий, кто слышал «Марсельезу», может себе представить, как она должна была глубоко потрясти присутствовавших, исполненная семнадцатью тысячами голосов и при такой обстановке: рабочие шли голодные, унылые, мрачные…
В то время у нас часто бывали Павел Васильевич Анненков и Иван Сергеевич Тургенев; они сопровождали нас в картинную галерею и вообще помогали нам осматривать всё интересное в Париже. Вскоре приехали и Герцены; они поместились на Елисейских Полях, в нижнем этаже того дома, в котором мы занимали второй этаж.
У Александра Ивановича бывали еще Николай Иванович Сазонов и Илья Васильевич Селиванов, кажется, старый знакомый Кетчера; таким образом у нас устроилось чисто русское подворье. Бывало хорошо и даже весело в этих непринужденных беседах с соотечественниками, но хорошему расположению мешало разочарование во Франции. Герцен опять стал нападать на нее, а отец мой не защищал ее более. Разочарование становилось всё сильнее и сильнее; впрочем, чего же было и ожидать от французов, кроме громких слов и общих мест?.. Больно было Герцену и отцу моему сознавать, что они ошиблись.
Везде обнаруживалась реакция: в Австрии, в Германии, везде преследовали свободомыслящих людей, последние скрывались. В это время явился в Париж бежавший из Германии революционер и писатель Георг Гервег, последователь Маркса. Он был довольно высокого роста, худощавый, гладко остриженный, с выдающимся длинным носом и черными, неприятно сверкавшими глазами; впрочем, человек весьма начитанный, изучивший основательно философию, историю и литературу. Жена его была совершенный контраст с ним: среднего роста, с некрасивыми и невыразительными чертами лица – тип немецкой мещанки.
Гервег обращал на себя всеобщее внимание своим чудесным спасением. Он рассказывал нам, как бежал, как скрывался на чердаке у одного крестьянина, который чуть было не поплатился жизнью за свой великодушный поступок.
Герцен слушал его рассказ с волнением. Когда он умолк, Александр Иванович спросил:
– Как зовут того, кто вам спас жизнь?
– Я и не спросил, – отвечал Гервег с пренебрежением.
Эту черту я никогда не могла забыть и считала ее доказательством его эгоистичного и неблагодарного характера…
Герцен и мой отец становились угрюмы, молчаливы. И в самом деле, легче было молчать: негодование, бессильный гнев в них брали верх над всеми другими чувствами.
Несколько дней мы не видались с нашими знакомыми, их не пропускали к нам; а когда Александр Иванович и отец мой пошли посмотреть, что делается в центре Парижа, то караул их много раз останавливал и чуть было не арестовал. Не буду рассказывать, как я одна пыталась дойти до баррикад в предместье Сент-Антуан, как выстрелы на Вандомской площади произвели на меня тяжелое впечатление; всё это было описано мною в третьем томе воспоминаний покойной Татьяны Петровны Пассек «Из дальних лет».
В один из этих печальных дней Наталья Александровна Герцен, моя сестра и я пошли погулять по Елисейским Полям. Мы заметили на улице трех мужчин в синих блузах, которые так же ходили взад и вперед, как мы. Приняв их за рабочих, мы недоумевали, как они не боятся показываться при солдатах. Когда мы ушли к Круглой площади (Рон Пуэн), мнимые рабочие позвонили у наших дверей. Увидав это, мы поспешили домой; три блузника были уже в квартире Герцена, когда нам отперли дверь. Работники узнали нас и улыбнулись.
– Ma foi, mesdames, veuillez nous excuser, nous avons attendu toute la matinée que vous vous éloignez du logis, nous avons fait notre possible pour vous éviter ce désagrément – etvoilà que vous rentrez2020
– Извините нас, сударыни, мы всё утро поджидали, чтобы вы удалились из дома, мы сделали всё возможное, чтобы избавить вас от этой неприятности, а вот вы возвратились.
[Закрыть], – сказали они.
– En quelle qualité venez vous2121
– В качестве кого вы явились?
[Закрыть], – спросил Герцен, более опытный и более догадливый, нежели мы.
Они расстегнули блузы и показали полицейские шарфы.
– Par mandat du préfet de police, – отвечали они. – Nous venons faire une perquisition domiciliJre chez m-r Alexandre Herzen, citoyen russe; c’est vous, monsieur?2222
– По приказанию полицейского префекта, – отвечали они. – Мы явились произвести домашний обыск у господина Александра Герцена, русского гражданина; это вы, милостивый государь?
[Закрыть] – продолжал один из них, обращаясь к Герцену.
Тот кивнул головою. Тогда они прошли в его кабинет и там перевернули всё вверх дном, осматривали камин, трогали золу, чтобы убедиться, нет ли сожженных бумаг в камине, а Герцен имел привычку жечь ненужные бумаги каждый день по окончании занятий.
Видя, что полицейские осматривают бумаги ее мужа, Наталья Александровна также вошла в кабинет, стала иронически хвалить республику, в которой так свободно жить, потом предложила полицейским освидетельствовать и ее бумаги, но они спокойно отвечали, что исполняют только то, что им поручено, что с них и этого довольно.
Мой отец был в отчаянии; он понимал важную роль, которую играла полиция в эти страшные дни, и чувствовал, что жизнь Герцена в руках этих мнимых блузников. Полицейские, видимо, еще что-то искали, но не говорили что; вероятно, русское золото. Покончив с осмотром бумаг Александра Ивановича, один из полицейских обратился к моему отцу с вопросом:
– Вы тоже русский и живете во втором этаже, над английским семейством?
– Да, – отвечал отец, немного удивленный этими точными сведениями.
– Потрудитесь указать дорогу к вам, – сказал полицейский, вежливо наклоняя голову, – потому что теперь очередь за вами.
У отца они так же тщательно всё переглядели и унесли статью о революции 1848 года, писанную по-французски, о чем отец очень жалел, потому что не имел другого экземпляра; она так и осталась в префектуре. Во время осмотра бумаг мы показывали полицейским разные карикатуры на тогдашних правительственных лиц, и они смотрели их, почтительно сдерживая улыбку.
Вести приходили всё печальнее: эмигранты прибывали, а французы, принимавшие участие в баррикадах и случайно уцелевшие, спешили скрыться в туманах соседней Англии. Про Чичероваккио и его сына пронесся слух, что они оба в плену в Австрии; не вытерпел любимец народа, горячий трибун, ушел по следам сына. Было какое-то тяжелое затишье, какое бывает после похорон; близился срок нашего возвращения домой, и, признаться, легче было вернуться, когда все страны превратились в какие-то обширные тюрьмы. Все наши соотечественники начинали также поговаривать о возвращении в Россию, один Герцен упорно молчал, а иногда говорил: «Надо оставаться на западе, хотя он и разлагается; может, придется и погибнуть с ним, всё же тут борьба, жизнь…»
Решено, мы уезжаем; настали последние дни с их утомительной суетой. Мы должны были выехать из Парижа очень рано, прямо в Берлин; все решили не ложиться спать, а провести вместе последнюю ночь, роковую для меня, потому что я не видала более Натальи Александровны. Тургенев, как более избалованный и более нежный, пришел нарочно проститься и рано ушел домой. Провожали нас, кроме Герценов, Гервеги, Павел Васильевич Анненков и Николай Иванович Сазонов. Последний был очень умный, знающий человек, но весьма несимпатичный и очень уже офранцуженный.
Мужчины выпили много шампанского в эту прощальную ночь; от недостатка сна и излишка вина они имели страшные, зеленовато-бледные лица, говорили о свидании, но без особенной веры, а как будто для ободрения себя; в особенности глядя на Наталью Александровну, трудно было надеяться на отдаленное будущее; она сама говорила: «Я чувствую, что не доживу до старости, жаль только, что не увижу детей большими. О, дети, дети, – говорила она, – дорогие цепи; пожила бы для себя, да нельзя».
Вот сидим уже в вагоне и смотрим на провожающих нас. Как теперь вижу бледное лицо Натальи Александровны, опирающейся на руку сияющего здоровьем Александра Ивановича, и всё исчезает.
Узнав о нашем приезде в Берлин, Михаил Александрович Бакунин пришел к нам вечером; я о нем слышала и желала увидеть его сама. О нем говорили много разного; говорили как о человеке бесконечно умном, начитанном и знающем в совершенстве немецкую философию, а вместе с тем как о детски избалованном, бестактном и любящем заниматься сплетнями. Однако в один вечер нельзя было узнать такого замечательного человека. Он пришел любезно и развязно с нами познакомиться и много нас расспрашивал о наших общих друзьях, оставшихся в Париже. От избытка энергии Бакунин не унывал, а смотрел на революционное дело несколько по-детски; прощаясь, жал нам крепко руки, говоря: «До свидания в славянской республике». Все смеялись его выходке.
Однако после нашего отъезда Бакунин поселился в Дрездене, завел там страшную агитацию, устроил с тамошними демократами баррикады, после был взят с оружием в руках; его хотели расстрелять, потом в порядке обмена передали Австрии, которая хуже всех других стран обращалась со своими пленными. Полный quand-même2323
Все-таки. – Прим. ред.
[Закрыть] надежд и физических сил, Михаил Александрович Бакунин был заключен в крепость и прикован к стене. Впоследствии он рассказывал нам, что пробовал отравиться спичками и ел их без всякого ущерба для своего редкого здоровья. «Подлая страна, – говорил он, – не умеет ни покончить с человеком, которого считает вредным, ни смягчить его человеческим обращением. Откровенно говоря, я рад был, – продолжал он, – что меня выдали России; австрийцы и кандалы-то пожалели – сняли свои».
Осенью 1848 года мы вернулись из чужих краев, тоже морем, через Кронштадт; тогда это было самый удобный способ передвижения. Вещи наши осматривались снисходительно; в таможне были предупреждены о нашем приезде. Контрабанды у нас не было, но были французские газеты, кажется «Le Rappel», «Le Peuple» Прудона, «La voix du peuple», «La libertJ» и прочие; были литографии французских выдающихся деятелей, карикатуры… За них-то мы и опасались, однако всё обошлось; но по всему было заметно, что настало время больших строгостей. Нашей гувернантке, m-lle Michel, не было дозволено въехать вместе с нами в Петербург, ей пришлось ждать в Кронштадте. Она плакала, опасаясь, что ее вовсе не пустят; пятнадцать лет провела она в России совершенно безвредно, занимаясь исключительно воспитанием вверенных ей детей. Мой отец похлопотал о ней в Петербурге, и через несколько дней ей был разрешен въезд в Россию, но, кажется, года через два она была вынуждена принять русское подданство во избежание высылки.
В эту эпоху решили русских не пускать за границу, кроме редких исключений, по очень серьезным болезням, а иностранцев, в особенности французов, не впускать в Россию; те же иностранцы, которые уже были в России, должны были или оставить Россию, или принять русское подданство; мера эта продолжалась лет семь. В 1855 году, уже в царствование императора Александра, эта строгость была отменена; наш заграничный паспорт, первый, помню, был выдан по мнимой болезни Огарева.
В Петербурге отец мой заметил, что Лев Алексеевич Перовский, в то время министр внутренних дел, хороший его знакомый и вместе с тем начальник, как-то раздражителен и холоден с ним. Между прочими знакомыми отец побывал у приятеля деда моего, графа Киселева, который имел репутацию очень либерального человека. Граф любил моего отца и принял его, как всегда, очень любезно; большею частью они беседовали по-французски. Вдруг граф говорит отцу:
– Ah, mon cher Toutchkoff, je ne sais si votre nom est inscrit en rouge ou en blanc, mais il est noté dans le livre noir, c'est sûr.
– Pourquoi cela, comte? – спросил отец.
– C'est un fait, – продолжал граф, – mais je ne sais trop comment vous l'expliquer, en un mot: vous sentez les barricades à une lieue. Oui. mon cher, il ne fallait pas rester à Paris pendant les journées de juin.
– Mais ilestimpossible de tout prévoir, – возражал отец, – quand l'insurrection du faubourg St. Antoine éclata, il était trop tard pour quitter Paris. Il est heureux encore que nous n'ayons pas été fusillés comme agents russes. Nous avons eu tous des perquisitions domicilières et si l'on eût trouvé de l'or russe chez nous, notre affaire eût été très mauvaise, car dans les journaux on ne faisait que parler des agents russes, qui à l’aide de l’or russe fomentaient tous ces troubles; un heureux hazard nous a sauvés; une heure avant la visite de la police chez nous, Herzen a pris tout l’or que nous possédions pour l’échanger chez Rotschild et dans ce but l’a laissé chez sa mère, qui demeurait dans une autre rue; là il n'y eut pas de perquisition.
– Ah! c'est curieux, – вскричал Киселев, – perdu des deux côtés!
– Oh non, mon comte, ici je ne suis pas encore perdu2424
– А, мой милый Тучков, не знаю уже, красными или белыми чернилами записано ваше имя в черной книге, но что оно записано в ней, это факт.
– Почему это? – спросил отец.
– Это верно, – сказал граф Киселев, – но я не знаю, как вам это объяснить; одним словом, от вас за версту пахнет баррикадами. Да, друг мой, не следовало оставаться в Париже во время июньских дней.
– Да ведь невозможно всё предвидеть, – возразил отец. – Когда началось восстание в предместье Сент-Антуан, было уже поздно оставлять Париж. Счастье еще, что нас не расстреляли как русских агентов. У нас у всех были обыски на дому, и если бы у нас нашли русское золото, то наше положение было бы весьма плохо, потому что в газетах беспрестанно писали о русских агентах, которые будто бы с помощью золота подстрекали рабочих к восстанию; счастливая случайность спасла нас. За час до прихода полиции Герцен взял всё наше золото, чтобы обменять его у Ротшильда, и оставил его у своей матери, жившей на другой улице: у нее не было обыска.
– Ах, как это всё странно, погибель с обеих сторон! – вскричал Киселев.
– О, здесь я еще не погиб.
[Закрыть], – возразил горячо мой отец; – всё ограничилось тем, что у меня взяли мою статью о революции 1848 года, которую мне очень жаль.
– Спросите Перовского, как на вас смотрят, – сказал граф, – он должен знать.
Отец виделся с Перовским, но последний был непроницаем.
Я забыла сказать, что Марья Федоровна Корш, проживши в семействе Герцена за границею полтора года, возвратилась с нами в Россию и ехала с нами до Москвы к своему брату, Евгению Федоровичу Коршу. В Петербурге к ней часто хаживал ее зять, Константин Дмитриевич Кавелин; он был знаком с моим отцом еще в Москве и бывал у нас, но тогда мы были слишком молоды, чтобы обратить на него серьезное внимание. Тут мы познакомились с ним короче; он нам много рассказывал о московском кружке, о Белинском, о его кончине, хотел даже подарить мне слепок с Белинского, снятый по кончине. Мне очень хотелось его иметь, но странны бывают понятия в молодости: мне казалось, что, не знавши Белинского лично, я была недостойна получить такой драгоценный подарок, и даже негодовала на Кавелина за то, что ему вздумалось подарить мне такую бесценную вещь. Вероятно, Кавелин заподозрил, что я не дорожу слепком Белинского, так это и не осуществилось.
Приходя к нам, Кавелин иногда опаздывал, а мы с Марьей Федоровной Корш, усталые от морского путешествия, ложились довольно рано. Раз Кавелин постучал в дверь нашего номера после девяти часов; мы отвечали, что легли, тогда он просил позволения разговаривать через дверь, сел на стул в коридоре у запертой на ключ двери, и мы беседовали таким образом. Но Марья Федоровна, боясь оскорбить щепетильность английского пансиона, в котором мы остановились, запретила Кавелину ходить к нам после девяти часов, и это не повторилось.
Я думаю, редко можно встретить столько доброты и кротости в соединении с замечательным, пытливым умом, как у Константина Дмитриевича Кавелина; не было благородного порыва, на который он бы тотчас не отозвался, не раздумывая о своих личных интересах. Известно, как он оставил Московский университет и тем, быть может, повредил своей карьере навсегда2525
К.Д. Кавелин вынужден был поставить на факультете вопрос о безнравственном поведении в семье профессора Н.И.Крылова (их жены были сестрами). Крылов обратился с жалобой к министру просвещения Уварову, представив скандал как кампанию либеральной профессуры. Кавелин и его коллеги вынуждены были уволиться. – Прим. ред.
[Закрыть]. Но мне придется позже говорить о нем; он появлялся несколько раз в моей жизни до 1855 года, когда мы – Огарев и я – окончательно оставили Россию, не зная, увидим ли мы ее еще раз. Я одна увидела ее, увидела дорогое Яхонтово…
Проездом из Петербурга в наше имение мы побывали у деда моего, генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова; он нам очень обрадовался, так же, как и мы ему.
В это время нам очень хотелось видеть знаменитый кружок Герцена и Огарева; теперь мы уже понимали его значение. Мой отец всегда бывал там и был всеми чествуем как декабрист, эти господа ездили к нему; но мы тогда были почти детьми. Наконец мы увидали всех или почти всех. В семье Герцена я уже слышала о характере Николая Христофоровича Кетчера, о его выходках, обидчивости, о неприятностях, возникавших более всего от его строптивого характера, и потому немудрено, что я смотрела на него не совсем беспристрастно и что он мне с первого взгляда не понравился.
Евгений Федорович Корш, тогда редактор «Московских Ведомостей», был действительно таким, каким мне его описывали, – умный и холодный как сталь; его заикание не только не вредило ему, а как будто придавало более меткости его остротам. О Грановском и его жене я также много слышала; между прочим, Герцен говорил, что, несмотря на замечательный ум Грановского, его идеализм становился иногда преградой в философских прениях с друзьями. Однажды посреди горячего спора о вероятности существования загробной жизни Грановский вдруг встал и отошел. На вопрос некоторых друзей, что с ним, Грановский отвечал: «У меня умерла сестра, которую я горячо любил, я не могу допустить, что я с нею не увижусь». Эта выходка многим показалась малодушием.
С другой стороны, несогласие с Кетчером, заступничество Грановского – всё это указывало на необходимость отдаления, хотя бы на время. Мало-помалу кружок стал разъединяться; Герцен уехал за границу, Огарев – в деревню. Жена Грановского тоже меня очень интересовала. Она была ближайшим другом Наталии Александровны Герцен и вдруг, без заметной причины, без объяснения, отдалилась от нее. Почему это произошло, осталось тайною навсегда. Мне казалось, что все эти люди знали, что я много о них слышала, и потому как-то сдержанно относились ко мне.
Еще мы познакомились с Астраковыми; помню, как мы отправились к ним вдвоем с сестрою, с запиской Наталии Александровны Герцен к Татьяне Алексеевне Астраковой. Она жила близ Девичьего поля, на Плющихе, в собственном деревянном доме. Астраковых было несколько братьев; старшего, Николая Ивановича, мужа Татьяны Алексеевны, уже не было в живых; из остальных всех ближе с Огаревым и Герценом был Сергей Иванович; с ним-то мы короче и познакомились.
Он и Татьяна Алексеевна приняли нас так радушно и просто, что нам стало свободно и казалось, что мы давно знакомы, и так это осталось навсегда. Мы с Татьяной Алексеевной остались как два вестовых того времени и до сих пор (1889 год) перекликаемся иногда.
Когда мы приезжали к Астраковым, нас всегда встречал их слуга, отставной солдат Никифор; он нас очень полюбил и называл «голубчиками». Когда впоследствии мы навещали Астраковых, приезжая в двух пролетках – я с Огаревым, а сестра со своим женихом, Николаем Михайловичем Сатиным, – Никифор качал головою и говорил: «Разлучили голубчиков, прежде лучше было!»
Сергей Иванович Астраков был человек замечательно умный и знающий, очень хороший математик, а между тем судьба-мачеха не дала ему возможности сделать многого для отечества и для собственного существования. Он является в моих глазах одною из тех молчаливых неугаданных жертв, которые у нас встречаются чаще, нежели в других странах. Жил он как-то отщепенцем, хотя и принадлежал к кружку.
Впоследствии, кажется, в 1866 году, от неудовлетворения или с отчаяния, этот духовно и физически сильный человек угас в чахотке, и не стало существа самого преданного добру и правде! За исключением Герцена, никто из друзей не любил и не ценил Огарева так, как Сергей Иванович Астраков.
VI
Наше сближение с Огаревым – Хлопоты его о разводе с Марией Львовной Огаревой – Поездка в Санкт-Петербург – Приятели и друзья Огарева – Аресты в Петербурге – Отъезд в Москву – Розыск священника для венчания – Пребывание в Крыму – Арест и увоз отца – Освобождение отца, Огарева и Сатина – Поджог крестьянами писчебумажной фабрики – Смерть Натальи Александровны Герцен – Новое царствование
1849—1855
После тяжелых объяснений с моим отцом, который сначала слышать не мог о нашем браке, было решено ехать всем в Петербург, где Огарев надеялся уладить дело развода со своей первой женой, Марией Львовной Огаревой. Она была в то время за границей; Герцену поручили узнать у нее, можно ли надеяться на ее согласие.
И там и тут всё оказалось безуспешно: в эту строгую бюрократическую эпоху было почти немыслимо устроить такое трудное дело в Петербурге. Мы остановились, как и Огарев, в гостинице Кулона, в то время одной из лучших или даже лучшей. Огарева почти ежедневно посещали его многочисленные друзья, которых он нередко приводил и к нам; между прочими чаще бывали Сатин, Кавелин, Арапетов, Михаил Александрович Языков, Панаев и Некрасов. Тургенев находился в то время в своей деревне Спасское; тогда говорили, что его сослали туда за то, что он был в Париже во время баррикад. Не могли понять, как опасно было оставлять Париж в то смутное время: стоило быть принятым за русского агента – и можно было оказаться тут же расстрелянным. Со временем узнали бы, что это случилось по ошибке – и только; благоразумие повелевало выжидать спокойного момента для отъезда, и так сделали все русские, застигнутые реакционной бурей в Париже.
Но, возвращаясь к петербургским приятелям Огарева, вспоминаю Михаила Александровича Языкова, который обладал необыкновенным даром веселить, смешить, сохраняя притом очень серьезный вид, что придавало еще более пикантности его насмешкам и каламбурам. Находчивость его была поразительна – он никогда не пропускал случая сострить. Раз на каком-то обеде, встав с бокалом в руке, он сказал с одушевлением: «Раз думал я, друзья… – все слушали его в нетерпеливом ожидании. – Раздумал я», – повторил он и сел на свое место. Все весело смеялись над этою выходкою.
Михаил Александрович был очень маленького роста, слегка хромал, имел мелкие, довольно правильные черты лица, всегда был острижен под гребенку.
Во время нашего пребывания в Петербурге помню один случай, в котором я, случайно или по какому-то женскому инстинкту, спасла Огарева и некоторых друзей его.
В начале Страстной недели (1849 года) у нас собралось несколько друзей Огарева, между прочими помню Сатина, Кавелина и Арапетова. Последний рассказывал с большим жаром о собраниях Петрашевского: к нему собирались даже личности, приехавшие в столицу только на короткий срок. Знакомые Петрашевского привозили к нему своих знакомых; вообще доступ на эти сборища был очень легок, и потому собрания оказывались весьма многолюдны; особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в Страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет, посреди Петербурга.
– А полиция? – спросила я не без удивления.
– Вероятно, полиции давно всё известно, – отвечал Арапетов, – но она ничего не находит особенно важного в этих собраниях.
– О чем же говорится? Что делается на этих вечерах? – допытывалась я.
– О! Не знаю, как вам сказать; порицают многое, хвалят то, что для нас запрещенный плод, – говорил шутя Арапетов, – а главное: мужчины одни, дам нет, mille pardons, вина хорошие, весело, легко на душе, а положительной цели, говорят, никакой нет.
Однако мне не нравилось описание этих вечеров; в самом деле, как тут не быть тайной полиции и как так рисковать, без всякой определенной цели?
Арапетов звал всех присутствующих мужчин ехать разговляться в пятницу к Петрашевскому, а я стала их уговаривать не ездить, потому что глупо так шутить своею жизнью.
– Но ведь тут нет никакого риска, – возразил Иван Павлович Арапетов, – это вам, приехавшим из степи, кажется опасно, а нам это только забавно. Поедем, Огарев, если ты не поедешь, и я не поеду.
Кавелин подошел ко мне и со свойственною ему мягкостью старался убедить меня не страшиться такого безразличного поступка. Как более близкий друг Огарева, он был посвящен в наши планы и мечты и знал, как дорого было для меня существование Огарева; но и он не мог меня убедить в безопасности посещения этих бесед.
Прощаясь, Арапетов сказал Огареву:
– Ухожу, ничего от тебя не добившись, заезжай за мною в пятницу вечером, у меня будет человек, который нас представит Петрашевскому; ну, смотри, приезжай, а то ты мне испортишь славный вечер, без тебя я не поеду.
Огареву очень хотелось обещать, но, бросив беглый взгляд на мое смущенное, взволнованное лицо, он молча пожал Арапетову руку.
– Не ожидал я от вас такой осторожности, – сказал мне Кавелин улыбаясь, – а еще сами ходили на баррикады.
Однако никто из присутствующих не поехал на вечер к Петрашевскому; я с радостью приняла эту жертву.
На следующий после этой роковой пятницы день у Огарева тоже был вечер, собралось довольно много его друзей; Кавелин, познакомившись со Спешневым, привез его к Огареву. Новый собеседник обращал всеобщее внимание своею симпатичною наружностью. Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какой-то тихою грустью. Рассказывали, что он только что вернулся из чужих краев, где недавно похоронил женщину, для которой в продолжение нескольких лет оставлял свою страну и свою престарелую мать. Он вернулся убитый этой потерей, с двумя детьми, которых его мать взяла на свое попечение.
«Вот, – говорил мне с упреком Кавелин, – господин Спешнев разговлялся вчера у Петрашевского, однако он цел и невредим и говорит, что там было очень оживленно, а вы нам помешали, это упрек вам навсегда!» Я чувствовала себя, в самом деле, как бы виноватою и молча, опустив голову, выслушивала нравоучение Константина Дмитриевича, хотя все-таки оставалась при своем мнении, потому что у Петрашевского велись книги, где записывались имена посетителей за несколько лет.
Вечер у Огарева оказался весьма удачен, оживлен, сам хозяин был очень доволен; из дам были только Авдотья Яковлевна Панаева, моя мать и я с сестрою; мы только потому тут были, что жили в одном этаже, и так как было много гостей, отворили двери в нашу квартиру; нам любопытно было посмотреть на этот праздник, где собралось так много мужчин и так много дорогих вин, которые лились рекою.
После ужина Михаил Александрович Языков, прихрамывая, подхватил Кавелина вместо дамы и понесся с ним, вальсируя, по всей анфиладе комнат. Мы с сестрою явились удивленными зрительницами и играли ту же роль, как в 1848 году в Риме, на маскараде; тогда мой отец взял ложу с Герценом, но нам захотелось посмотреть маскарад поближе; мы надели маски, домино и сошли в залу, где было страшное оживление. Через некоторое время к нам подошел какой-то толстый итальянец, очевидно, наблюдавший за нами некоторое время. «Милые маски, – сказал он, – вам здесь не весело, как другим; видно, что вы в первый раз на маскараде, вдобавок вы сестры, да еще иностранки». Мы невольно засмеялись и вернулись в ложу. Жена Герцена, напротив, провела вечер очень хорошо: она разговаривала с каким-то симпатичным брюнетом-поляком и пресерьезно советовала мужу познакомиться с ним, но это не осуществилось.
Вспоминаю, что тогда в Риме нас поразила одна личность, но, к сожалению, мы никогда не узнали ее имени; это был сози (двойник) Герцена, как мы его называли; такое сходство редко можно встретить. Казалось, он замечал это, потому что улыбался, встречая нашу многочисленную компанию, разного возраста дам и только двух кавалеров – моего отца и Герцена. Сози стал даже носить шляпы и плащи, цветом и формою во всем подобные тем, которые были на Герцене. Он отличался от Герцена только ростом и годами, был несколько повыше и казался лет на пятнадцать старше.
Меня удивляло тогда, что Герцен не старался узнать, кто это, но не потому, чтобы не замечал сходства, напротив, он первый обратил на него внимание и часто, шутя, говорил жене: «Ты смотри, не ошибись, дашь ему руку и исчезнешь, как сновидение».
Тогда в Италии всё пробуждалось, дышало революционным духом, народ говорил только о Милане и Венеции, которые находились в когтях Австрии. Когда нам случалось брать наемную коляску, то только сделаем знак ветурино подъезжать, он, прежде чем взять вожжи в руки, оправлял свою большую черную шляпу с широкими полями и делал в ней рукою две ямы, а потом подъезжал к нам.
– Зачем вы делаете эти ямы? – спросила одна из нас.
– А как же? Разве синьоры не знают? Все ветурино так делают; это значит «Senza Milano е Venezia». А когда мы их возьмем, тогда не будем делать ям, – отвечал ветурино с большим оживлением.
Но возвращаюсь к моему рассказу.
Вечер Огарева кончился в пятом часу; хотя мы обе и ушли раньше, но не могли заснуть от веселого гула голосов. На другой день было Светлое Христово Воскресение. Пасха – с детства мой любимый праздник…
Я сидела с матерью и сестрою за чайным столом: было часов девять. Огарев еще не показывался, так как ему было необходимо спать около восьми часов, иначе возникал риск нервного припадка. Вдруг дверь отворилась, и вошел Константин Дмитриевич Кавелин, бледный, расстроенный; однако мы отнесли его вид к утомлению после бессонной ночи.
Поздоровавшись с нами, Константин Дмитриевич спросил, видели ли мы Огарева. На наш отрицательный ответ он выразил желание его разбудить.
– Хорошо, – сказала я, – сейчас передам его камердинеру, но прежде посидим немного; что вы так бледны, устали?
– Нет, не от того, но тут совершаются страшные вещи, – сказал он, понизив голос. – Петрашевский арестован, Спешнев тоже; там книги велись, записывались имена всех посетителей; говорят, аресты не ограничатся Петербургом, они будут производиться во всех концах России, много жертв будет, и всё это из пустяков. Несчастная, роковая пятница, – продолжал он задумчиво и, подняв голову, прибавил с каким-то нервным подергиванием губ: – А вы нас спасли!
Я молча слушала, смущенная; я не находила слов, чтобы выразить тот ужас, который овладел мною; как вчера я вместе с другими восхищалась прекрасным выражением симпатичного, благородного лица Спешнева, и, может, он навсегда исчезнет для своей страны, для своей семьи… А старая мать его, которая прижала к сердцу его детей, вероятно, незаконных, без имени, без прав на наследство!.. Этот удар убьет его мать… А дети? Что с ними станется тогда?..
Впоследствии Кавелин нам передавал, что при обыске у Спешнева была найдена тетрадка «Проект конституции или республиканской формы правления», написанная им когда-то в ранней юности, теперь же ему было около тридцати лет. Эта тетрадь много способствовала к его осуждению.
После этих арестов и толков в Петербурге стало невыносимо тяжело; дело развода мы оставили, напротив, надо было стараться не обращать на себя внимания. Мы вернулись в Москву.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?