Текст книги "Игра времен (сборник)"
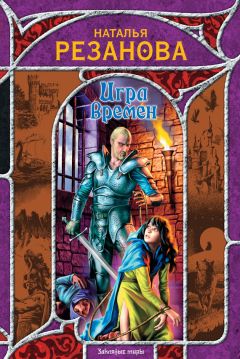
Автор книги: Наталья Резанова
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Мы после поговорим об этом. Но не забывай, что твой монастырь еще стоит, потому что я так хочу!
– На все воля Божья. А не твоя.
– Значит, тебе все равно, если монастырь падет? Верю. Ты перенесешь. Ты сильный. Но другие-то, слабые? Для них твой монастырь – последняя надежда! И вселил эту надежду в них ты! Захочешь ты ее у них отнять? Ведь они впадут в отчаяние и убедятся, что твои слова – ложь. Нет, не верю я, что ты этого захочешь. И тогда ты меня позовешь!
Что-то в ее голосе не понравилось отцу Лиутпранду. Он прозвучал резко и хрипло, и в нем словно бы перекатывалось эхо рычания – голос совсем другого человека. И уж точно не женщины. Но он сдержал слова порицания, чувствуя, что угрозы на нее действуют скорее в обратном смысле.
– Наше различие в том, что я хочу помочь крестьянам, а ты – уничтожить Оборотней.
– Не вижу различия. Разве уничтожение не есть помощь?
– Да. В данном случае. Но ты поступила бы так, даже если бы, кроме тебя и них, в окрестностях не осталось бы ни одного человека.
Она промолчала. Отец Лиутпранд продолжал:
– А известно: «Кто ненавидит брата, тот пребывает в смерти…»
– Братьев, – сказала она.
– Апостол рек: «брата…»
Дейна подняла на него взгляд. Ее серые глаза казались бесцветными.
– Самое трудное и самое тяжкое – то, что мне легко и просто быть Ульфом…
– Это языческая привычка – изъясняться загадками!
Она, похоже, не слушала.
– Если бы Тюгви вздумал испытывать меня на оружии, то я бы наверняка проиграла. Но он решил испытать меня в том, в чем считал себя сильнее, – в магии. И проиграл. Кто знает, в чем его сила?
– Кто знает, в чем его слабость? Много есть описаний искушений, испытанных великими отцами, но такого, какому подвергаешь меня ты, я не встречал. Если бы ты была из тех женщин, что искушают монахов плотской любовью, мирскими удовольствиями, властью, богатством, я бы посмеялся над тобой и пожалел тебя, убогую. Но ты нашла слабое место – помощь, сострадание к слабым, духовное отцовство…
– Хорошо же! Тебе не по сердцу, что я здесь. Я ухожу. И больше не приду без зова. Но может случиться так, что ты просто не успеешь позвать…
Последние слова Дейны отец Лиутпранд склонен был трактовать однозначно – она перестанет сдерживать Оборотней, и те обрушатся на монастырь. Но произошло по-другому. Возможно, это тоже входило в ее планы. В обитель явились не Оборотни, а деревенские старшины – те, кто остался в живых. Они были невежественны, они были напуганы, они были косноязычны. Ему пришлось приложить много сил, дабы понять, что они хотят. А хотели они – ни больше ни меньше – чтоб он повел их на Оборотней. Терпение исчерпалось. Все. При комесе и железных тоже было тяжело, но те хоть были люди, с ними можно было сговориться, от них можно было откупиться… С Оборотнями сговориться нельзя. Или ты от них убегаешь, или они тебя убивают. А теперь, сказывают, и комес удрал. Сами не видели, но люди говорят. А нам от хозяйства бежать некуда. Короче, они были готовы. Но они не привыкли сами принимать решений. Им нужен был вождь, тот-кто-отдает-приказы. Спорить с ними, так же, как и с Дейной, было невозможно. Но по-иному. Они покорно выслушивали доводы пресвитера, после чего повторяли все то же самое, и продолжаться это могло сколь угодно долго. После нескольких часов бесплодных прений он оставил их, сказав, что должен пойти помолиться и спросить совета у Господа. У входа в церковь отец Лиутпранд оглянулся. Они уселись на землю с тем же покорным видом, готовые ждать, сколько понадобится.
Отец Лиутпранд знал, как страшны могут быть такие покорные люди.
Он был один в темной церкви, на коленях перед алтарем. Сказав крестьянам, что собирается молиться, он поступил так не ради отсрочки. Молитва, единение с собственной душой, размышления были ему необходимы. «На все воля Божья», – говорил он недавно Дейне. Отец Лиутпранд был не столь наивен и самонадеян, чтобы ожидать знамения свыше. Воля Божья может проявиться неявно. Возможно, она уже выражена, а он, в слепоте своей и ограниченности, ее не видит. Посему ему нужна была ясность духа. Нужна молитва.
Как прекрасно все было предуказано Провидением. Священник молится, крестьянин пашет, воин защищает их обоих. Если хоть один откажется от своего предназначения, гармония рухнет. Это же так ясно! Но люди, люди… И вот – они сбежали. И те, кто призвал Оборотней в долину, и те, из-за кого их призвали. А Оборотни остались. И нет защиты у слабого. И вся надежда на веру. У Оборотней веры нет. Только безумие и сила. Страшно сие сочетание! Но Бог есть любовь, а боящийся не совершенен в любви… Незаметно для себя отец Лиутпранд перешел к близким ему категориям Писания. Но Бог также ревнитель, грозный судия, крепость моя и слава моя, муж брани, Иегова имя ему… Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских…
Он поднял глаза на темное грубое распятие. Разве не Он, Пастырь Добрый, сказал: «Огонь пришел Я низвести на землю»?
Огонь.
Может быть, в этом и есть решение.
Он поднялся с колен.
Завидев его, крестьяне тоже поднялись на ноги. Он помолчал. Набрал воздуха в легкие… Внезапно у него возникло ощущение, будто его настойчиво приглашают сесть за шахматную доску… а игра – большой грех.
– Эти мужи крови, губящие вас, отринули Бога любви, так пусть узнают, что есть Господь сил, Господь воинств, Бог мстящий. Да устрашатся смоляного костра!
Взглянул на крышу церкви. Потом на окруживших его крестьян. Они явно ничего не поняли. Тогда отец Лиутпранд просто сказал:
– Готовьтесь.
Теперь вся долина принадлежала им. И можно было уходить дальше, на поиски новых врагов и новой славы. Но Ульф говорил другое:
– Рано. Есть еще комес и его дружина. Разочтемся с ними.
Ему возражали:
– Они отсиживаются за стенами, и победить их – не к чести.
– Но если мы уйдем, они станут похваляться на весь свет, что победили Оборотней и прогнали их. Это к чести?
– Эти трусы, которые не смеют даже зубы оскалить в нашу сторону, не то что зарычать?
– Верно. Не смеют. И в открытое поле не выйдут никогда.
– Что же ты, выманишь их оттуда?
Они знали – он может. Доверие Оборотней к Ульфу теперь было безгранично, хоть они и спорили с ним – ведь Ульф все же не был старшим. Старшим оставался Тюгви. Но тот соглашался со всем, что говорил волчьеголовый. Ульф был в какой-то мере его порождением. Все Оборотни умели вызывать зверя, но только на зов Тюгви зверь явился воочию и во плоти. И Тюгви был этим горд и счастлив, как воплощению веры в дар Оборотней, так и доказательству собственной силы. Это связывает сильнее, чем простое ученичество, как с Хагано. И больше, чем родство по крови. Ульф был ему братом и сыном одновременно.
Хагано ему теперь не мешал. Либо перемирие наскучило ему, либо зависть вконец обуяла, однако он куда-то подевался. Никто его не искал.
– Нет, – отвечал Ульф. – Мы возьмем крепость. Наступает осень, зимой перевалы закроются. Зачем уходить из долины? В крепости много оружия. И если мы утвердимся там, то объявим Тюгви королем и завоюем ему королевство. Нет, не эту долину, она и так наша. Мы пойдем дальше, и с нами пойдут звери битвы – волки и вороны. Весь мир для Оборотней!
И от этих слов горячая кровь быстрее бежала по венам, словно от пряного заморского вина или доброго поединка. Такой косноязычный вначале, Ульф умел говорить лучше скальдов, лучше одержимых богами, лучше даже, чем старший. Но старшему отныне и не нужно говорить. Иная слава ожидает его. Король и его военный предводитель!
– Кроме того, – говорил Ульф, когда они еще ловили отблески этой будущей славы, – мы еще не брали крепостей. Нас ждет новое веселье.
– А ворота?
– Ворота я открою.
В сумерки, волчий час, они подобрались к подножию холма, на котором располагалась крепость Винхеда. Ульфа с ними не было. Все знали, что он появится в нужное время.
По склону холма тянулась довольно широкая, плотно утоптанная дорога, упираясь в массивные ворота. Они были деревянные, как и стены крепости, сложенные из тяжелых, вековых бревен. Палисад имел неправильную четырехугольную форму со сторожевыми вышками по углам. В них, отбрасывая дрожащие желтые и багровые отсветы, пылали огни стражей, ибо смеркалось теперь все раньше, а ночи становились все темнее. Через равномерные промежутки времени стражники невнятно перекликались.
Внезапно послышался топот, тупой и частый. Топот, сопровождаемый громыханием. Он приближался.
Из лесу вылетела повозка. Нет, не повозка. Два могучих коня, вероятно, принадлежавшие ранее железным, влекли за собой примитивное стенобитное орудие – тяжелый дубовый ствол, водруженный на остов повозки из обоза сламбедцев. А на бревне, вцепившись в поводья, стоял Ульф. По мере приближения стало видно, что хлыста или чего-либо подобного у него нет, а самое странное – лошадей он гнал молча, словно они не нуждались в окриках. Такой таран, что он соорудил, могли бы сделать и сами Оборотни и ударить им по воротам, но нрав Ульфа толкал его делать все самолично, как любого Оборотня, всегда ищущего в бою поединка один на один. И это зрелище – безмолвный наездник, огромные, сильные кони, будто обезумев, несущиеся на ворота, грохот и треск – наполнило сердца Оборотней воодушевлением боя, объединило их всех воедино, выпустило зверя. Когда Ульф промчался мимо, Тюгви хрипло завыл, и Оборотни ринулись вслед. Никому даже в голову не пришло, как Ульф может ударить по воротам, если таран находится позади лошадей.
Но сам-то Ульф, несомненно, об этом подумал. Неизвестно, видел ли он и понимал все происходящие, или действовал бессознательно, в трансе, как Оборотни, однако лошадей он гнал так, что это уже представлялось невозможным, а когда до ворот оставалось всего ничего, полоснул ножом по упряжи. Кони, повинуясь инстинкту либо безмолвному приказу возницы, шарахнулись в стороны. Взятый разгон был так силен, что повозка продолжала нестись вперед, а Ульф все еще стоял на таране и лишь в нескольких шагах от ворот спрыгнул на землю. Казалось, все произошло почти мгновенно, и было почти неразличимо – жуткое конское ржание, тяжелый грохот, треск, одиночные выстрелы с башен, на которые никто не обращал внимания, и стрелы шли мимо цели… Таран пробил ворота, и Оборотни, воя, ударили по пролому. Еще через несколько мгновений они ворвались в крепость.
И тут же на них хлынул дождь огненный и каменный. Крестьяне, засевшие наверху, в сторожевых башнях, обрушили на них заранее заготовленные бочки с горящей смолой. Двор крепости был основательно устлан хворостом, соломой. Сюда же свезли имеющуюся в наличии пеньку. Все это сразу же занялось. Те же, кто оставался за стенами, тоже не сидели сложа руки. Вылезши из вырытых ям, замаскированных дерном и соломой, они вновь затворили ворота. Если кому-то из Оборотней удавалось прорваться наружу, в него стреляли из луков, забивали дубьем. Отец Лиутпранд, подоткнув рясу, бегал среди них, отдавая распоряжения. Хотя план был придуман Дейной, все подробности разработал он сам. Ему удалось повернуть суеверную убежденность крестьян, что Оборотней не берет железо, против самих же Оборотней. Невольно сыграли на руку и сламбедцы, задавив одного из Оборотней деревянными щитами, чему было немало свидетелей. Вооруженные огнем, кремневыми стрелами и дубинами крестьяне не боялись ничего. Их темная ярость была много страшнее священного безумия Оборотней.
Теперь, когда пожар пожирал крепость изнутри, те, кто были на вышках, начали спускаться вниз по веревкам. Стены уже были обложены вязанками хвороста. Их подпалили с неким упоением. Выбраться явно успели не все, но о них не думали. Главное было – покончить с Оборотнями. Была поздняя ночь, и, осеняя во тьме холм и лес вокруг, питаемый огнем и дымом столб поднялся к небу. К небу же отец Лиутпранд воздел запачканные смолой, ободранные, обожженные руки.
– Не отлучался столп облачный днем, и столп огненный ночью от лица народа! – прокричал он. И внезапно словно раскаленная игла пронзила его сердце. Дейна! Ее нигде не было видно. Если она не успела оторваться от Оборотней, никакое «человеческое умение» ей уже не поможет.
Согнувшись, он заковылял вдоль пылающей стены. Навстречу ему как будто из-под земли выросла фигура в звериной шкуре. Темное лицо озаряли языки пламени, а над ним скалилась волчья пасть.
– Хвала Господу! – Он едва слышал собственный голос сквозь треск огня и грохот рушащихся бревен. – Ты здесь! А я уж было подумал, что ты осталась с ними… и огонь уже не погасить.
Она смотрела поверх его головы в черный купол небес, куда улетали искры.
– Да… – продолжал отец Лиутпранд, – это было страшно… но их больше нет… долина избавлена от Оборотней…
– Ты уверен? – Ее хриплый голос звучал совершенно отчетливо.
Он оглянулся, решив, что кто-то из Оборотней сумел спастись от расправы и Дейна его увидела. Хотя сейчас, во мраке и сполохах огня, трудно было кого-либо узнать.
– Я ходила с ним в бой… и убивала в бою… и мне это было легко… Я притворилась, что стала как они… и стала как они… Нельзя надевать волчью шкуру безнаказанно. И я буду страшнее их… потому что у меня есть моя сила и власть, какой у них не было… Их нет. Я есть… но мертвые и предавшие связаны клятвой…
Она рывком опустила маску на лицо, и сквозь прорези на отца Лиутпранда явственно глянули желтые волчьи глаза. В отчаянии он закрыл лицо руками, а когда нашел в себе силы отвести их, то перед ним уже никого не было. Только стена огня.
Больше отец Лиутпранд никогда не видел Дейну, а дожил он до весьма преклонных лет. Но, когда впоследствии он рассказывал ее историю своей пастве поучения ради, он уверял прихожан, что Дейна вовсе не погибла в огне, а исчезла, став невидимой. По счастью, церковным иерархам в те годы было не до бредней старого монаха в лесной глуши, и он не поплатился за свои измышления.
В долину, успевшую не раз сменить имя, с тех пор приходило множество других завоевателей, но среди них больше никогда не было Оборотней.
На месте сгоревшей крепости построили женский монастырь. Но кто его основал, неизвестно.
2. Кошки – мышки
Она появилась у нас, когда волны мятежа, затопившего государство, схлынули и пошли на убыль. Это было время темное и мрачное, наставшее взамен времени страшному и буйному. Толпы людей из разоренных городов и деревень скитались по дорогам и умирали на обочинах, а на местах, где некогда стояли процветающие монастыри, еще не заросли пепелища. Но наша обитель – древняя обитель, и неизвестно, кто основал ее в этой долине, – уцелела, хотя общие для всей страны невзгоды не обошли ее стороной. И многие сестры забыли свой долг, совлеченные с пути спасения всеобщим же примером порока и буйства, чаще же голодом. Вот тогда она и пришла к нам, босая, исхудавшая, с запавшими глазами и обветренным лицом, в ветхой одежде, подпоясанной простой веревкой. Впрочем, все мы тогда были таковы, даже те, кто никогда не покидал пределов монастыря. И она рассказала о себе, что с детства жила при женском бенедиктинском монастыре в Эйлерте, там же и приняла постриг под именем сестры Схоластики, потом была отослана как наставница и чтица королевы в часовню при летней резиденции, а когда столица была захвачена мятежниками, бежала и долго скиталась, укрываясь в безлюдных местах, а теперь ищет пристанища в какой-нибудь обители. И когда мать-настоятельница спросила ее, какой работе она обучена, та отвечала, что сызмальства привыкла работать в саду. И ее приняли к нам. Так прошло некоторое время, и, хотя изобилия по-прежнему не было, жизнь стала спокойнее. И мы перестали с ужасом прислушиваться к вою ветра, ожидая услышать в нем топот копыт или конское ржание. Сестра Схоластика прижилась у нас. Пусть ей и приходилось проводить больше времени за работой, чем в церкви. Потому что в те годы постриг принимали только старые, больные и увечные, и у сестры Схоластики, которая была сильной и крепкой, обязанностей было предостаточно. Но она не роптала, как и следует хорошей инокине. В те годы обители не по средствам было содержать крепостных, поэтому сестра Схоластика собственноручно копала и рыхлила землю и выполняла иные тяжелые работы, содержа в порядке сад и огород. Сверх того, подменяла в случае надобности тех, кто трудился на кухне и в пекарне, а также собирала целебные травы, коими пользовали хворых в лазарете. Надобно сказать, что обитель наша была заложена в те времена, когда люди были искренне привержены Богу, и рассчитана на большое количество сестер, а сейчас их обреталось здесь чуть ли не втрое меньше, чем первоначально. Мать-настоятельница, уже в летах и немощная плотью, но бодрая духом, разместила сестер в правом крыле монастыря, а в освободившейся центральной части устроила лечебницу для хворых и убогих. Левое крыло полностью пустовало, и настоятельница приказала накрепко забить досками вход на ту половину. Это было сразу после мятежа, когда больных и калек в округе имелось более, чем обычно. Но с течением времени все успокоилось, и бывало, что лечебница пустовала целыми неделями. Так было до тех пор, пока у нас не появился судья Регимбальд. Он отличился в рыцарском ополчении при подавлении мятежа на севере, а теперь его прислали наводить порядок в наши края. Вместе со свитой он охотился неподалеку от нашего монастыря. При переправе через реку его конь поскользнулся. Регимбальд упал на камни и сильно расшибся. Иначе как бы такой богатый и знатный человек оказался в лечебнице для бедных при женском монастыре? Но у него были сломаны ребра, он обливался кровью, и его нельзя было везти далеко. Ни на одной из окрестных ферм никто бы не сумел оказать правильную помощь, и, кроме того, как нам объяснили, у Регимбальда было слишком много врагов, которые не преминули бы воспользоваться его беспомощным состоянием, и он предпочитал укрыться за прочными стенами. Мать-настоятельница была весьма обеспокоена. Уже давно ни один мужчина не появлялся у нас, за исключением нашего дряхлого духовника отца Бодуэна и некоторых бедных калек, опекаемых милосердия ради. И, конечно, появление судьи, да еще с охраной, грубо нарушало устав. Но настоятельница, как добрая самаритянка, не могла отказать страждущему, и к тому же в это смутное время монастырь во многом зависел от власти Регимбальда. Он был, если память не изменяет, человеком в возрасте, весьма полнокровным и обильным телом, с лицом багровым и широким, украшенным круглой густой бородой. Его раны следовало обмыть и перевязать, но он так страшно бранился и богохульствовал, что даже тем из нас, кто привык слышать крики и стоны больных, делалось не по себе. Тогда мать-настоятельница велела позвать за сестрой Схоластикой. Пошли за сестрой Схоластикой и нашли ее, как всегда, в саду, подвязывающей ветки (а дело было осенью). Вместе с сестрой Схоластикой мать-настоятельница приготовила целебный отвар, который должен был успокоить страдальца, и направились к нему в келью. Но раненый не захотел пить. Страшными словами поносил он монахинь, и не только тех, кто стоял у его одра, но монахинь вообще, говоря о них такие вещи, что здесь невозможно повторить, и не было такой хулы, которой бы он на них не возвел. И говорил также, что в монастыре плетут вредоносный заговор и злоумышляют на его жизнь. Мать-настоятельница была в полной растерянности и не знала, что и предпринять. Тогда сестра Схоластика, безмолвно стоявшая в темном углу кельи, тихими стопами приблизилась к постели и, взяв чашу с настоем, сделала из нее большой глоток. Удостоверившись, что его не окормят здесь ядом, Регимбальд принял чашу и выпил ее содержимое. Мать-настоятельница взглянула на сестру Схоластику с благодарностию. Когда отвар оказал свое действие, Регимбальд, утихнув, позволил себя перевязать. Когда же судья уснул, мать-настоятельница отпустила сестру Схоластику и призвала другую сестру, почтенную возрастом, чтобы блюсти сон болящего. Самой же матери-настоятельнице, в силу сана своего обязанной заботиться о многом, предстояло решить непосильную задачу. Сказать по правде, в те времена монастырь наш и на раздачу нищим хлеба едва наскребал, а теперь предстояло содержать еще и охрану Регимбальда. И, осмотрев кладовые, мать-настоятельница поняла, что объедят они нас, подобно библейской саранче, и введут в полное разорение, и порешила просить Регимбальда отослать хотя бы часть своих людей. Утром она предстала перед судьей. Регимбальд чувствовал себя лучше и потому пребывал в добром расположении духа. На просьбу настоятельницы он ответствовал, что решил оставить себе пять человек охраны – часовые, сменяясь по мере надобности, должны были стоять у ворот монастыря, а также у входа в лечебницу. То есть поначалу Регимбальд решил поставить охрану у всех выходов, но мать-настоятельница заверила его, что со стороны жилых келий пройти невозможно, а вход на левую половину забит. Вызванный Регимбальдом охранник удостоверился, что так оно и есть, и потому Регимбальд ограничился стражей у тех дверей, что вели в лечебницу со двора.
– И не гневайся на то, что я говорил тебе вчера, – добавил он. – На дух я вашу сестру не выношу. Ничего я к тебе не имею, только все вы, монашки, гадины ядовитые.
– За что ж такая немилость? – спросила настоятельница.
– Значит, есть причина. Или вы здесь, в глуши, про большой мятеж не слышали?
– Как не слыхать!
– Значит, мало слышали, потому что все кругом говорили, что в северных краях, где мне пришлось порядком потрудиться, заправляла женщина по прозвищу Монашка. Под началом у нее было до трех тысяч головорезов, и она вела и направляла их своими советами, коварными и злоехидными. Подлинного имени ее так и не дознались, известно только, что она и в самом деле носила монашескую одежду.
– Конечно же, она лишь выдавала себя за монашку, но не была ею! – воскликнула настоятельница. – Господь не допустил бы такого духовного извращения.
– Была или не была, мне безразлично. Говорю, что слышал от многих.
– И… что с ней сделали?
– Сгинула она без следа, когда рыцарское ополчение громило шайки мятежников. Должно быть, получила свое… – Тут судья Регимбальд снова с чувством выругался и сплюнул.
Днем солдаты Регимбальда ушли, а назавтра раны его вновь воспалились, и дурной нрав судьи опять показал себя. Он призвал настоятельницу и долго допрашивал ее, много ли монахинь в обители и сколько среди них молодых. Настоятельница, собравшись с духом, отвечала, что монахинь здесь ровным счетом двадцать семь, и большинство из них живет в обители сызмальства, и поелику люди нынче утеряли благочестие и не обручают дочерей Христу, молодых среди них почти что нет, а все, кто есть, имеют разные телесные недуги и калечества, а ему, Регимбальду, на одре болезни лучше бы оставить грешные мысли…
– Не твое дело, старая ведьма, – перебил ее Регимбальд, – сам знаю, что творю… – Тут кровь прилила ему к голове, и стало ему дурно, и пришлось вновь прибегнуть к помощи целебных трав.
Так прошло еще несколько дней, и здоровье Регимбальда не улучшалось, весь он опух, и на его как бы пораженном водянкою теле появлялись новые язвы, старые же не заживали. Настоятельница пришла к выводу, что из-за дурно, как она сразу заметила, наложенных после падения повязок раны не уберегли от грязи, и теперь Регимбальда терзает антонов огонь. Но сам Регимбальд считал иначе. Изредка ему удавалось забыться сном, но большую часть времени он, изводимый болями, пребывал в бодрствовании и постоянно повторял, что его извели злым колдовством. Тщетно заверяла его мать-настоятельница, что входы и выходы тщательно охраняются, что лекарства и травы она сама пробует, прежде чем пускать их в дело, а вера в колдовство есть не что иное, как суеверие. Регимбальд и сам подтвердил, что кроме матери-настоятельницы и той умудренной летами почтенной сестры, что приходила ее сменить, в келью никто не заходит, но злые чары, вскричал он, замков и преград не боятся. И, противореча себе, приказал поставить еще часового у входа в жилые кельи. Со стесненным сердцем настоятельница подчинилась ему. Хотя она не была суеверна, но слова о том, что в ее обители творится злое, запали ей в душу, и в самой церкви, когда слаженный хор монахинь сменял дрожащий голос отца Бодуэна, ей на ум приходило вдруг, что в своих просторных одеяниях и в покрывалах, спущенных на лицо, сестры покажутся чужому глазу вовсе неотличимыми… Добавочная охрана не принесла облегчения Регимбальду. Но помраченное болями сознание его все еще бодрствовало. И в одну из минут, когда приступы оставляли его, он приказал послать за матерью-настоятельницей и спросил ее, обучена ли она грамоте, и она отвечала, что обучена.
– Своего писца я, по твоему совету, отослал, – сказал Регимбальд, – так что ты послужишь мне писцом. Пусть принесут чернила, перо и пергамент, и ты напишешь то, что я продиктую, и горе тебе, если ты посмеешь изменить в моем письме хотя бы слово! Клянись именем Христовым!
Сам Регимбальд, как большинство благородных людей, грамоты не знал, для того в его звании имелись писцы и секретари. И, когда принесли все требуемое, он продиктовал послание к правителю нашего края. И говорилось там, что монахини нашей обители – убивицы и пособницы мятежников и травят его, Регимбальда, либо ядом, либо колдовством, либо и тем, и другим – короче, весь бред, которым донимал он настоятельницу, решил довести он до высокого слуха правителя. Но затем он требовал, дабы в обитель прислали солдат, которые бы учинили обыск в ее стенах, а помимо того, привезли орудия пыток, и буде потребно, пытать монахинь огнем, водой и раскаленным железом, покуда те не сознаются во всем, особливо кто подтолкнул их к злодеяниям и каковы их связи с северными бунтовщиками. И, хотя рука настоятельницы дрожала, она ничего не посмела изменить в ужасном письме, ибо поклялась великою клятвой. И, окончив диктовать, Регимбальд потребовал, чтобы мать-настоятельница прочла написанное, и, убедившись, что все написано в точности, как он того желал, приказал позвать одного из своих людей и велел ему взять письмо и запечатать в его присутствии, сняв с руки Регимбальда перстень с печаткой. Так и был сделано, а затем Регимбальд велел ему немедля скакать к правителю.
– Поспешай, мерзавец! – сказал он. – Я крепок телом, и, Бог даст, еще можно успеть…
Все это время мать-настоятельница, ломая в отчаянии руки, ходила по коридору лечебницы. Сама она не боялась мучений, но мысль о том, что ожидает монастырь, повергала ее в ужас. И, пока она молилась, уповая единственно на милосердие Господне, примерещилось ей, что в коридоре мелькнул краешек монашеского одеяния. Побуждаемая неясным чувством, она подбежала к келье Регимбальда и заглянула внутрь. Больной лежал как бы в сонном забытьи, скрестив руки поверх одеяла. Мать-настоятельница в задумчивости замерла у входа, и тут снова, как в бесовской игре воображения, послышались ей шаги. Не медля ни минуты, бросилась она в ту сторону, куда, мнилось ей, направлялся неведомый пришлец, – и оказалась прямо перед заколоченной дверью. Переведя дыхание, она попыталась отломать доску, держащую дверь, но тщетно – доски были прибиты прочно.
Наутро началась у Регимбальда неудержимая кровавая рвота, и продолжалось это около двух суток. Все указанное время, терзаемая мыслию о том, что одной ей было известно, мать-настоятельница так и не решилась смутить покой сестер известием о предстоящих им крестных муках. Но вечером второго дня велела одной монахине кликнуть к ней сестру Схоластику. Та со смущением ответила, что названную сестру никто со вчерашнего дня не видел, а поскольку сестра Схоластика часто бывает с утра до вечера занята по хозяйству, никто этим особо не обеспокоился, но, если матери-настоятельнице угодно, они поищут хорошенько… Слабым движением руки настоятельница отпустила сестру.
Ночью обитель огласилась ужасным воплем, и вбежавшие монахини и солдаты застали Регимбальда уже бездыханным, а его искаженное последними конвульсиями лицо было таким, что у всех невольно стеснились сердца. Мать-настоятельница одна сохранила присутствие духа. Она приказала послать за отцом Бодуэном, а сестрам велела отдать усопшему последний долг. Обмытое и облаченное в смертные одежды тело Регимбальда было перенесено в церковь, и так в хлопотах завершилась ночь. За видимой твердостию настоятельница пыталась укрыть безнадежность ожидания. Смерть Регимбальда страшным образом подтвердила его подозрения, и матери-настоятельнице хотелось, чтоб уж скорее прибыли вызванные покойным солдаты и все бы разрешилось. И с наступлением утра она уже готова была встретить у врат конную стражу и телеги с орудиями пытальщиков. Но никого не было, а подойдя к окну, она увидела сестру Схоластику, как ни в чем не бывало вскапывающую грядки.
Заутра жизнь в обители двинулась своим порядком. Службы совершались как положено, сестры, занятые по хозяйству, трудились в чистоте совести, а охранники, пусть и торчали по своим местам, вели себя тихо. И этот-то порядок и поверг мать-настоятельницу в полную растерянность. Она чувствовала, что происходить нечто, чего она не может понять. И она не в силах была успокоиться, все время помня об угрозе, продолжавшей висеть над обителью. Когда настала пора отходить ко сну, она наконец приняла решение. Тем паче что после смерти Регимбальда охранники остались только у ворот и входа со двора, пост в переходе от жилых келий в лечебницу был покинут. Взяв свечу, она незаметно прошла в пустующую лечебницу. Обошла ее, хотя никого не предполагала здесь найти. В лечебнице имелся маленький чулан, где были сложены разные ремесленные орудия, коими сестры пользовались вынужденно из-за нехватки рабочих рук. Осветив его свечкой, мать-настоятельница отыскала то, что хотела, – небольшой железный лом, который был ей по силам. И, вооружившись им, мать-настоятельница подошла к забитой двери на заброшенную половину. Она поставила свечу на пол и стала подламывать доски, оборонявшие дверь. По прошествии некоторого времени это ей удалось. Дверь запиралась не на замок, а на засов. Напрягши все силы, мать-настоятельница с трудом отодвинула заржавленную щеколду, и дверь с тяжким скрипом приоткрылась. Мать-настоятельница подняла свечу и, сжимая ломик в правой руке, ступила через порог. Не успела она сделать и нескольких шагов, как сильный сквозняк загасил колеблющийся огонек ее свечи. Мать-настоятельница остановилась. Благоразумие звало ее назад, в известные пределы. Но настоятельница препоручила себя высшим силам и мысленно попыталась восстановить в памяти обустройство левого крыла, кое успела изучить в те времена, когда оно было обитаемо, и, чуя, что это ей удается, решила продолжать дальнейший путь во тьме. Она бросила бесполезную свечу и пошла, касаясь стены свободной рукой. В темноте, когда зрение не могло ей служить, слух ее необычайно обострился. И внезапно почудились ей шаги. Сжав лом в кулаке и простирая руку перед собой, она устремилась в ту сторону, откуда они слышались… И снова дробный топоток, сопровождаемый мерзким писком, от которого сжалось сердце даже такой бесстрашной женщины, как мать-настоятельница, смутил ее слух. Несколько минут она помедлила, уверяя себя, что малый народец не осквернит своим присутствием освященную землю, но запустелое крыло монастыря стало обиталищем мышей и крыс. Тут опять раздались шаги, совсем рядом. И принадлежали они, несомненно, человеку. Мать-настоятельница направилась вслед. И снова тишина. Так продолжалось неопределенное время. Шаги то возникали, то вновь пропадали. Мать-настоятельница продолжала свое преследование, оказываясь то в ветвящихся переходах, то в пустующих кельях, и, кружа по всему помещению, уже совсем потеряла представление о планировке здания, которое тщилась представить по памяти. Она брела наугад, вытянув перед собой руку, и хорошо, что она делала так, потому что настало мгновение, когда рука ее уперлась в стену. Мать-настоятельница оказалась в тупике и к тому же никак не могла вспомнить, где находится. Оставалось одно – ощупью искать дорогу назад. Повернувшись, она уже готова была к этому последнему, когда рядом, совсем рядом послышался тихий смех, лишенный, однако, всякого злорадства. И мать-настоятельница вновь побрела на звук, и вскоре ей почудилось, что стало светлее. Она оказалась в большом помещении, служившем в былые времена общей спальней для послушниц, теперь же, как и все здесь, лишенном всякого убранства. В слуховом окне под самой крышей была видна луна. Под окном, у стены, прислонившись к ней, стояла сестра Схоластика, и бледный лунный свет ложился к ее ногам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































