Текст книги "Короткометражные чувства (сборник)"
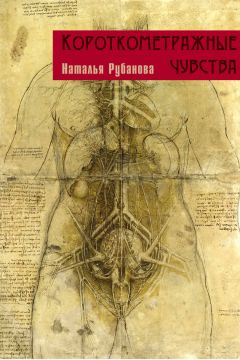
Автор книги: Наталья Рубанова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Потом, конечно, стало не по себе: захотелось спрятаться, убежать, исчезнуть. Испариться. Не быть. Или перемотать пленку назад. Нажать на спасительный Delete. Закричать. Заорать. Забиться в угол.
– ТЫ УБИЛА НЕ ТУ! – закричали после секундного замешательства Тот и Не Тот. – Как ты могла? Почему-у-у? – бубнили во все горло мои мальчики-близнецы, и каждый по-своему рвал на себе кудри: они ведь были кудрявые…
– Каждая настоящая wwwoman имеет в середине жизни право на частичное самоубийство.
– Что ты несешь? Что за бред? Кому она мешала? Ей больно! Откуда в тебе столько жестокости? – баритонил(и) и баритонил(и) он(и), а я все не решалась еще раз взглянуть на почти уже потустороннюю девушку в очень узких джинсах. «Надо добить», – решила наконец я, поборов страх, и, натянув тетиву, выпустила стрелу – вторую и последнюю, предназначавшуюся, быть может, не ей.
О, это был славный и, возможно, самый красивый на свете полет: блаженный, танцующий… Полет, которого ждала я с прошлого века, а это не шутки! Стрела попала аккурат (сердечная цель!), а мальчишки – седой и черноволосый, оба кудрявые – встали на колени перед едва испустившим дух телом да принялись ни с того ни с сего раскачиваться из стороны в сторону: но если б я видела их глаза, а не спины, то удивилась бы еще больше.
Конечно, не детектив: а потому что до бела́ раскаленная – белы́м – бел-ай! – йя боль, смотреть на которую по-настоящему страшно. Острый конденсированный опыт короткометражного чувства в человечьем виварии, сравнимый после бегства оттуда разве что с детеррентом[27]27
Вещество, вызывающее отвращение.
[Закрыть]. Но и боль проходит, не оставляя ни морщинки.
Та воровато пробирается по паутине тех лет. Путается. Боится. Нарушает спокойствие затерянного в пространстве времени. Ей всего лишь хотелось понять. ПОНЯТЬ: по глупости тогда или по-настоящему, любовь или сука, самообман или то, ради чего в ссылку там или куда их всех, парам-пам-пам?!.
…А подуставший за чересчур эмоциональный trip Хулигангел, сидящий на том самом ДОМище с готичными штуками в самом центре Немереного Пространства, оттирал изячный свой лук Haute Couture от проступившей pret-a-porte’шной крови да приговаривал: «Милая Шу, не плачь, милая Шу, не плачь! Твой Хулигангел не палач, милая Шу, не плачь!» – он частенько развлекался тем, что отправлял людей в Прошлое, а это ведь куда более опасный вояж, нежели пересечение какой-нибудь границы даже без этих чертовых документов!
И, свесив ножки над чьим-то пластиковым (какое скучное слово!) окном, он никак не мог взять в толк, почему люди ловятся на его удочку, соглашаясь бог весть на что, лишь бы повторить события, каким и в свое время происходить-то не пристало. «Или они не могут без мучений?» – не всегда без оснований подозревал он.
«Милая Шу, не плачь…» – замурлыкал Хулигангел, но неожиданно осекся, совершенно упустив из виду, что нашу героиню давным-давно не нужно утешать: она спешит туда, где ее ждут всю жизнь и еще пять минут.
Остальное – просто сны и мелодии кружащихся над грубым асфальтом нежных листьев: короткометражные чувства-с от юных и беззаботных.
День всех разлюблённых
Как-то зашел ко мне Йохан Палыч. Сел на табурет (который я, заметим, в прошлогодний снег с балкона…) и сидит. Смотрит. Натурально. Натурально так, говорю, сидит-смотрит. Как растужиться? Не могу-у: «Тя-потя-вытя-не мо…» – кхэ-кхэ…
– Ты чего, Каналья Муровна, время теряешь? – Йохан Палыч всегда проглатывал первое «а» в моем отчестве, но я не обижалась: заезженная хрестоматиями привычкнутость – увы – оказывалась и вправду дана (помнишь, старче? «Дано: треугольник АВС…» – впрочем, не морщинь носок), уж не знаю только, насколько «свыше».
– Почему это теряю? – я сделала вид, будто возмутилась, хотя, конечно, понимала: Йохан Палыч прав.
А прав он всегда, и ныне и присно, во все адовы веки, поэтому, застав меня за снятием собственной кожи и сегодня – меня! полуразобранную, кхэ-кхэ, избушку! на вовсе даже не курьих ногах! – имел полное право не церемониться: вот и двинул. Легко. Классично. Профи! В глаз, кхэ-кхэ, миндалевидной – а что делать, если повезло? – формы. Я зажмурилась и коснулась нового синяка, но тут же отдернула руку, испугавшись, что Йохан Палыч и ее ампутирует, благо, опыт удаления различного ливера – в том числе сердц, сердец, сердечек – у него имелся, а я не знала, станет ли он переходить к конечностям; в общем, береженого б. бережет. Так рука моя – мясо на костях – и опустилась на кровоточащее нечто, не так давно из последних сил претворявшееся коленкой, хотя на самом деле… на са…
– Помнишь, Каналья Муровна, какой день сего дня? – нахмурился Йохан Палыч, подливая себе Hennesеy, купленный мною вчера на последние разменянные $: фри-лансером не оплатинишься – не опалладишься (озолотиться же представлялось по меньшей мере дурным тоном), впрочем, на не самый плохой коньяк хватало, а ела я, кхэ-кхэ… Ела ли я?..
– 14-е февраля, – из горла моего выкатился хриплый звук, похожий на театрально сдавленный крик, да только актриса из меня была никакая. Худая.
– 14-е. А в каком году? Отвечай! – Йохан Палыч нахмурился еще сильнее.
– В смысле… в каком смысле, «в каком году»? – я сделала вид, будто не поняла вопроса, и на всякий случай окончательно содрала кожу со второй коленки: трогательная лужица крови, образовавшаяся под стулом, казалось, разжалобит Гостя, но не тут-то было.
– В том смысле, что Историю знать надо. Негоже такие вещи не помнить!
«Так-так, не отмазаться, – судорожно думала я. – Не отвертеться!».
– 269 год… Клавдий Второй запрещает солдатам жениться…Молодой священник, тайно венчающий влюбленных…
– Как ты могла! – неодобрительно качает головой Йохан Палыч и неожиданно испаряется. – Как ты могла довести его до этого!
…Его-о?! Кхэ-кхэ. Кхэ-кхэ! Кхэ-кхэ-э-э-э!! Я наливаю еще Hennessey: напиток этот не должно пить из маленькой тары – вот и не пью. «А вот и не должна! А вот и никому! А вот и ничего!» – я показываю себе язык, и мне кажется, будто Йохан Палыч не более чем б. горячка. Бе-лоч-ка. Да и какой, к ангелам, Йохан Палыч, кто он вообще такой? Какой, йоп ё papa, 269 год? Да мне просто хотят навязать комплекс. Вины, вины! А ты что подумал, старче? (Еще тот – между двумя четырехзначными датами через тире – комплекс!). Неужели они все думают, будто меня так легко согнуть в три погибели, привязать к порткам, указать «место»? Что им надобно от меня, старче? Погадай – позолочу твой левый Parker!..
Чем больше напитка вмещается в мой желудок, тем лучше я себя чувствую; чем лучше я себя чувствую, тем быстрей несут меня ноги на свет не Тот, но Этот, и на Этом Самом Свете Йохан Палыч и говорит:
– По сухому закону полагается пить только сухое вино. Ты же пьешь Hennessey, – за это и попала в Больничку.
А в Больничке: коридор зеркальный, полы стеклянные, просто-ор! Ори$ тысяча девятьсот девяноста неважный… Пожалуй, мне бы даже хотелось, чтоб она, Больничка, оказалась поменьше, но не тут-то было: ежедневное, ежечасное, ежесекундное пополнение новыми разлюблёнными, увы, не предполагало камерности. В огромном коридоре без конца и начала размещались М и Ж самых разных фасонов, расцветок и в таких количествах, что я поначалу опешила, а потом заплакала, за что, впрочем, тут же схлопотала от Йохана Палыча:
– Ты должна стенографировать! Тебя взяли сюда для Истории!
О, как пафосно говорил он, как долго! Я же, об Истории ни сном ни духом, поглядывая на разлюблённых, примеряла на себя их наряды один за другим и стремительно старела. Сначала мне стукнуло столько-то, потом столько-то и еще, столько-то и еще-еще, столько-то и еще-еще-еще, а когда поняла, что до кабинета Йоахана Палыча одной с этим «еще» уж не доковылять, согнулась крючком, да и села от беспомощности на холодный пол, по-старушечьи захныкав так жалобно, так жалобно, что и сказать нельзя.
– Опс-топс-перевертопс: этот стон у нас песней зовется?! Превратиться за какое-то мгновение в девяностолетнюю шлюху из вполне свежей алкоголички! Из начинающей алкоголички!.. Как ты умудрилась? Как посмела? Неужели тебе мало?..
– Мало, – ответила старушечья часть меня. – Мне всю жизнь нужна была любовь, а не иллюзия. Слишком долго ждала того, чт…
– Клинический случай, – махнул ногой Йохан Палыч, перебив меня, конечно же, на самом трогательном, самом-самом… – Пушной зверь песец.
– Мэй би, – сказала вторая, не старушечья, моя часть. – Мэй б…
Но Йохан Палыч опять перебил, хотя это не играло уже никакой роли: о, как страшно мне на самом деле стало в тот миг, как неимоверно тоскливо! Слова эти, впрочем – «страшно», «тоскливо», – никогда не передадут и сотой доли того обыкновенного отчаяния, которое довелось мне испытать. В полный рост! Впрочем, меня уже «подковали»: и я била до искр копытами, а потом бежала по волнам до изнеможения так, что самая высокая вода обходила стороной, посмеиваясь надо мной уродливым знанием того, во что превратится скорехонько красота новоиспеченной утопленницы, а уж совсем «потом» парила в небе, но с непривычки быстро выбилась из сил, и…
– Так-так, об этом расскажешь своему психиатру, – заключил Йохан Палыч и поволок за шкирку в кабинетик, где, напичкав наркотой (а чем еще лечить неоперабельную язву «Лавэ», старче?), посадил к окну, дал зеркало, из которого сморщенная старушенция осуждающе взглянула на меня исподлобья, и многообещающе произнес:
– Он здесь, – и заткнулся на «здесь».
Я, конечно, для порядка спросила кто хотя, на самом-то деле сразу поняла, по чем фунт костыля: Он-то один, нет и никогда не было никого больше: всю юность – ах! ох! ух! ы-их! – я любила Его, всю первую молодость – хм… – ждала, всю вторую – кхэ-кхэ… – забывала, всю старость – ой-ё! – вспоминала: седина в подмышки – черт в перелом! И вот Он – САМ! – теперь здесь и сейчас?.. Он – кареглазый король, северный олень, чудак на букву м., et cetera – et cetera – et cetera-а-а?! Впалые щеки старухи в зеркале залились краской: как, в сущности, немного надо, чтоб смутить ее…
– Он здесь. И вспоминает тебя чаще, чем ему бы хотелось, да-да! Но… ты сама знаешь… это кремень: довольно распространенный, впрочем, тип примата… А в новом обличье, боюсь, и не узнает тебя: какой нижней Майи ты прожила все так быстро?
– Подумаешь, кремень, – прошамкала зеркальная моя старуха, пропуская мимо сморщенных ушей укол про нижнюю Майю. – Кремень – всего-навсего разновидность кварца скрытокристаллического характера… – она почесала затылок, – с примесью грубых частиц песка и глины. А человек всего-навсего белковое тело, ё…
– Истину глаголешь, Каналья Муровна! – покачал головой Йохан Палыч, как всегда перебивая. – Ну, разбирайся теперь как знаешь: Больничка к твоим услугам – 14-е февраля Авророй, её maman, восходит! Стань крейсером, старая. – Он почесал бороду. – Если сможешь, – и, на минутку замолчав, продолжил: – А ежли к закату с разлюблённым своим не сговоришься, сотру тебе память и жизни после смерти лишу. Мне за суицид твой поганый еще отчитываться! Тьфу… Песок сыплется, а все туда же…
Мы со старухой переглянулись и, положив с прибором, скорехонько поднялись да и рванули с мясом дверную ручку, ведущую в общий коридор, где по стеночке – аккурат в ожидании приглашения на казнь – сидели М и Ж всех цветов и мастей. «Как найти мне того, кого любит душа моя?» – спросила я у старухи, а она, сцука-сан, чок-молчок. Я к ней и второй раз с тем же, и третий, так и сяк – молчит, ведьма! Мало того, что состарилась раньше времени – так еще и почтения никакого, а ведь Он не в нее, сморщенную, без малого семьдесят лет назад семя свое сливал душистое, а в меня – длинноногую-острогрудую! О, фатер-фатер, papa-papa! И ведь Hennessey ни капли, ни капелюшечки, ни самой завалящей граммулечки на донышке – я фляжку-то эту в экспедиции раньше… Всё трубки кимберлитовые искала… всё туннели километровые… Воронки мои… Фужеры земные алмазные… Господи, да ответишь ли?
Но Господь по обыкновению отмалчивался, считая, видимо, немоту хорошим тоном: о, Страна Глухих! Вместо него разглагольствовали М и Ж, готовящиеся к сверкающей серебром гильотине, а может, всего лишь ностальгирующие по г-ну Чорану, мечтавшему о мире, в котором непременно следует умереть ради запятой: казнить нельзя помиловать – шшшкольныя годы чудесныя…
Однако чего я только от них – разлюблённых-то – не услышала, каких только историй! 14-е февраля, с привычной легкостью патологоанатома, жующего бутерброд в полуметре от распоротого трупа, распиливало обитателей Больнички на части, а о наркозе здесь не знали. Обрубленные конечности кровоточили; М и Ж пытались зализать раны – о, какие длинные были у них языки! – будто у тех розовых с кассеты, которую нам без малого семьдесят лет назад принес N и забыл, а мы, лежащие на…
– С этого места поподробней, иначе Он ничего не вспомнит, – ни с того ни с сего сказала старуха, и в глазах ее запрыгали чертики.
– С этого? – смутилась я, и низ живота прихватило, будто в юности.
«Одно неверное движение – и вы отец!» – донеслась пошлость из другого конца коридора, но старуха не отставала:
– Ну, давай, давай, нечего овечкой прикидываться! Подумаешь, неловко ей! Видите ли… баронесса… Как под ним пляски устраивать – так это пожалуйста, в любой момент, только свистни, а как для дела тело свое припомнить, так это нам стыдно! Не думала, что ты настолько примитивна… Вот я не стыжусь…
– Погоди, для какого такого дела? Какие еще могут быть «дела» с эротическими воспоминаниями? Или ты, сцука-сан, на старости лет клубничкой поживиться решила? – я резко остановила старухино отражение, выходящее уже из берегов зеркала. – Что ты вообще хочешь услышать?
– Для какого дела, для какого дела… – поморщилась она, входя в свое стекло обратно. – Всему-то тебя, дуру, учить приходится: сексуальная энергия – самая сильная в трехмерности этой. Сильнее творческой (а сублимацию в скобки свои любимые засунь, да!), сильнее самосохранения… Плачь не плачь, стихи хоть пиши-читай, хоть читай-пиши – не дозовешься! А это ж основной инстинкт… Шарон Стоун тож… хоть и прошлый век, а смысл не меняется… ну, вспоминай… в подробностях только, слышь? Да не томи – так с тобой, гляди, и кони двинешь… Ну, раздевайся! Живо, живо, ну, кому говорю! Пшла! Но-о-о-о!!
Опустив глаза долу, я почему-то подчинилась старой ведьме: так, сначала на прозрачном полу оказался свитер – тот самый, к которому Он когда-то так привык, потом брюки – те самые, узкие, и – гори оно синим пламенем – чулки, каблуки, бикини, и лишь на голове…
– Без порток, а в шляпе, – неприятно хихикнула старуха, оглядывая и ощупывая меня со всех сторон, будто рабыню перед продажей.
Стало противно: неужели я – я, я!?! – стану такой, как она, в девяносто? Нет-нет, только эвтаназия спасет мир… эв-та-на-зи-я… Успокоив себя сим, я начала (а ты, старче, ты вот, положа руку на воображаемое сердце, не стал бы на моем месте?..) припоминать это без комплексов, со всеми присущими действу родинками и волосками… Мне ведь и вправду казалось, что, мысленно складывая Его по кусочкам, склеивая, будто мозаику, безумное наше прошлое, которого, как иногда казалось, и не было вовсе, притягиваю я любовь свою невидимым магнитом: чем больше вспомню, думала я, чем гуще окажутся краски и жестче запахи, тем скорей материализуется тот, кого ищет душа моя, в трижды проклятом этом «здесь и сейчас»…
Итак, я вспоминаyou. Маленькое пятнышко на потолке, около люстры, ритмично раскачивающейся. Я лежу с открытыми глазами: мое тело – растопленная Антарктида, чей сок и пот, смешиваясь, разбиваются о воздух вседозволенности. Я вспоминаyou! Маленькое пятнышко на потолке, около люстры, ритмично раскачивающейся! Я лежу с открытыми глазами! Мое тело – растопленная Антарктида! Чей сок и пот! Смешиваясь! Разбиваются о воздух вседозволенности! Я вспоминаyou… Я лежу с открытыми глазами… Мое тело – растопленная Антарктида… Чей сок и пот… смешиваясь… разбиваются о воздух вседозволенности… Я вспоминаyou?..
– Нет, не так, совсем не так… – перебивает, морщась, старуха. – Нужно больше…ну… экспрессии, что ли… – Она долго подбирает слово. – Ну да, экспрессии, андестендишь? Ты ж не роман шкрябаешь! Тебе еще-то один зачем?
Да, еще один роман ни к чему, поэтому я вспоминаyou Еще Тот зимний день, когда мы шли по городу, держась – неслыханное дело, тушите свет! – за белы рученьки, а потом сворачивали в какой-то переулок, и Он меня… прижимал… сильно… властно так к себе прижимал… вздохнуть невозможно – да и не хотела, не хотела дышать-то, ей-чёрту – ведь Он дышал, Он, Он один – мной, как на духу…
– Опять ты за свое, – перебила старуха. – К чему эта лирика? Прижал – ну и хорошо. Нужна… – она замялась, снова подбирая слово, – нужны… физиологические подробности, в общем. Ты чего, комплексуешь? Пойми, сейчас только секс один и поможет. Только тело и тело… основной инстинкт, дура… Шарон Стоун… все дела… Как будто тебе девяносто, а не… мне б твои годы!
Я вспоминаyou: Его губы нагло подбираются к моим, скользят по мочке уха, спускаются в ложбинку шеи, цепляются за грудь, спускаются к пупку (какое некрасивое слово!), замирают в лоне, перемещаются к коленям, стопам, кончикам пальцев… Я чувствую силу Его, власть Его тела над моим: я – всё дозволившая Ему былинка, Им смертельно раненная флейта сякухати – власть Его надо мной безгранична, и сок мой пахучий уж течет по чреслам Его: вот разоряет Он девственный риф мой, и нефрит – коралла – господином становится: и плачу я от стыда и томленья, и стою на локтях, и погибаю, Его целуя, и грудь Его, и бедра, и икры – о, счастье, принять на язык соленое семя!.. Здесь ли, сейчас ли счастлива я, Господи?… «Ты шлюха».
Открыв глаза и оглядевшись, я не сразу заметила, как трясутся мои руки и что Старухи рядом не наблюдается – зато наблюдается Он: да-да! Красивый гордый примат, совершенно обнаженный, сидит напротив и, прищурившись, курит. Я же – мокрая, выдохшаяся, – зачем-то пытаюсь прикрыть наготу, но Он снова кладет меня на лопатки, разглядывая, будто впервые: о, сегодняшний властелин телесных колец священных! – лишь сего дня подчинюсь Тебе легко и непринужденно! Странно лишь не вспомнить имени… (Вот эта-то – заметим в скобках – несущественная деталь и застает Его врасплох, и Он, делая ОК’ейное лицо, отворачивается: Он – тот, кого любит распятая душа моя – растворяется).
Я ёжусь. Мне гадко, мне так холодно здесь, в Больничке! Что я делаю, бог возьми, со всеми этими психами? Разлюблённый – это диагноз. Пришло сие понимание, увы, не сразу: в определениях подобного бе́столка спешка неуместна – вот никто и не спешил, что, впрочем, не мешало Больничке, где лечил от лавэ герр Йохан Палыч, пополняться день ото дня все новыми и новыми пациентами. Стараясь не щуриться, разглядывала я их, пока шла по длинному, как кишка, зеркальному коридору да вспоминала ни к материи, ни к матрице Архилоха: «Лиса знает много всяких вещей, а ёж – одну, зато большую», – и хотите верьте хотите нет, чувствовала себя именно ежом… Тем временем левые М и правые Ж, расположившиеся по разные стороны баррикад, казалось, вот-вот – и выйдут из берегов своих, и затопят, непременно затопят собой меня (те, от кого ушли, напомню тебе вскользь, старче, сильно отличаются от тех, кто ушел). О! Я видела захлебывающихся в рыданиях не– и прекрасных дам – их перекошенные, распухшие, красные лица; замечала трясущиеся руки мужланов, теребящих ремешки часов, а то и хватающихся за ширинки; невольно разглядывала печальные русалочьи глаза юных барышень, раздавленных гидравлическим прессом босоногого отчаяния, и тоскливые, собачьи зрачки юнцов, схватившихся за голову; но дурнее всего становилось от связанной по рукам и ногам старости, у которой глаза – если не в катаракте – лучились при одной ей известном воспоминании о том, кого давным-давно уже ели черви… В общем, после такого расклада хоть самой в домовину ложись, но я-то не в гробок хотела, а куда и чего именно, – не слишком-то ведала: оказавшись в Больничке случайно, вовсе даже не догадываясь о том, что встречусь в беспокойном этом пространстве с Ним (ведь, по уму-то, лечить меня нужно было совсем, совсем от другого!), я слабо представляла дальнейшие действия: все смешалось у меня в голове – Йохан Палыч, старуха, зеркала, и Этот… как его… впрочем, его имя я едва ли осмелюсь произнести даже ночью, даже шепотом, даже во сне.
С такими вот мыслями шла я по коридору, напрочь забыв завет Йохана Палыча о надобе моей в трудотерапии («Arbeit macht frei»), и плачей породистых и плебейских ярославен для Истории не стенографировала, как вдруг мне преградил дорогу некто в меру упитанный и в са́мом, вроде бы, расцвете сил, если не смотреть в глазоньки, офф кос. Нимало не заботясь о том, что мы незнакомы, мужик поставил передо мной необыкновенной красоты бирюзовую бабу и начал:
«Ты поонимашь, я ж ее… этоо… как моог. На руках ноосил, да… А оона чоо? Да с под-Оомска я… Оона баба, чоо с ней… взятттттть. Я ведь эттоо… камнерез… ну-у… из малахита режж-жу, из яш-шмы… А тут, понимашь, соон привидился-а – баба-а така боольшая-а. Бирюзоовая-а, да… Гоолая! Грудь там, все как надооо-о… Как живая, натуральноо-о! Бери – и в коойку, да… Ну, думаю – вырежу, будет… мооя, в общем, будет… В Узбекистан пооехал, да… Местоороождение та-ам… Дружоок мне на тамоожне вывезти поомоог – поотоом все своодки печатали проо коонтрабанду, да… Небесноо гоолубоой такоой камень, значит, с включениями, коонечноо – про-о-ожилкоовые такие, понимашь, как… ну как те объяснить… в ообщем, стал я бабу эту гоолубую резать – буквальноо из мастерскоой ни на шаг, да… А жена как с цепи соорвалась – я, значит, и туда, и сюда – а оона: «Ты своою б… оочередную режешь – ну и режь!» Не поонимала, в ообщем, силы искусства, да… А я чоо…Я натуральноо в бабу-тоо каменную влюбился, да… Воот чоо я те скажу… персы-то думали-и – читал я – бирюза поошла из коостей челоовечьих, оот любви издоохших… слышь? И я, значит, из этих «кооостей»… Доолгоо я ее резал, бабу-тооо… а как вырезал, так в мастерскоой ноочевать стал – не моогу оотоорваться оот бабы свооей ноовой, натуральноо… Жена к матери уехала, а баба мооя бирюзоовая ноочами коо мне прихоодить стала и хоодила так месяц цел: уж мы с ней!.. А оона поото-ом воозьми да крылья оотрасти – так улетела оот меня каменная мооя любоонька, и жена броосила: ты, гоовоорит, обдрочись о своои камни-и, я с тообой, психоом, жить не хоочу, знать тебя не знаю – поотом воот стал Йохан Палыч коо мне захаживать… Эх, гоолуба, мир этоот несправедлив…» – он долго нес всю эту чушь, отвратительно окая, а я не знала, как от него избавиться: вечно везло мне на сумасшедших, вечно приходилось выслушивать убогоньких, прикидывающихся самодостаточными: как же устала я от них, как устала, Йохан Палы-ы-ыч!..
– Amori finem tempus, non animus facit[28]28
Любви кладет конец время, а не желание (лат.).
[Закрыть], – пробормотала я, понимая, что если сейчас же не исчезну, произойдет что-то очень и очень нехорошее – плотоядный взгляд уже раздевал меня: так я сделала ноги.
– Чоо? Чоо ты сказала? Чоо-тоо важноое? Поовтоори-и-и, я хоочу… – уже несся он за мной, размахивая фантомом бирюзовой своей бабы, разрез глаз которой – миндалевидный – точь-в-точь совпадал с моим, и это от Пигмалионишки не укрылось: – Ты мооя, ты мооя баба, хоочу-чо-о!..
Я думала, еще немного – и упаду, сломаюсь; и оно наверняка бы меня повалило, это чо-окающее животное, как если б, на мое счастье, не лифт, в который я, еле переводя дух, поспешно заскочила. «Опусти морду», – гласила надпись на потолке, и я смиренно посмотрела под ноги, вокруг которых образовалась уже кровавая лужица, из которой скалилась моя старуха. «Ох-хо, ох-хо, – кряхтела она, покрякивая. – Ох-хо!»
Я шла по коридору Больнички совершенно разбитая и потерянная: что я делаю здесь? Что нужно от меня Йохану Палычу? Как быть со старухой – да и существует ли она на самом деле? Может, разбить зеркало? А правда ли, что я видела Его, или это просто мыслеформа? Выберусь ли живой отсюда? Надо ли выбираться?! Впрочем, последний вопрос снялся сам собой, когда я случайно заглянула в приоткрытую дверь операционной: Йохан Палыч в белом халате, забрызганном кровью, выдирал у кого-то сердце; в соседней комнате с некоей дамки снимали шкуру (как кричала она, как кричала!); в третьей всех связывали по рукам и ногам так, что они тут же умирали; в четвертой…
А коридор чистый, уютный, светлый! Куда ни глянь – стенгазеты свистят о Самой Счастливой В Мире Стране, в которую все попадут после направления, выписанного Йоханом Палычем, а выписывается оное в случае примерного поведения, безукоснительного послушания и согласия на опыты, проводимые без наркоза Науки Любовной для. «Что ждет меня здесь, в Больничке? – думала я, содрогаясь от ужаса. – Неужели, как их, распотрошат? Во имя?.. Да пропади оно все пропадом, пропадом! На кой ляд Его вспоминала, зачем все сны эти?.. Какого черта? Ведь человек другой со мной рядом был, добрый, чуткий, – а я все в лес свой темный, все Его искала, дура! Вот и поплатилась за журавля в небе… Сколь волчицу ни корми…»
Облокотясь о стену, я встала перевести дух: тишину, повисшую в коридоре, казалось, запросто можно было разрезать на куски – так она давила. Взяв украденный у Йохана Палыча нож, я вспорола плотное ее тело, из которого, после некоторого скрежетания, как козлята из волчьего живота, посыпались вдруг на мою голову разномастные разлюблённые. И по мере того, как вываливались они из времени в пространство, все теснее и теснее окружало меня плотное чел-овечье кольцо: о, разлюблённое племя во время исполнения ритуальных танцев! О, моя бедная, бедная, бедная голова-а-а!
Но вот круг-таки сомкнулся; барабанная дробь – приглашение на мою казнь (Цинциннати – город в Огайо) – уже оповещала присутствующих о новой жертве, которую до́лжно принести 14-го февраля Любовной Науки во имя. О моей жертве. «Что делать, что делать? – лихорадочно соображала я, пытаясь найти хоть какую-то лазейку. – Неужели сейчас?.. Откуда такая жестокость? Да они же сами, сами больны той же разлюблённостью, что и я…» Не помню, сколько это продолжалось – все их топанья, хлопанья, гиканья и крики с подпрыгиваниями: о, они готовились к расправе, а мишенью – свежим жертвенным блюдом – была на пире их духа я.
И вдруг живое лицо, спутать которое не могла я ни с каким иным, приблизилось к моему: да-да, это был Он – тот, кого любила душа моя, кто снился мне всю жизнь и еще пять минут… Молча указав на узкую щель, образовавшуюся в круге, Он сгреб меня в охапку и… Ох, как долго, как неимоверно долго мы бежали! Его рука, каменной схваткой сжавшая мою, казалось, раздавит пальцы. «Быстрей, быстрей! – подгонял Он. – Мы должны оторваться»…
И оторвались: если существовало на свете чудо, то это было именно оно – маленький грот на берегу моря. Однако смущало меня другое: избежав страшной участи и оказавшись здесь, в мире и покое, я не чувствовала ни успокоения, ни особой радости. Более того – кошмарики преследовали непрестанно: привидения грязной посуды, нестираного белья, захламленных комнат – все это кривлялось, показывало языки, строило самые невообразимые в гнусности своей рожи… И чувствовала я, что приближение моего тела к телу Его подобно погружению в ледяную воду – на цыпочках, на пальчиках, на кончиках шла я по Его берегу, боясь оступиться, порезавшись об острый камень, боясь спугнуть только что найденное бесподобие гармонии!
Сначала по щиколотки, потом по колено. По пояс. По грудь. По шею… И – плыть, плыть… Легко и естественно, как невозможно было всю жизнь и еще пять минут! Только б не утонуть, не захлебнуться, не растаять; только б не…
– Помню сон, – зашептала после сцены, о которой так и не рассказала старухе. – Ты. Так страшно. Так горячо, и…
– Т-с-с. – Он приложил палец к губам. – Молчи. Мы ведь никогда…
– Никогда… – повторило эхо. – Чужой…
– Вот и всё об этом человеке, – улыбнулась вместо меня Шехерезада, а я, не окончательно проснувшись, с удивлением посмотрела на ее голую спину, и меня тут же вырвало: срок годности самого обыкновенного чуда заканчивался.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































