Текст книги "Сама жизнь (сборник)"
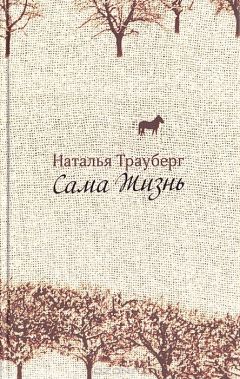
Автор книги: Наталья Трауберг
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Камень
Недавно я с удивлением заметила, что стала разделять свои статейки на что-то вроде главок – 1, 2, 3… Надеюсь, причина – не в том, что я, сверху вниз, «пасу народы». Во всяком случае, мне кажется, довело до этого стремление к ушам. Что ни скажи – спасибо, если поймут просто наоборот. Обобщая, приведу притчу. Как-то Владимир Андреевич Успенский слушал-слушал рассуждения о том, кто – «за Улицкую», кто – «за Малецкого», и внес поправку: нет, не так – «кто против Улицкой» и «кто против Малецкого».
Эту глухую стену партийности я и пытаюсь раскрошить своими уточнениями. Почти никогда не выходит. Однако попробую еще раз – в связи с упомянутыми писателями. Невольный каламбур названия огорчает и меня, но как-то уж так подумалось.
1
Роман о Даниэле Штайне ответил на такую сильную потребность, что примерно год его даже толком не ругали. Коту ясно, что Л. Е. подставилась, как только могла. Стараясь объяснить и показать, насколько важна ОРТОПРАКСИЯ[56]56
Правильное поведение (греч.). Ред.
[Закрыть], она самым простодушным образом устраняет знакомый перекос в сторону жестокой ортодоксии. Заметить и обличить догматические ошибки так легко, что я, например, в самом начале написала очень маленькую статейку и назвала ее «На минном поле». Однако я ошиблась. Если кто что и заметил, он это скрыл. Книга оказалась поразительно нужной, минимум – по двум причинам. Сперва попытаюсь рассказать о той, которая мне кажется хорошей.
Снова обратимся к притче. Когда-то, в 1970-х, была выставка византийской мозаики – большие репродукции вроде плакатов. Мы отправились туда с недавно крестившейся барышней. Она походила, посмотрела и воскликнула: «Жизни нет от этих Пантократоров!»
Ее беспощадность ликов огорчила. Многих она, что хуже, радовала. Помню, я рассказывала приятелю, что литовские священники строго постукивают по стенке конфессионала, когда кающийся слишком долго говорит. Он подпрыгнул от восторга. Во второй половине 1960-х сложилось маленькое сообщество, человек пять, просто упивавшееся жестокостью исторических конфессий – кто каких, только бы не милость. Ее ошибочно связывали с советским гуманизмом, хотя где его нашли, я не знаю.
Помню и то, как Аверинцев шел по тогдашней улице Горького и причитал: «Ну как убедить NN, что милосердие не противопоказано христианству?» Убедить не удалось; скажем, этот самый NN объяснял, что казнить Чаушеску лучше, чем дать приют Норьеге и Хоннекеру (заметьте, не «одобрить» их, а дать приют, да еще в церкви). Когда собеседник не согласился, NN прибавил: «Знаете, мы иначе относимся к смерти».
Если этих притч недостаточно – стена стоит, как стояла, и дальше читать не стоит. Смысл их такой: люди устали выворачивать себя, примиряясь с тем, что Бог беспощаден, а мы должны Ему в этом подражать. И правда, можно ли, при мало-мальски живой душе, долго выдерживать что-то, прямо противоположное истине?
Соответственно, читать о милостивом и сострадательном христианине – очень большая радость. Действительно, глоток воды или воздуха. Удивительно ли, что такого пастыря считают «камнем», который ложится во главу угла?
2
Как известно, у зла нет «бытийственного статуса». Само оно есть, но – вроде дыры на экране, когда загорелась пленка. Любая гадость – искажение чего-то хорошего. Настойчивые напоминания о беспощадности Бога – крайне искаженное сообщение о том, что Он ясно видит и пылко ненавидит грех. Слова вроде «ненависть к греху и любовь к грешнику» пропитали такой фальшью, что их и вспоминать неприятно, но ничего не попишешь – это правда.
Если трудно заметить что-то в Евангелии, посмотрим на отца Брауна. Зло он обличает прямо и резко, а людей почти всегда просто уводит от возмездия, заменяя его попыткой пробить уши самым мирным, необидным образом, обычно беседой. Выйдет, как с Фламбо, – прекрасно; не выйдет, как с Калоном («Око Аполлона») – ужасно, однако других возможностей нет. Ни привычной теперь аномии («ах, все едино, все правы!..»), ни беспощадности фарисеев с каменьями Спаситель не допускает. Получается примерно так: сперва Он предупреждает, обращаясь и ко всем, и к каждому; потом – жалеет и лечит нас, уже только по отдельности.
Когда примерно в начале 1970-х в Церковь пошли те, кто считал себя интеллигентами, они, как и все люди падшего мира, легко попали под «закон готтентота». Пишу «они», а не «я» только потому, что меня ввели в Церковь очень рано добрые и мудрые женщины. Вместе с известием «Бог есть» я получила странную систему ценностей, где суровы – к себе, милостивы к другим, «нежного слабей жестокий», и тому подобное. Здесь речь идет не о том, хорошо ли я этому следовала, – конечно, плохо; но я знала, что так говорит Бог.
Неофит 1970-х не всегда это знал. Главный закон падшего мира быстро облегчал задачу: к другим – беспощадность, к себе – вседозволенность. Конечно, выражалось это на практике, в той самой «…праксии». Ортодоксия не очень страдала; орудовать цитатами нетрудно, тем более – ругать «неправильных». Но сейчас не стоит описывать способы удобных подмен, их и так описывают со времени пророков. Сказать я хочу о другом, более частном: книга о Даниэле Штайне оказалась чем-то вроде индульгенции для особой, очень мучительной, почти отталкивающей подмены. Писать о ней и больно, и стыдно. Примерно она сводится к тому, что мы всерьез считаем себя «хорошими христианами», даже элитой какой-то – прости, Господи. Изнутри этого не увидишь, извне – только послушайте «врагов»… Да, мы вводим в соблазн, и дело не в наших социальных взглядах (скажем, в либерализме), а в самом простом самодовольстве, самохвальстве, из-за которого Христос сравнил фарисеев с лицемерами или (у Аверинцева) с лицедеями. Любой человек, ищущий правды, но смотрящий на нас со стороны, немедленно это замечает, и слава Богу.
Мне кажется, трогательный и милостивый рассказ о Божьем человеке становится причиной соблазна именно поэтому. Ну, выбросим беседу с Папой, фразы о Непорочном Зачатии или Символ веры – раздражение останется. Наверное, многие устали не только от хищных пантократоров, но и от смутного омута, где нет греха, нет вины, нет покаяния и искупления. Можно сравнить эти виды зла со Сциллой и Харибдой. Мы больше измучены первым, но те, кто намного моложе, достаточно хлебнули и второго. Да что там, зло распада есть всегда, при сколь угодно беспощадном режиме. (В церковной жизни его обычно меньше, но сейчас – хватает, особенно среди интеллигенции и богемы.)
Если это верно и раздражает дух наших самоупоенных тусовок, ничего не попишешь. Да, мир – такой, и мы, в основном, такие. Да, и Бог, и Даниил, все равно щадят нас и любят, но восхищаться самим этим духом, честное слово, не надо.
3
Надеюсь, эти попытки пройти между Сциллой и Харибдой, по царскому пути, никому не причинят боли. Наверное, надеюсь я зря. Все-таки получается, что, как Коржавин у Довлатова, я обидела сразу полгорода. Может быть, как-то смягчит дело то, что именно «полгорода», а не отдельных людей, с их страданиями, беззащитностью и одиночеством.
На вершине земли
На вершине земли
1
Писать о Иерусалиме почти невозможно. Слово здесь и беспомощно, и нецеломудренно. Конечно, не всякое слово; и Писание, и даже великие стихи эту высоту берут, но только они. Единственное, что вполне можно, но не совсем безопасно выразить – ясное, четкое ощущение: он отторгает всякую неправду. Земная суета – пожалуйста, это есть; обычный западный город, вроде Лондона или, говорят, Парижа. Уютный центр в том стиле, за который мы так ухватились сейчас, догадавшись, сколько в нем сообразности человеку. Мандельштам был бы просто в восторге, он по-детски эту роскошь любил. Конторы с вежливыми и прелестными барышнями, банки какие-то, большие медленные лифты. Для всего этого совсем не надо ездить в святые места, но это – есть, и нисколько не шокирует. Скорее наоборот.
Плачешь и рыдаешь совсем в других местах и по другому поводу. Может быть, соберусь с духом и сумею (а кроме того, посмею) написать об этом. Чтобы разогнаться, скажу сейчас о книгах. Книги издаются, их много, три из них мне подарили авторы.
О самой филологической из них, посвященной Лермонтову, писать не буду, просто порассуждаю о филологах того поколения, к которому принадлежит ее автор, Илья Захарович Серман. По приезде я купила книгу Якова Соломоновича Лурье. Немного моложе их и учился чуть позже Юрий Михайлович Лотман. Все они – люди замечательные, и не в том смысле, что филологи самой высокой пробы, а в том, что они – очень хорошие. Все трое, и довольно много других, принадлежат к тем, кто учился в Ленинградском университете конца 1930-х–1940-х годов (рухнуло это в 1948-м–1949-м). В предисловии к книге Якова Соломоновича говорится об историческом факультете, но это неважно, истфак и филфак еще ощущали себя чем-то единым, а какое-то время вместе составляли ИФЛИ. Так вот, после слов о том, что вернулись и преподавали Гревс, Тарле и другие (Тарле был и при нас, ученики Гревса нас учили), сказано, что Яков Соломонович в книге об отце назвал такой истфак «Афины и апокалипсис». Вот уж верно! Надеюсь когда-нибудь написать об этом подробней, но сейчас важно одно: никто из этих молодых ученых в Бога не верил.
Выводы делать не хочется. Сказать, что нам стыдно? Это не совсем то. Стыдно, конечно, мы – хуже, но не в этом дело. Я знаю христиан, которые не хуже, а просто другие, настолько другие, что привычные слова «анонимные христиане» к тем, неверующим, не применишь. На их фоне и видишь, чем отличается христианин. Отличается он, собственно говоря, безумием. У тех поистине прекрасных людей – благородство, милость, стойкость, скромность, в каком-то смысле – кротость и смирение; здесь останавливаемся. Прибавлю только: думая о них или общаясь с ними, особенно ясно понимаешь, что христиане не какая-то massa salvationis[57]57
Massa salvationis – предназначенное к спасению большинство (лат.) Ред.
[Закрыть], а именно дрожжи, соль, совершающие довольно грязную и странную работу. Что же до тех людей, вернее назвать их праведными, живущими по правде. Может быть, «у нас» – перекос в сторону милости, «у них» – в сторону правды. Связано ли это с тем, что те, о ком я говорила – евреи? Я не знаю.
Что же до самой книги Ильи Захаровича, писать о ней не берусь, потому что я уже не филолог. Другие две книги, надеюсь, подведут к чему-то вроде проповеди.
Книга Михаила Вайскопфа «Во весь логос», как вы догадываетесь, о Маяковском. Она сама – пламенная, как проповедь, и очень интересная. Пафос ее сводится к тому самому, о чем писала в «Русской мысли» Ирина Муравьева. Помните? Бабушка и девочка не могут принять его беспощадности. Господи, как это точно! Совершенно то же самое было когда-то со мной. Автор книги, отнюдь не дрожащая леди Джейн, а блистательный и взрослый ученый, лихо, просто наотмашь пишет о том же. Очень радуешься, когда он приводит жуткие стихи о мальчике Пете и прибавляет, что «по заряду дегуманизации» они «сопоставимы разве что с нацистской пропагандой, которая предваряла поголовное уничтожение евреев». Есть и про «кровожадно-сентиментальный культ человека», и про то, что разговор с Лениным «смахивает на отчет беса перед Люцифером» («работа адовая»). Пересказывать книгу не стоит, надеюсь – вы ее прочитаете, но вот о чем подумаем.
Мудрый, кроткий и осужденный когда-то на 25(!) лет Илья Серман ответил маленькой статьей на первую книгу в этом духе, труд Юрия Карабчиевского. И он, и мы выносим за скобки огромный дар Маяковского, не в нем дело. Но если бы обобщить то, что говорит И. З., и то, что пытаюсь сказать сейчас я, придется вспомнить разницу между оценкой и судом.
Помню, как поразило меня в те, студенческие годы маленькое рассуждение, кажется, у Пешковского: одно дело сказать – «он украл», совсем другое – «он вор». Я-то в Бога верила и мгновенно, навсегда перенесла это из филологии в жизнь. Потом встречала и в рассказах о пустынниках, и в рассуждениях Льюиса.
Вспомнив, смотрю на Маяковского – и вижу несчастное поколение полухулиганов, угодивших в капкан советской власти. Что говорить, они туда охотно лезли, но я так много их видела, так много от них вынесла, что просто обязана разглядеть сквозь всё самолюбивых, потерянных детей. Очень легко сказать, что и Гитлер – самолюбивый подросток. Да, может быть, всякая беспощадность коренится там, в досаде и недолюбленности, и ничего хорошего в этом нет, но кто-то же должен не оправдать, а пожалеть их! Наверное, только христианам положено различать оправдание и жалость; вот и попробуем.
Никакого спора с книгой про логос здесь нет; я оттолкнулась от нее и просто размышляю[58]58
К сожалению, очень милую мне жену автора, кажется, огорчили эти рассуждения.
[Закрыть].
Напоследок – предположим, что у кого-то из людей, похожих на Маяковского, есть дети. Тогда и видно, как невозможны обе привычные позиции: «Осуждаю и отрекаюсь!» и: «Как кто, а мой был порядочный». Нет, не был; а вот несчастным – был.
Теперь о том, что намного страшнее и больше связано с Иерусалимом (то есть – прямо связано; косвенно с ним связано всё). Нет ли у нас той интонации, с которой Маяковский говорит про мальчика Петю? Кроткий Честертон, и тот пишет «Лепанто», восхищаясь мечом. У него это хотя бы символы «войны на небе», но Христос, кажется, не заповедовал нам осуществлять ее на земле, рубя в капусту всякие плевелы. Беллок восхищался мечом да и костром уже не по-мальчишески, и я не удивилась, когда прочитала в дневниках Ивлина Во о том, как сразу после войны тот встретил его в гостях, старого и жалкого, вообще – такого, с которым никто не может побыть даже из вежливости. Заметьте, что обычно так и бывает. В одном романе Вудхауза служанка говорит о хозяине: «Он у нас титан». Такие титаны и становятся жалкими, они ведь не умели терпеть, а главное – щадить. Что делает Господь – разыгрывает с ними «золотое правило»? Не знаю. Далеко не всякий из них ахает: вот каково было тем, кого я не щадил! Но это – в пределах жизни; на переходе «туда», может, и ахают.
Произведен ли над Маяковским «суд без милости», мы не знаем. Я думаю, что нет. Даже нам, равнодушным и жестоким, лучше бы, заведя себе «сердце милующее», делать то, что делает такое сердце по слову Исаака Сириянина, а уж у Бога оно заведомо есть. Трудно себе представить христианина, который так и остался не блудным сыном, а титаном.
Если вам хочется сейчас сказать, что Маяковский – самоубийца, и дело ясно – пожалуйста, прочитайте рассказ Лескова о Филарете Киевском, и самый конец «Сути дела», которую написал Грэм Грин, и книгу о святом Жане-Мари Вианне.
2
Другая книга – о Чехове, Елены Толстой. Когда ее берешь в руки, невольно вспоминаешь ту ненависть к Чехову, которая возникла в конце 1960-х годов или немного раньше. Именно тогда сгустилась и оформилась особая неофитская злость. Несколько человек двигались примерно так: не могу тут дышать; вот к чему привели все эти «гуманизмы»; значит, ненавидим всякую жалость и слабость. Конечно, я упрощаю, но не очень. Полюбили Леонтьева, кто-то нашел Ивана Ильина, кто-то Леона Блуа, Беллока, Элиота, Рамиро Маэшту, а кто-то и Ницше, естественно, замечая у них главным образом «вот это». Те, кто рванулся к католичеству, восхищались кострами. Как всегда при ставке на силу, начинался культ здоровья – словом, все, что заметил и описал П. Федотов в «Антихристовом добре».
Ругая Чехова, кто мог, ссылался на Анну Андреевну[59]59
Речь идет об А. А. Ахматовой. Ред.
[Закрыть]; но, я думаю, ее нелюбовь – другого рода. Может быть, она видела в нем то, что Бердяев называл пошлостью, такую двухмерность, и не совсем ошибалась – действительно, «прекрасного», которым так смело жили она и Мандельштам, он боялся, поскольку тогда, в его годы, оно совсем уж увязло в «красивом». Но сейчас речь не об этом. Чехова невзлюбили, принимая без обсуждений, что он прямо противоположен тому, что ценят они.
Утомившись от их категоричности, я радовалась, читая у Набокова, как любил и жалел Чехов особый, исчезнувший вид людей, вроде Лаевского из «Дуэли». Помните, гордый Набоков, холодный, такой и сякой, сумел восхититься апологией слабости. Но вот – открываем книгу Елены Толстой, и чем дальше, тем больше думаем, что произошло недоразумение.
Елена Дмитриевна пишет, что мы найдем в ее книге «не поздний, облагороженный и расчищенный облик Чехова – столпа чахоточной гуманности, а богатырский, беспощадный, агрессивный <…>, свирепо-ироничный и неизменно раздраженный». Книга и называется «Поэтика раздражения».
Те, кто позже стали символистами, пишут друг другу о его душевном здоровье, даже какой-то примитивности. В Риме он хочет полежать на травке, а где-то еще в Италии спрашивает, где хороший публичный дом. Много есть и об его несомненной консервативности, и о нелюбви к «интеллигенции», которой, по словам А. Дермана, он предпочитает «стальную Германию». Евреев он не любит, «народную веру» – любит, какой бы она ни была. Словом, сделать из него что-то вроде того Розанова, с какого начинает свое эссе Венедикт Ерофеев, совсем не трудно.
Но Елена Толстая этого не делает. Трудно передать, как сочетаются зоркость и тонкость в ее манере, а выходит – не кукла, не идея, но именно человек. Полупредательства, сомнения, вызов, вся наша истинная слабость. А что поверх этого? Вещи совершенно прекрасные.
Как Томас Кранмер в пьесе Чарльза Уильямса, Чехов очень страдает и от «левой», и от «правой» категоричности. Он пишет брату: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет меня непременно видеть либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индиферентист <…>. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах». Смотрите, «ложь и насилие» – антихристово добро!
Пишет он и так: «Я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, <…> а ложь героев с их правдой».
Так проявляется и прибывает то противостояние «лжи», которое почти угасло после Нового Завета. Да, Августин, да, Паскаль, Кьеркегор, но этого очень мало, а вера без этого задохнется. Она и задыхалась в чеховское время.
Читаешь и видишь, как поверх всей этой мешанины, крест-накрест, ложатся правда и милость. Они действительно есть, Чехов – не фон Корен. Вроде бы не веря в Христа, он не забыл, почему Лаевский лучше: «из-за неспособности убивать, отвращения к насилию» (Е. Т.).
А где милость, тем более – неразумная, там уже рядом такие свойства, которые скорее назвали бы духовными. Вот – sancta indiferentia, которую Елена Дмитриевна замечательно описывает, комментируя фразу: «…я стал сам равнодушен, и мне хорошо». По ее мнению, здесь «равнодушие освобождающее – легкое сердце, бескорыстие, бесстрашие, <…> это стоицизм агностика, подозрительно похожий на бесстрашие глубоко, фаталистически верующего человека».
И уж совсем то, что мы считаем неотъемлемым от (Господи, прости!) русского православия: «мудрый простой дьякон» («Дуэль») и «священник в рясе из холстинки и ауре из блеска седых волос и запаха сухих васильков». Можно ли это знать, если не бывал в преображенном мире?
Чего же нам еще? Кому плохо от того, что он, Чехов, жил почти без Бога? Ему, конечно; тут и с Богом еле вытянешь. Помню, отец Станислав говорил: «Неверующие? Это же святые люди, я был бы наркоман». Наркоманом Чехов не был, а полную, черную богооставленность – знал, к краю подошел, и мнимостями не спасался.
Зинаида Гиппиус пишет: «Неужели выхода нет, другой жизни нет и не может быть, неужели Чехов – последняя точка всего искусства? <…> Мир приблизился бы тогда не к концу света, а концу без конца, оцепенению <…>. Это была бы полная победа чёртакосности над миром, над Богом. Но <…> оцепенить мир ему никак не удается. Ему даже не удается справиться окончательно с самим человеком, хотя у него и нет самого действительного против чёрта оружия – Логоса. Но уж слишком много дано Чехову от Бога <…> и Чехов <…> все-таки слагает Божьи молитвы».
А мы слагаем? Кажется, не очень. Категоричностью, важностью, мирской бойкостью мы заслужили стишок, который я прочитала случайно, перед отъездом в аэропорт:
Есть люди, их кошмарно много,
Чьи жизни отданы тому,
Чтоб осрамить идею Бога
Своим служением Ему.
Не знаю, как и в кого верит тот, кто это написал, но он хотя бы знает или чувствует все, что сказано в 23-й главе у Матфея. В Иерусалиме эта глава звучит непрестанно – и в такой, кенотической, форме, и голосом Писания. Теперь, кажется, я готова говорить о самом городе.
3
Кроме Библии, никто не сумел передать даже не чувство, а знание, которое возникает сразу, как увидишь этот город: земля тут – святая. Честертон пытался выразить это в своих записях, составивших книжку «Новый Иерусалим». Пишет он так: «…Здесь, в легендарной стране между Европой и Азией, могло случиться все, что угодно. Через эти врата могло войти то, что и создало, и переменило мир. Чем бы еще ни казалась эта полоска земли, разуму, да и чувству она кажется мостом, который перенес через древние бездны бремя и тайну человека. Здесь были цивилизации, древние, как варварство, а то и древнее. Здесь живет верблюд, наш странный друг, доисторический домашний зверь. Никто не знает, был ли он диким, и, глядя на него, нетрудно подумать, что звери вообще были когда-то ручными. Где-то я говорил, что они – просто разбежавшийся зверинец; морская корова бросилась в море; тигр, огромный кот, сбежал в джунгли. Это неверно, так же неверно, как питекантроп и прочие выводы из сомнительных обломков кости и камня. Верно что-то третье, слишком немыслимое, чтобы человек это запомнил. Что бы это ни было, верблюд это видел; но, судя по манере нашего старого слуги, никогда не расскажет».
Да, верблюд видел, и ослик видел, и вообще все тамошние звери, даже завезенные кошки. Слова пророка: «Не бойтесь, животные» – вспоминаешь часто. Всюду – афиша зоопарка, на нем прекраснейший тигр (когда идешь с Полянки на Ордынку, получать визу, тоже есть тигр, потолще. Шарль Пеги говорил в таких случаях: «Mais naturellement!»). Земля совершенно святая, поневоле скажешь «тов» про все эти цветы, камни, садики, птиц и рыб, осликов и кошек. Честертон писал, что, если ничего не примысливать, тварный мир похож на игрушки. Тут это видно. То, что прибавил человек, совершенно не мешает. Ничто не берет – ни модерн, сам совершенно детский, ни новые кварталы. Казалось бы, понятно, что белые или хотя бы светлые дома среди зелени – тоже, в сущности, рай, но у нас противоположный оттенок им придают грязь, надписи, впитанный в стены дух 1950-х–1970-х годов, а там этого нет. Лестницы чистые и нарядные, как в барском доме со швейцаром, подростки ничего не портят; почему – можно подумать. У входа в дом моей подруги – розовый куст, прямо с картинки к детской английской книжке XIX века. Садики переносят в питерское детство, когда само это слово было синонимом рая. Один из них, в горах, рядом с Горненским монастырем, описал разве что Пушкин своими райскими стихами; хорошо бы привести их здесь, но места мало, каждый может взять томик из собрания.
Словом, все напоминает, что природа – такая же Божья книга, как Библия. Тут они явственно переслаиваются. Может быть, где-нибудь и забудешь, что нынешняя, недавняя, газетная судьба этих мест точно и давно предсказана, но здесь – навряд ли. Время пророков, царей и даже патриархов от нас не отделено. Такое бывает с Божественным – помните, для Пастернака народники «отдаленней, чем Пушкин». Видимо, чем больше выходишь из времени, тем это сильней. Могилы Рахили, Самуила, Давида – как будто они только что умерли. И вот, особенно у серой могилы Самуила, где рядом раскопы, начинаешь чувствовать то, что чувствовать не хотелось бы.
Чувство (слава Богу, не «знание») – такое: Христос одинок, как в Гефсиманском саду. Виднее всего это именно там – три огороженные оливы, а на улице такое убожество, такая грязь, такие наивные мошенники, словно мы в советском захолустье; да еще у рынка. Тайна иудаизма живет своей непостижимой жизнью, и не нам знать, как встретит Израиль пришедшего во славе Мессию. После седера, о котором писать я еще не могу, у Мертвого моря, рано утром, среди олив и померанцев я читала книгу Додда о Притчах, и там повторялось, что «будет» и «есть» в Евангелии как бы совпали. Так вот, сто́ит ли злоупотреблять будущим временем? Стоит ли, к тому же, изменять сокровищу православия – чувству сокровенности? Что «будет», увидим в свое время. Почти всё (или всё?) сейчас и здесь, а если мы не можем рассмотреть это там, куда Бог поселил нас, увидим хоть на Его земле. Что же можно увидеть?
Глубокую Авраамову веру тех, кто дождался через тысячи лет не главного, но почти немыслимого обетования. Тихих, трудно живущих людей, которые взывают уже к Христу и обретают сравнительный покой, потому что бремя они все-таки взяли. А остальные, посланные к народам и с тайной единобожия, и с вестью о Воскресении? Первую мы просто числим за собой, как будто не служим иным богам, вторую – то и дело превращаем в языческие мистерии. Называя нас детьми и друзьями, Христос все-таки просил о многом, предупреждал о том, как удержаться на воде, строить на камне, жить в Царстве, где правит Бог и побежден князь мира. Впихивать Евангелие в статейку и кощунственно, и бесполезно. Честное слово, закрыв дверь, все мы знаем, что двум господам служить еще никому не удавалось.
Есть садик около холма, на срезе которого настоящий череп: глазницы, щелка рта, провал носа. Ходят сюда чистенькие англикане, остальные не верят, что пустая могила с круглым камнем – та самая. Сидишь там перед Пасхой, после Пасхи, и думаешь: неужели до этого дошел Твой кенозис? Тут Ты воскрес, не тут, но Ты принял всё, что дает Тебе наш мир. За храм Гроба Господня убивали людей. Сейчас мы там толкаемся и спешим занять заранее место, пройти по знакомству. Мы вынуждены терпеть там «другие конфессии», но, Господи, как мы их терпим! Поневоле убежишь сюда, в садик, и посмотришь на цветы. Около него, в особой и очень тихой лавочке я купила открытку «Flowers of the Holy Land». Среди прочих (дикая слива, цикламен, адонис, ирис, мак) есть анемон, и вам услужливо скажут, что это – «полевая лилия». Вокруг их много, они всюду растут. Цвет у них – не всегда, иногда – тот самый, о котором мечтают дети, прикидывая, что будет, если свернуть в трубку радугу. Он между красным и фиолетовым, в несуществующем зазоре, его и быть не может, но – пожалуйста – есть.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































