Текст книги "Легенды губернаторского дома"
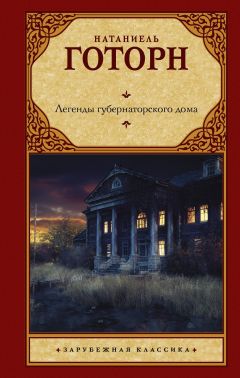
Автор книги: Натаниэль Готорн
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Ха-ха-ха! – громко ревел Гудман Браун, когда над ним смеялся ветер. – Давай послушаем, кто смеется громче. И не вздумай напугать меня своей чертовщиной. Выходи ведьма, выходи, колдун, выходи, индейский жрец, выходи хоть сам дьявол – вот идет Гудман Браун. Бойся меня, как я тебя.
По правде говоря, во всем лесу не было никого страшнее Гудмана Брауна. Он рвался вперед среди черных сосен, неистово размахивая посохом, то разражаясь жуткими богохульными проклятиями, то хохоча так, что весь лес оглашался демоническим эхом. Демон в его собственном обличье куда ужаснее, чем когда вселяется в человека. Так и мчался одержимый им Браун, пока не увидел за деревьями мерцающий красный свет, похожий на пламя, когда на вырубке сжигают поваленные стволы и ветви, и свет этот в полночный час озарял небо грозным сиянием. Когда гнавшая его вперед буря унялась, он остановился и услышал доносившийся издалека многоголосый хор, певший что-то наподобие гимна. Браун узнал мелодию – ее пели хором в деревенском молельном доме. Последняя строфа тревожно смолкла, за ней раздался припев, исполняемый не человеческими голосами, а звуками ночной чащи, сливавшимися в жуткую гармонию. Гудман Браун закричал, но крик его поглотил вопль лесной глуши.
В наступившем безмолвии он пробирался вперед, пока свет не ударил ему в глаза. На краю большой поляны, окруженной темной стеной леса, высился огромный камень, очертаниями отдаленно напоминавший алтарь или церковную кафедру, окруженный четырьмя соснами с пылающими верхушками и нетронутыми жаром стволами, похожими на свечи, зажигаемые перед вечерней молитвой. Листва выше верхней оконечности камня горела, озаряя ночь всполохами огня и ярко освещая поляну. Каждую веточку и каждый листик объяло пламя. Когда его яркие языки то взмывали к небу, то опадали, всполохи то высвечивали многочисленных собравшихся, то погружали их во тьму, то снова вырывали из нее, наполняя жизнью глухую лесную чащу.
– Мрачное собрание в темных одеяниях, – проговорил Гудман Браун.
Правду сказать – это так и было. Среди собравшихся, то озаряемые светом, то поглощаемые тьмой, мелькали лица, которые назавтра увидишь в совете округа; которые каждое воскресенье благочестиво возносят глаза к небу и со священных алтарей благосклонно взирают на сидевшую на скамьях паству. Некоторые утверждают, что видели там жену губернатора. По крайней мере, на собрании присутствовали приближенные к ней высокопоставленные дамы и жены почтенных мужей, вдовы в огромном количестве, и старые девы с безупречной репутацией, и хорошенькие девицы, трепетавшие при одной мысли, что за ними проследят матери. Или Гудмана Брауна ослепили всполохи яркого света над далекой поляной, или он и впрямь узнал нескольких прихожан салемской церкви, известных особой набожностью. Благочестивый дьякон Гукин уже прибыл и ждал подле преподобного старца, досточтимого пастора. Но там же, вызывающе близко от почтенных, уважаемых и набожных людей, церковных старшин, благонравных дам и целомудренных дев, стояли известные своей распутной жизнью мужчины и женщины с запятнанной репутацией, негодяи, подверженные всем и всяческим порокам и даже подозреваемые в жутких преступлениях. Странно было видеть, как благочестивые не шарахались от нечестивых, а святые не смущались присутствием грешников. Среди бледнолицых врагов то и дело попадались индейские жрецы, или шаманы, наводившие на леса страх такими жуткими заклинаниями, какие и не снились ни одной английской ведьме.
«Но где же Вера?» – подумал Гудман Браун и задрожал, когда сердце его озарилось надеждой.
Медленно и скорбно зазвучала очередная строфа гимна, который так любят набожные люди, но в нее вплетались слова, выражавшие все, что природа наша связывает с грехом. Премудрость асмодеев недоступна пониманию простых смертных. Пели строфу за строфой, и после каждой все так же взлетал припев хора лесной чащи, похожий на самый низкий бас могучего органа. После заключительного раската этого жуткого песнопения раздался звук, словно ревущий ветер, бурные реки, воющие звери и все нестройные голоса лесной чащи слились с голосом грешника, воздающего хвалу князю тьмы. Огонь с пылающих сосен взметнулся еще выше и смутно высветил жуткие призраки в клубах дыма, поднимающихся над сборищем нечестивцев. В то же мгновение красное пламя рванулось вверх, образовав у основания камня светящуюся арку, под которой возникла человеческая фигура. Да будет это сказано с глубоким почтением, фигура эта никоим образом – ни одеянием, ни манерою – не походила ни на одно почтенное духовное лицо церквей Новой Англии.
– Приведите новообращенных! – крикнул голос, эхом разнесшийся по поляне и затихший в лесу.
Услышав эти слова, Гудман Браун вышел из тени деревьев и приблизился к собравшимся, с которыми он почувствовал греховное единение во всем нечестивом, что таилось в его душе. Он мог поклясться, что из клуба дыма его поманил призрак родного отца, а женщина со смутным выражением отчаяния на лице предостерегающе протянула руку с поднятой ладонью. Возможно, это его мать? Однако он не нашел в себе сил ни отступить даже на шаг, ни воспротивиться, когда пастор и благочестивый дьякон Гукин схватили его под руки и повели к ярко сверкавшему камню. Туда же подошла стройная женщина с закрытым вуалью лицом, которую с обеих сторон поддерживали благочестивая Клойз, набожная учительница катехизиса, и Марта Кэрриер, получившая от дьявола обещание сделать ее царицей ада. Это была свирепая ведьма. Оба новообращенных остановились под огненным куполом.
– Добро пожаловать, дети мои, – произнесла темная фигура, – в приобщение к племени своему. В младости вы обрели сущность и судьбу. Оглянитесь, чада!
Они обернулись, и в ярко вспыхнувшем языке пламени стали видны поклоняющиеся демону. На каждом лице мрачно сияла приветственная улыбка.
– Там, – продолжила черная фигура, – собрались все, кого вы чтите с младых ногтей. Вы считали их благочестивее себя и отвращались от грехов, сравнивая жизнь с жизнью этих праведников, полной молитв и небесных устремлений. Однако все они поклоняются мне. Этой ночью вам будет дано познать их тайные дела: как седобородые богобоязненные старики шептали блудные слова молоденьким служанкам в своих домах, как многие женщины, стремившиеся украсить себя трауром, перед сном давали мужьям питье и позволяли им заснуть у них на груди последним сном. Как безусые юноши торопились унаследовать отцовские богатства, как хорошенькие девицы благородного звания – не краснейте, красотки! – копали в садах могилки и звали меня одиноким плакальщиком на похороны младенцев. Благодаря расположенности человеческого сердца к греху вы всюду почувствуете его запах – в церкви, в спальне, на улице, в поле или в лесу – там, где совершалось преступление, и возрадуетесь, увидев, что вся земля есть пятно греховное, пятно кровавое. Более того, вам будет дано проникать в каждое сердце и видеть там глубоко спрятанную тайну греха и источник нечестивых ухищрений, который неистощимо питает куда больше злокозненных помыслов, нежели власть человеческая – нежели моя безграничная власть – способна воплотить в деяниях. А теперь, дети мои, поглядите друг на друга.
Они поглядели, и в свете зажженных от адского огня факелов несчастный увидел Веру, а жена – мужа, дрожавшего у неосвященного алтаря.
– Вот вы стоите тут, дети мои, – медленно и торжественно провозгласила фигура почти грустно с ужасающим отчаянием в голосе, как будто некогда падший ангел все еще мог скорбеть о жалком роде человеческом. – Взаимно связанные сердечными узами, вы все-таки надеялись, что добродетель не есть мечта. Теперь вы избавлены от обмана. Природа человеческая есть зло. Зло должно стать вашей единственной отрадой. Еще раз добро пожаловать, дети мои, в приобщение к племени своему.
– Добро пожаловать, – повторили почитатели дьявола единым возгласом отчаяния и торжества.
Они стояли рядом, единственная пара, казалось, еще не решившаяся преступить грань грехопадения в этом темном мире. В камне виднелось углубление. Была ли там вода, красноватая от огненных всполохов? Или кровь? Или, возможно, жидкий огонь? Зловещая фигура погрузила туда руку и изготовилась пометить их чело знаком крещения, дабы они приобщились к тайнам греха, узнали тайные прегрешения других, в деяниях и помыслах куда больше, нежели собственные. Муж взглянул на побледневшую жену, а Вера на него. Каких отвратительных чудищ они увидят друг в друге при следующем взгляде, оба содрогнулись при виде открывшегося им!
– Вера! Вера! – вскричал Гудман Браун. – Взгляни на небо и отринь нечистого!
Послушалась его Вера или нет, Браун не знал. Едва он умолк, как оказался один среди ночной тишины, где прислушивался к реву стихавшего в лесной чаще ветра. Он покачнулся и вцепился в камень, холодный и влажный, а свисавшая ветка, недавно вся пылавшая, брызнула на него холодной, как лед, росой.
На следующее утро молодой Гудман Браун медленно вышел на улицу Салема, смущенно оглядываясь по сторонам. Благочестивый пожилой пастор прохаживался по кладбищу, нагуливая аппетит перед завтраком и обдумывая предстоящую проповедь. Увидев Брауна, он благословил его. Тот шарахнулся от святого отца, будто от анафемы. Старый дьякон читал молитву своим домочадцам, и слова ее доносились из открытого окна. «Какому Богу молится этот колдун?» – еле слышно проговорил Гудман Браун. Благочестивая Клойз, образцовая христианка, стояла у забора и наставляла маленькую девочку, принесшую ей кружку свеженадоенного молока. Гудман Браун схватил девочку и потащил прочь, словно вырвал ее из лап самого дьявола. Повернув за угол у молитвенного дома, он заметил Веру в чепце с розовыми лентами, встревоженно всматривавшуюся вдаль. Она так обрадовалась, увидев мужа, что бросилась бежать по улице и едва не расцеловала его на глазах у всей деревни. Но Гудман Браун лишь сурово и грустно посмотрел ей в глаза и пошел дальше, не сказав ни единого слова.
Может, Гудман Браун заснул в лесу, а ведьмин шабаш ему лишь приснился?
Пусть так и будет, если вам угодно. Но увы! Для Гудмана Брауна этот сон стал зловещим предзнаменованием. С той ночи, когда ему привиделся этот жуткий кошмар, он сделался суровым, грустным, мрачно-задумчивым, недоверчивым, если не вконец отчаявшимся человеком. В день субботний, когда собравшаяся паства пела псалмы, он не мог их слушать, поскольку в ушах у него грохотал гимн греха, заглушая песнопения Божьи. Когда пастор, положив руку на раскрытую Библию, авторитетно и страстно-красноречиво вещал с кафедры о священных истинах нашей веры, о праведной жизни и достойной смерти, о грядущем блаженстве и непередаваемых словами страданиях, Гудман Браун бледнел, боясь, как бы крыша с грохотом не обрушилась на седого богохульника и его слушателей. Частенько, внезапно проснувшись в полночь, он резко отодвигался от Веры, а утром или на закате, когда семья преклоняла колени в молитве, он хмурился, бормотал что-то себе под нос, сердито смотрел на жену и отворачивался. А когда он прожил долгую жизнь и его, поседевшего, чинно отнесли на кладбище в сопровождении постаревшей Веры, детей, внуков и нескольких соседей, то на надгробном камне не высекли возвышенной эпитафии, ибо его смертный час был мрачен и печален.
Майское дерево Мерри-Маунта
В любопытной истории одного из первых поселений Новой Англии близ горы Уолластон, известного под именем Мерри-Маунт, или Веселая гора, кроется богатый материал для целого философского романа. В предлагаемом читателю беглом наброске сухие факты, обнаруженные нами в анналах Новой Англии, сами собою сложились в некую аллегорию. Праздничные обряды, ряженые и маски, упоминающиеся в рассказе, представлены в полном соответствии с обычаями той поры. Подтверждение этому читатель найдет в сочинении Стратта «Об играх и забавах англичан».
Весело жилось в Мерри-Маунте, когда на майском дереве развевался флаг этой беззаботной колонии! Если бы победа осталась за теми, кто водрузил в поселке символическое дерево, суровые холмы Новой Англии на долгие годы озарились бы солнечным светом, а земля ее покрылась бы неувядающим цветочным ковром. Здесь боролись за власть веселье и мрак. Наступил уже канун Иванова дня – время, когда древесная листва приобретает сочный густо-зеленый оттенок, а розы, которые природа рассыпает вокруг щедрой рукою, пышным цветом своим затмевают нежные бутоны весны. Но месяц май, или, вернее сказать, радость жизни, которую олицетворяет этот зеленый месяц, круглый год царила в Мерри-Маунте: резвилась вместе с летом, пировала вместе с осенью, а долгою зимою мирно грелась у камелька. С мечтательной улыбкой на устах порхала она над миром, полным трудов и забот, и в конце концов нашла себе пристанище среди беспечных колонистов Веселой горы.
Никогда еще майское дерево не красовалось тут в таком роскошном наряде, как в час заката накануне Иванова дня. Стволом ему служила сосна, сохранившая стройную гибкость молодости, но высотой уже соперничавшая с вековыми лесными исполинами. На верхушке развевался шелковый флаг всех цветов радуги. От самой земли ствол украшен был ветками березы и других деревьев, выбранными за особо яркую зелень или красивый серебристый цвет листвы; ветки эти крепились с помощью хитроумно привязанных лент, которые трепетали на ветру двумя десятками разнообразнейших, но исключительно веселых оттенков. Среди зелени, поблескивая каплями росы, мелькали и садовые цветы, и более скромные полевые; и все они имели такой свежий вид, что казалось, будто они сами, как по волшебству, выросли на этой необыкновенной сосне. Наверху же, где кончалось все это цветочно-лиственное великолепие, горело семью цветами радуги знамя колонии. На самой нижней ветке висел огромный венок из диких роз, собранных на солнечных лесных прогалинах, и из роз лучших английских сортов, выращенных в поселке. О жители золотого века! Из многоразличных трудов земледельца главным для вас было разведение цветов…
Но что за невиданный народ толпился, взявшись за руки, вокруг майского дерева? Неужто фавны и нимфы древности, изгнанные из античных рощ и прочих мифических обителей, нашли убежище, в числе других преследуемых, в заповедных лесах Нового Света? Нет, это были скорее какие-то средневековые чудовища, хотя, быть может, и происходившие от древнегреческих богов. На плечах одного из юношей вздымала ветвистые рога голова дикого оленя; на плечах другого скалилась свирепая волчья морда; третий, с человеческим телом, руками и ногами, был рогат и бородат, как почтенный старый козел. Имелся там и медведь на задних лапах – зверь зверем, если не считать красных шелковых чулок и башмаков с пряжками. И тут же – о чудо! – стоял и взаправдашний медведь, хозяин дремучего леса, ухватившись передними лапами за руки своих соседей по кругу, готовый вместе со всеми пуститься в пляс. И в этом диком хороводе его звериная природа не так уж сильно отличалась от людской… Иные лица смахивали на мужские и женские, или, скорее, походили на смехотворно искаженные их отражения в кривом зеркале: у одного свисал чуть не до подбородка непомерно длинный красный нос, у другого ухмылялся до ушей размалеванный рот. Здесь можно было видеть знакомую всем из геральдики фигуру дикаря – волосатого, словно павиан, в юбочке из зеленых листьев. Рядом с ним находился воинственный индеец – такой же ряженый, хоть и поблагороднее на вид, в боевом уборе из перьев, перепоясанный вампумом. Многие из этой пестрой компании щеголяли в шутовских колпаках и позвякивали пришитыми к одежде бубенчиками в такт неслышной для чужих ушей музыке, весело звеневшей в их сердцах. Были там и менее казисто одетые юноши и девушки, но их присутствие среди разномастной толпы не слишком бросалось в глаза, поскольку лица их носили печать всеобщей необузданной веселости. Такое зрелище являли собою колонисты Мерри-Маунта, собравшись при ласковом свете заката вокруг почитаемого ими майского дерева.
Если бы странник, сбившийся с дороги в этом сумрачном лесу, заслышал их смех и гомон и украдкой бросил взгляд в их сторону, то в испуге решил бы, что перед ним сам бог Комус в окружении своих приспешников, которые либо уже оборотились в диких зверей – кто целиком, а кто наполовину, – либо вот-вот оборотятся, а пока предаются неуемному пьяному разгулу. Но для отряда пуритан, наблюдавших описанную сцену без ведома ее участников, все эти шуты и скоморохи были погибшими душами, воплощением нечистой силы, водившейся, по их поверьям, в здешних лесах.
В хороводе чудовищных личин выделялись два ангелоподобных существа, коим бы пристало не ступать по твердой земле, а парить на золотисто-розовом облачке. Один был юноша в одежде, сплошь расшитой блестками, с двойною перевязью всех цветов радуги на груди. В правой руке он держал золоченый посох – знак его особого положения среди присутствующих, а левой сжимал нежные пальчики прелестной юной девушки в столь же ослепительном наряде. В темных шелковистых кудрях у обоих пламенели алые розы, и земля вокруг тоже была усыпана розами – впрочем, возможно, что цветы эти сами расцвели у их ног. Против них, у самого ствола майского дерева, тень от ветвей которого играла на его жизнерадостной физиономии, стоял англиканский священник в традиционном облачении, однако тоже разубранный цветами на языческий лад; на голове у него красовался венок из листьев местного дикого винограда. Его бесшабашно-веселый вид и кощунственное пренебрежение к священному одеянию выдавали в этом человеке главного заводилу праздника: казалось, он и есть сам Комус, собравший вокруг себя чудовищный сонм своих приспешников.
– Служители майского дерева! – возгласил этот странный пастор. – Весь нынешний день окрестные леса звенели эхом вашего веселья. Но теперь настал самый веселый ваш час, дети мои! Перед вами майские король и королева, которых я, оксфордский клирик и верховный жрец Веселой горы, намерен сочетать священными узами брака. Внемлите мне, плясуны, певцы и музыканты! Внемлите, старцы и девицы, и вы, волки и медведи, и все остальные, рогатые и бородатые! Затянем хором нашу праздничную песню – пусть она гремит, как в доброй старой Англии, пусть вольется в нее шум весеннего леса! А потом дружно пустимся в пляс и покажем нашей юной паре, что такое жизнь и с каким легким сердцем надо шагать по ней! Итак, всех, кто поклоняется майскому дереву, я призываю вплести свой голос в свадебный гимн в честь короля и королевы!
Объявленное таким странным образом бракосочетание было задумано всерьез – не в пример обычному круговороту событий в Мерри-Маунте, где потехи и забавы, лицедейство и притворство сливались в беспрерывный карнавал. Майские король и королева – правда, этот почетный титул они должны были сложить с себя в момент заката солнца – действительно собирались стать спутниками на жизненном пути, а вернее сказать, партнерами в жизненном танце, и первые па им предстояло сделать именно в этот радостный вечер. Венок из роз, украшавший нижнюю ветку майского дерева, сплетен был нарочно для них: ему надлежало стать символом их увенчанного цветами союза. Как только священник окончил свою речь, толпа чудовищ разразилась возгласами неистового ликования.
– Начните вы, преподобный отец, – раздался единодушный клич, – а мы подхватим, и здешние леса услышат такой веселый хор, какого еще не слыхивали!
И тотчас из ближних зарослей полились звуки музыки – то запели свирель, контрабас и кифара под пальцами искусных менестрелей, и заразительный их напев заставил даже ветки майского дерева заколыхаться в ритме танца. Но майский король – юноша с золоченым посохом, наклонившись к своей королеве, поражен был задумчиво-печальным взглядом ее глаз.
– Эдит, прекрасная моя королева, – шепнул он с легким укором, – отчего ты так грустна? Или эта розовая гирлянда кажется тебе нашим похоронным венком? О, Эдит, это наш золотой час! Не омрачай же его своей задумчивостью; может статься, до конца жизни у нас не будет ничего счастливее простого воспоминания о том, что происходит сейчас.
– Потому я и грущу, что думаю об этом. Как ты догадался? – отвечала Эдит еле слышно, ибо любое проявление печали в хороводе у майского дерева считалось изменою. – Потому я и вздыхаю при звуках этой праздничной музыки. И знаешь ли, милый мой Эдгар, мне кажется, что я сплю и вижу дурной сон, что вокруг меня одни лишь призраки, и веселье у них не настоящее, и на самом деле ты вовсе не майский король, а я не королева. Какая-то тревога гложет мне сердце…
В этот миг, словно расколдованные от долгой спячки, лепестки вянущих роз дождем посыпались с майского дерева. Ах, бедные влюбленные! Как только в их юных сердцах зажглось пламя подлинного чувства, в души к ним проникло ощущение непрочности и легковесности их прежних забав и утех – вместе со зловещим предчувствием неминуемых перемен. Полюбив, они отдались во власть забот и печалей – обычного удела людей; радость их не была уже безоблачной, и среди жителей Веселой горы они более не находили себе места. Таковы были причины неясной тревоги, охватившей молодую девушку. Но оставим это шумное сборище – пусть священник венчает нашу майскую пару, пусть все пляшут и веселятся: есть еще время до заката, до той минуты, когда угаснет последний солнечный луч и мрачные тени лесных деревьев смешаются с хороводом ряженых. Оставим их – и посмотрим, откуда взялся этот беззаботный народ.
Две сотни лет назад, а то и больше, Старый Свет и его обитатели поняли, что изрядно надоели друг другу. Тысячи людей стали отправляться на запад: одни затем, чтобы менять стеклянные бусы и тому подобные побрякушки на меха, добытые индейцами; другие затем, чтобы покорять неведомые земли; третьи – угрюмые аскеты – затем, чтобы молиться. Но первые поселенцы Мерри-Маунта не принадлежали ни к одной из этих групп, и к отъезду их побудило совсем иное. Во главе их стояли люди, всю молодость проведшие в забавах и увеселениях: даже Разум и Мудрость зрелых лет не могли побороть их суетность и тщеславие – и, более того, не устояли сами перед тысячью житейских соблазнов. Сбитый с толку Разум и вывернутая наизнанку Мудрость нацепили карнавальные личины и принялись корчить шутов. Утратив задор и непосредственность юности, люди, о которых мы ведем речь, решились покинуть родину и на новом месте осуществить идеал своей доморощенной безумной философии: удовольствие превыше всего. Они собрали под свое знамя представителей того ветреного племени, чья повседневность неотличима от праздников их более трезвых соотечественников. Были там бродячие музыканты, хорошо известные на улицах Лондона; странствующие комедианты, дававшие представления в домах знати; скоморохи, канатные плясуны, шуты и гаеры, без которых в доброй старой Англии не обходились ярмарки, сельские пирушки и престольные праздники, – короче говоря, там были все, кто умел потешить публику, а умельцев таких в те времена было хоть отбавляй, и многие из них на собственной шкуре успели испытать, чем грозит им распространение пуританства. Они шли по жизни не задумываясь – и так же, не задумываясь пустились в плавание через океан. Одни, побывав во многих передрягах, впали в какое-то веселое отчаяние; другие отчаянно веселились просто потому, что были молоды – как майские король и королева, – но каковы бы ни были поводы для веселья, все первые поселенцы Мерри-Маунта, молодые и старые, веселились напропалую. Молодежь ничего лучшего и не желала и почитала себя вполне счастливою; люди же постарше, если и сознавали, что веселье не замена счастию, по собственной охоте следовали за этой лукавой тенью, поскольку ее одежды блестели ярче других. Дав обет без оглядки растратить свою жизнь на пустые утехи, они и слышать не хотели о более суровой жизненной правде – даже во имя истинного спасения.
Новосельцы пересадили на другую почву все традиционные забавы старой Англии. На Рождество устраивалась шуточная коронация рождественского короля; во главе праздничного стола величественно восседал председатель «пира дураков». В канун Иванова дня целые участки леса вырубались и шли на костры, и колонисты всю ночь напролет плясали вокруг них в цветочных венках и бросали цветы в огонь. Во время жатвы, как бы ни был скуден урожай, они мастерили из снопов огромное чучело, разукрашивали его гирляндами плодов и листьев и торжественно несли домой. Но главным предметом культа у жителей Мерри-Маунта было, разумеется, майское дерево, и потому история ранних лет поселения читается как волшебная сказка. Весной майское дерево убиралось первыми цветами и молодыми побегами; летом его наряд составляли пышные розы и густая лесная листва; осень приносила великолепие золота и пурпура, превращавшее любой древесный лист в произведение искусства; зима развешивала на ветвях ледяные сосульки и серебрила инеем ствол майского дерева, так что все оно сияло и сверкало, как застывший солнечный луч. Всякое время года воздавало на свой лад почести и платило доброхотную дань майскому дереву. Его восторженные почитатели по крайней мере раз в месяц сходились плясать вокруг дерева, называли его своим алтарем, своей святыней, и всегда на нем развевалось семицветное знамя Веселой горы.
К несчастью, не все в Новом Свете придерживались той же веры, что поклонники майского дерева. Недалеко от Мерри-Маунта находился поселок пуритан – мрачных фанатиков, которые до свету служили заутреню и день-деньской трудились в лесу или на пашне, пока не наступало время служить вечерню. Они не расставались с оружием и пускали его в ход при любой случайной встрече с дикарями. Вместе они сходились отнюдь не для веселья, а для того лишь, чтобы слушать многочасовые проповеди или назначать награды за волчью шкуру или индейский скальп. По праздникам они постились, а в виде развлечения пели хором псалмы. И беда тому юнцу или девице, которые посмели бы выказать желание потанцевать! Старейшина делал знак констеблю – и легкий на ногу преступник уже сидел в колодках, а если и доводилось ему поплясать, то разве что вокруг позорного столба – этого пуританского майского дерева.
Отряды суровых пуритан, с трудом продираясь сквозь чащу, приближались иногда к залитым солнцем владениям Мерри-Маунта. Обремененные железными доспехами, какие впору было бы навьючить на лошадь, они наблюдали из-за кустов, как разодетые в шелк колонисты скачут вокруг майского дерева. То они обучали медведя плясать и выделывать разные штуки, то старались втянуть в свои забавы степенного индейского вождя, то рядились в шкуры оленей и волков, на которых охотились с этой именно целью. Частенько затевалась общая игра в жмурки: всем жителям колонии, включая членов местной управы, завязывали глаза, и все наперебой гонялись за каким-нибудь козлом отпущения, который еле увертывался от своих преследователей, жалобно позвякивая пришитыми к одежде бубенчиками. Говорят, что однажды пуритане видели в Мерри-Маунте похоронную процессию, когда усопшего, убранного цветами, провожали к могиле с музыкой и хохотом. Один покойник не смеялся… В более тихие часы они распевали баллады и рассказывали сказки, просвещая тем самым своих набожных посетителей, или поражали их ловкостью рук, показывая фокусы, или, просунув голову в лошадиный хомут, строили дурацкие рожи. Когда же им приедался весь этот балаган, они, не теряя чувства юмора, устраивали конкурс на самый продолжительный и звучный зевок. Железные пуритане качали головой при виде всех этих безобразий и так сурово хмурились, что весельчаки невольно поднимали глаза кверху, глядя, не набежала ли на солнце тучка, – а солнечным светом они дорожили превыше всего. Пуритане, в свою очередь, утверждали, что, когда из их святилища неслось псалмопение, эхо его, возвращаясь из леса, сильно смахивало на припев озорной песни, завершавшийся раскатом хохота. Кто же так докучал им, если не сам дьявол и его верные слуги – шайка обитателей Мерри-Маунта? Вражда между подобными соседями была неизбежна – и она началась. Со стороны пуритан это была вражда угрюмая и ожесточенная, а со стороны колонистов Мерри-Маунта – настолько серьезная, насколько серьезность вообще допускалась в среде легкомысленных поклонников майского дерева. От исхода этой вражды зависел будущий характер Новой Англии. Если бы нетерпимые праведники одержали верх над беспечными грешниками и установили свои законы, мрачный дух пуританства навсегда превратил бы этот край в царство грозовых туч, унылых лиц, безрадостного труда, псалмов и проповедей. Если же знамя победы взвилось бы над Веселой горой, здесь не бывало бы пасмурных дней; на полях и лугах круглый год цвели бы цветы, и отдаленные потомки колонистов воздавали бы почести майскому дереву.
Покончив с этими историческими отступлениями (за их подлинность мы ручаемся), вернемся теперь к нашей свадебной церемонии. Увы! Мы слишком много времени уделили истории, и события успели приблизиться к печальной развязке. Одинокий закатный луч освещает только самую верхушку ствола и золотит трепещущий на ней радужный флаг, но вот-вот угаснет и этот последний отблеск. На смену зыбкому свету сумерек приходит вечерняя мгла, и из темного леса к Веселой горе со всех сторон подступают зловещие тени. И самые мрачные из них – тени в людском обличье – внезапно врываются в ликующий майский хоровод…
Так завершился последний радостный день в жизни обитателей Мерри-Маунта. Круг ряженых смешался и рассыпался; олень в смущении понурил свои великолепные рога; волк сделался слаб, как ягненок; бубенчики на шутовских колпаках зазвенели от страха. Пуритане вступили в игру, словно им тоже была отведена роль в карнавале их недругов. Черные силуэты пришельцев смешались с толпою ряженых, и вся эта сумятица похожа была на картину человеческого сознания в минуту пробуждения от сна, когда трезвые мысли дня вторгаются в самую гущу не успевших еще развеяться ночных фантазий. Предводитель пуритан стал в центре круга и обвел грозным взглядом сонм чудовищ, которые съежились от страха, словно злые духи при появлении всемогущего чародея. В его присутствии немыслимы были шутовство и фиглярство. Наружность этого человека была так сурова и неприступна, что и душа его, и тело казались выкованными из одного куска железа, наделенного способностью дышать и мыслить; он составлял как бы единое целое со своим шлемом и панцирем. То был пуританин из пуритан – то был сам Эндикотт!
– Изыди, жрец Ваала! – прогремел он, обратившись к священнику и оттолкнув его прочь без всякого почтения к духовному сану. – Я знаю тебя – ты Блэкстон![1]1
Если бы губернатор Эндикотт не назвал так недвусмысленно этого имени, мы склонны были бы заподозрить в архивной записи какую-то ошибку. Преподобный Блэкстон действительно обладал причудами, но не был, по имеющимся сведениям, человеком безнравственным, поэтому мы оставляем за собой право усомнитъся в его тождестве с выведенным здесь священником. – Прим. авт.
[Закрыть] Ты не желал блюсти законы своей же богопротивной церкви и явился сюда проповедовать порок, подавая пример собственными деяниями. Но настал час показать всем, что не напрасно Господь освятил сии пустынные места, даровав их избранному своему народу! Горе тому, кто посмеет осквернить их! И первым делом пора покончить с гнусным алтарем богохульства и идолопоклонства! Мы свалим это разубранное цветами бревно!









































