Текст книги "Нашим друзьям"
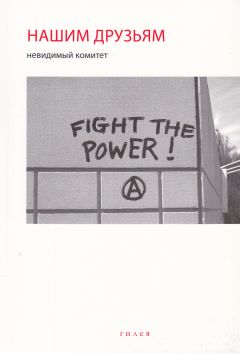
Автор книги: Невидимый комитет
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
3. 21 декабря 2012 года по меньшей мере 300 журналистов из 18 стран заполонили деревушку Бюгараш во французском департаменте Од. Ни в одном ныне известном календаре майя никакого конца света на тот день не намечалось. Слух о том, что эта деревня имеет какое-то отношение к несуществующему пророчеству, был, разумеется, уткой. И тем не менее телевизионные каналы со всего мира отправили туда армады репортёров. Всем хотелось посмотреть, найдутся ли ещё люди, действительно верящие в конец света, если и в сам свет мы больше не верим, если мы едва ли в силах поверить в собственную любовь. В тот день в Бюгараше не было никого – никого, кроме бесчисленных участников этого спектакля. Журналистам пришлось снимать сюжеты друг о друге, о бесцельном ожидании, о скуке и о том, как ровным счётом ничего не происходило. Попавшись в собственную ловушку, они являли собой зрелище, на самом деле напоминающее конец света: журналисты, ожидание, несостоявшиеся события.
Нельзя недооценивать апокалипсическую горячку, исступлённое предвкушение Армагеддона, пропитавшее нашу эпоху. Её экзистенциально-порнографическая коллекция состоит из пророческих документальных фильмов, демонстрирующих при помощи спецэффектов, как в 2075 году полчища саранчи истребят виноградники Бордо, а южные берега Европы захватят толпы «климатических мигрантов» – тех самых, которых Фронтекс12 уже сейчас усиленно старается уничтожить. Конец света безнадёжно стар. Ещё со времён ранней античности апокалипсические страсти бурлили в умах бесправного народа. С тех пор ничего не изменилось, разве что в наше время апокалипсис полностью растворился в капитализме, перейдя к нему в подчинение. Перспектива катастрофы – вот рычаг, при помощи которого нами сегодня управляют. Хотя если и есть что-то, чему не суждено сбыться, так это предсказание конца света, будь он экономическим, климатическим, террористическим или атомным. О нём возвещают лишь затем, чтобы призвать к мерам по его предотвращению, то есть зачастую чтобы обосновать необходимость управления. Ни одна политическая или религиозная организация ни разу не признала поражение лишь ввиду того, что факты опровергли её прогнозы. Ведь прогнозы нужны не затем, чтобы оправдываться в будущем, а затем, чтобы влиять на настоящее: здесь и сейчас навязать ожидание, бездействие, подчинение.
Нет никакой надвигающейся катастрофы, есть лишь та, что уже произошла. Притом совершенно ясно, что большинство фактических бедствий предоставляют нам возможность спастись от бедствия повседневности. Множество примеров свидетельствуют об избавлении от экзистенциального апокалипсиса, которое приносит настоящая катастрофа: будь то подземные толчки в Сан-Франциско в 1906 году или ураган «Сэнди», обрушившийся на Нью-Йорк в 2012-м. Мы склонны полагать, что в экстренной ситуации взаимоотношения между людьми обнажают глубинное, неискоренимое человеческое зверство. Мы желаем, чтобы каждый разрушительный подземный толчок, каждый экономический крах и каждый «теракт» подтверждал древнюю химеру естественного состояния и тянущуюся за ней вереницу неконтролируемых бесчинств. Когда рухнут хлипкие запруды цивилизации, мы хотим, чтобы на поверхности оказалась та самая «мерзкая суть человеческая»13, не дававшая покоя Паскалю, все эти дурные страсти, «человеческая природа» – завистливая, жестокая, слепая и отвратительная, которая чуть ли не со времён Фукидида служит основным доводом власть имущих – но это лишь фантазия, увы, опровергнутая большинством бедствий, известных истории.
Как правило, вымирание цивилизации не выливается в хаотичную войну всех против всех. Во время серьёзной катастрофы подобная воинственная риторика нужна лишь для оправдания первоочередной защиты имущества от мародёрства – силами полиции, армии или, за неимением лучшего, специальных охранных дружин. Она также может служить прикрытием для злоупотребления ситуацией со стороны самих властей, как, например, в истории с итальянской Службой гражданской безопасности после землетрясения в Л’Акуилле14. Если принять распад этого мира как данность, то наоборот, открывается путь к новому устройству жизни, в том числе и жизни в «экстренной ситуации». Так, жители Мехико, где в 1985 году произошло сильнейшее землетрясение, возродили на развалинах города революционный карнавал и образ супергероя, спешащего на помощь людям, – легендарного силача Супер Баррио. В эйфорической попытке взять в свои руки городское существование и все его самые что ни на есть бытовые проявления, они провели параллель между крушением зданий и крахом политической системы, освобождая, по мере возможности, жизнь города от правительственного давления и восстанавливая разрушенные дома. О том же с восторгом говорил и житель Галифакса после урагана 2003 года: «Однажды утром люди проснулись, и всё изменилось. Электричество отключилось, все магазины были закрыты, ни у кого не работали средства связи. И тогда вдруг все собрались на улице, чтобы поговорить и поделиться впечатлениями. Уличным праздником такое не назовёшь, но все одновременно вышли из домов – и было какое-то радостное ощущение от того, что видишь этих людей, хотя ты с ними даже не знаком». Так и жители Нового Орлеана, столкнувшись в первые дни после «Катрины» с бездействием официальных властей и с паранойей спецслужб, стихийно сплотились в небольшие сообщества и каждый день вместе добывали себе пропитание, лекарства и одежду, пусть даже для этого им и пришлось разграбить несколько магазинов.
Пересмотреть революционную идею как нечто, способное нарушить ровный ход бедствия, значит для начала очистить её от накопившегося апокалипсического налёта. Это значит понять, что только в данном вопросе и состоит отличие марксистской эсхатологии от всеохватных имперских притязаний США – тех, что и сейчас напечатаны на каждой долларовой купюре: “Annuit coeptis. Novus ordo seclorum”[15]15
«Он покровительствует нашим начинаниям. Новый порядок веков» (лат.).
[Закрыть]. Социалисты, либералы, сенсимонисты, русские и американцы времён Холодной войны – все они всегда с одинаковой неврастенической одержимостью стремились открыть новую эру, основать царство мира и стерильного благополучия, где больше не будет опасностей, где все противоречия, наконец, разрешатся, а весь негатив исчезнет. Усилиями науки и промышленности будет создано процветающее, полностью автоматизированное и окончательно усмирённое общество. Нечто вроде земного рая, организованного по образцу психиатрической лечебницы или туберкулёзного санатория. Идеал, о котором могут мечтать лишь смертельно больные существа, переставшие даже надеяться на ремиссию. “Heaven is a place where nothing ever happens”[16]16
«Рай – это место, где никогда ничего не происходит» (англ.) – строчка из песни группы Talking Heads 1979 г.
[Закрыть], – как говорится в песне.
Вся оригинальность и скандальность марксизма сводилась к идее о том, что для вступления в золотой век нам необходимо пережить экономический апокалипсис. Остальные же теоретики считали эту меру излишней. Мы не ждём ни золотого века, ни апокалипсиса. На земле никогда не будет мира. Отказаться от мысли о мире – вот единственный настоящий мир. Перед лицом западной катастрофы левые, как правило, принимаются сетовать и изобличать врагов, расписываясь в собственной беспомощности, которая вызывает презрение даже у тех, кого они предположительно защищают. Чрезвычайное положение, в котором мы живём, не нужно изобличать, его нужно направить против самой власти. Тогда мы в свою очередь освободимся от какого бы то ни было почтения к закону – пропорционально степени обретённой безнаказанности и в соответствии с установленными соотношениями сил. Перед нами открывается совершенно свободное пространство для любых решений, любых начинаний, если только они учитывают тонкости ситуации. У нас есть лишь историческое поле битвы и расположенные на нём силы. Простор для действий неограничен. Историческая жизнь протягивает нам руку. Есть множество причин отвернуться от неё, но все они – лишь следствие невроза. Увидев апокалипсис в недавнем фильме о зомби, бывший служащий ООН приходит к такому здравому выводу: «It’s not the end, not even close. If you can fight, fight. Help each other. The war has just begun» – «Это не конец, ничего подобного. Если можете сражаться, сражайтесь. Помогайте друг другу. Это лишь начало войны».

Оахака, 2006
Они хотят заставить нас управлять, но мы на эту провокацию не поддадимся
1. Характер современных восстаний. 2. Демократических восстаний не бывает. 3. Демократия – управление в чистом виде. 4. Теория свержения власти.
1. Умирает человек. Его убивает полиция: напрямую или опосредованно. Это никому не известный человек: безработный, «торгаш», спекулирующий на том и на сём, старшеклассник из Лондона, Сиди-Бузида, Афин или Клиши-су-Буа. Его называют «молодым человеком», и неважно, сколько ему лет: 16 или 30. Его называют молодым человеком, потому что с точки зрения социума он ничего из себя не представляет и потому что в ту пору, когда быть взрослым означало добиться чего-то в жизни, молодыми считались как раз те, кто ничего из себя не представлял.
Человек умирает, по стране прокатывается волна возмущения. Первое вовсе не причина второго, а лишь повод для столкновения. Александрос Григоропулос, Марк Дагган, Мохаммед Буазизи, Масиниса Герма – имя погибшего становится в эти дни, в эти недели нарицательным, оно превращается в символ всеобщей безымянности, повсеместного лишения прав15. И поначалу восстание – это дело тех, кто ничего из себя не представляет, тех, кто валяет дурака в кафе, на улицах, в жизни, в университете и в Интернете. Оно увлекает за собой любой неустойчивый элемент общества – сперва плебеев, затем мелкую буржуазию – из тех, что в избытке отсеиваются в процессе распада социальной системы. Всё, прослывшее маргинальным, отсталым или бесперспективным, снова оказывается в эпицентре. В Сиди-Бузиде, в Кассерине, в Тале именно «психи», «изгои», «неудачники», «фрики» первыми разнесли весть о смерти их собрата по несчастью. Они взобрались на стулья, на столы, на памятники во всех общественных местах, по всему городу. Их клич взбудоражил всех, кто был готов прислушаться. Вслед за ними в бой вступили старшеклассники – те, кто и не рассчитывает на какую-либо карьеру.
Восстание продолжается несколько дней или несколько месяцев, приводя к краху режима или же к крушению всех надежд на мир в обществе. Само движение оказывается безымянным: нет ни лидеров, ни организации, ни требований, ни программы. Призывы, коли таковые имеются, как будто тонут в отрицании существующего порядка, превращаясь в обрывочные крики: «Прочь!», «Народ требует свержения системы!», «Плевать мы хотели!», “Tayyip, winter is coming”[17]17
«Тайип, зима близко» (англ.).
[Закрыть]16. По телевизору и в радиоэфирах должностные лица штампуют извечные клише: всё это сборище чапульджу17, хулиганьё, террористы, повылезавшие неизвестно откуда и наверняка прикормленные иностранными спецслужбами. Среди повстанцев нет подходящего претендента на престол, один только знак вопроса. Восстания поднимают не бедняки, не рабочие, не представители мелкой буржуазии, не массы. Они слишком разнородны, чтобы выдвинуть своего представителя. Нет какой-либо новой революционной единицы, появление которой до сих пор осталось бы незамеченным. Если же речь идёт о «народе», вышедшем на улицу, то это не тот народ, который существовал изначально, – наоборот, это тот народ, которого изначально не было. Не народ провоцирует восстание, а восстание провоцирует появление народа, порождая общий опыт и общее сознание, человеческую материю и язык настоящей жизни, которые ранее были утеряны. Прошедшие революции сулили новую жизнь, современные восстания дают к ней ключи. Объединения каирских экстремистов не были революционными до «революции», они существовали всего лишь как группировки, способные противостоять полиции; и только взяв на себя столь заметную роль во время «революции», они в силу обстоятельств оказались вынуждены поставить перед собой задачи, которые обычно возлагаются на «революционеров».
Это и есть событие: не медийный феномен, сфабрикованный для того, чтобы утопить мятеж в море показных аплодисментов, а реальные встречи, произошедшие на месте. Выглядит это событие далеко не так зрелищно, как «движение» или «революция», но значит оно гораздо больше. Ведь никогда не знаешь, чем может обернуться встреча.
Именно таким образом – на молекулярном уровне, незримо – восстания проникают в жизнь городских кварталов, сообществ, сквотов, «общественных центров», отдельных людей в Бразилии и в Испании, в Чили и в Греции. Не потому, что они запускают некую политическую программу, а потому что они приводят в движение революционное будущее. Ведь всё пережитое оставляет такой яркий след, что, приобретя этот опыт, люди хранят ему верность, держатся вместе, создавая нечто, чего – как теперь становится понятно – им не хватало в прошлой жизни. Если бы после исчезновения с радаров СМИ испанское движение, захватившее площади, не инициировало в кварталах Барселоны и за их пределами целый процесс коллективизации и самоорганизации, то в июне 2014 года не было бы трёхдневных бунтов в предместье Сантс, помешавших сносу сквота «Кан Виес», а затем все жители города не стали бы общими усилиями восстанавливать повреждённое здание. Там была бы лишь горстка сквотеров, протестующих – при полном равнодушии публики – против очередного выселения. Здесь формируется вовсе не зародыш «нового общества», не организация, которая окончательно свергнет одну власть, чтобы утвердить на её месте другую, а коллективная сила, которая согласованно и продуманно обрекает власть на бессилие, постепенно срывая все её планы.
Революционеры – это зачастую те люди, для которых революции оказываются самой большой неожиданностью. Но в современных восстаниях есть что-то, что особенно сбивает их с толку: восстания основываются уже не на политических идеологиях, а на этических истинах. Для любого современного человека сочетание этих двух слов звучит как оксюморон. Устанавливать истину должна наука, не так ли? И наука не имеет никакого отношения к нравственным нормам и прочим условностям. В современном представлении Мир находится по одну сторону пропасти, человек – по другую, а язык позволяет перебросить между ними мост. Нас учили, что истина – это незыблемая точка над бездной, постулат, адекватно описывающий Мир. Мы весьма кстати позабыли о длительном пути к познанию, когда вместе с языком нам открывалась и связь с миром. Язык отнюдь не описывает мир, наоборот, он скорее помогает нам его построить. А потому этические истины – это не истины о Мире, а те истины, опираясь на которые, мы в этом мире живём. Эти истины, положения – высказанные или подразумеваемые – можно почувствовать, но нельзя доказать. Сжатые кулаки, долгий, молчаливый взгляд, устремлённый в глаза мелкого начальника, – вот одна из таких истин, ничуть не уступающая яростному выкрику «восставать нужно всегда». Это те истины, которые связывают каждого из нас с самим собой, с окружающей действительностью и друг с другом. Они приводят нас к настоящей общей жизни, к неразлучному, совместному существованию без оглядки на иллюзорные стены нашего Я. Местное население готово рисковать жизнью ради того, чтобы площадь не превратилась в парковку (как, например, в испанском Гамонале), чтобы парк не вырубили под постройку торгового центра (как Гези в Турции), чтобы лесная зона не стала аэропортом (как в Нотр-Дам-де-Ланд), и это происходит прежде всего потому, что всё, что мы любим, всё, что нам дорого, – люди, места или идеи, – всё это тоже часть нас. Наше самоощущение не сводится к некоему Я, проживающему свой срок в физическом теле, которое обтянуто кожей и снабжено комплектом якобы свойственных ему качеств. Когда громят мир, под ударом оказываемся мы сами.
Как бы парадоксально это ни звучало, но даже если этическая истина выражена через отрицание, одно только слово «Нет!» уже прямиком погружает нас в существование. Что не менее парадоксально, индивид практически перестаёт ощущать собственную индивидуальность, и порой одного самоубийства достаточно для того, чтобы вся конструкция общественной лжи разбилась вдребезги. Поступок Мохаммеда Буазизи, совершившего самосожжение перед мэрией города Сиди-Бузид, служит тому ярким доказательством. Взрывная сила этого действия обусловлена его мощнейшим посылом: «Навязанная нам жизнь не стоит того, чтобы жить», «Мы рождены не для того, чтобы терпеть от полиции такие унижения», «Вы можете превратить нас в ничтожества, но вы никогда не отнимете у нас ту часть независимости, которая дана всем живым» или же «Посмотрите на нас, мы, жалкие людишки, униженные и едва сводящие концы с концами, мы – выше тех уловок, при помощи которых вы оголтело пытаетесь удержать свою немощную власть». Вот что отчётливо звучало в этом поступке. Если телевизионное интервью Ваиля Гонима, записанное после того, как его задержали «службы», так резко развернуло ситуацию в Египте, то это потому, что сквозь его слёзы пробивалась истина, отзываясь в сердцах людей. Так, в первые недели движения Occupy Wall Street[18]18
Захвати Уолл-стрит (англ.).
[Закрыть] – пока вечные управляющие не сколотили пресловутые «рабочие группы» для подготовки решений, за которые собранию затем оставалось лишь голосовать – образцовым выступлением перед полуторатысячной толпой были слова того парня, однажды сказавшего: “Hi! What’s up? My name is Mike. I’m just a gangster from Harlem. I hate my life. Fuck my boss! Fuck my girlfriend! Fuck the cops! I just wanted to say: I’m happy to be here, with you all” («Привет! Как делишки? Меня зовут Майк. Я простой гангстер из Гарлема. Меня задолбала эта жизнь. К чёрту босса! К чёрту подружку! К чёрту ментов! Я просто хотел сказать: я рад, что оказался здесь, вместе со всеми»). И его слова семь раз повторил хор «человеческих рупоров», которые выполняли функцию микрофонов, запрещённых полицией.
Настоящей идеей Occupy Wall Street были вовсе не требования повышения зарплаты, обеспечения достойным жильём или улучшения условий страхования – их только потом налепили на это движение, как наклейки на бегемота – а отвращение к жизни, которую нам навязали. Отвращение к жизни, где все мы одиноки, и в этом одиночестве каждый из нас вынужден зарабатывать себе на жизнь, искать себе жильё, пропитание, возможности саморазвития и лечения. Отвращение к жалкому существованию городского жителя – культивируемое недоверие / утончённый, модный скепсис / поверхностные, мимолётные любовные истории / как следствие – неистовая сексуализация любого знакомства / затем периодический возврат к удобному и безнадёжному разрыву отношений / постоянная рассеянность, и следовательно, невнимание к себе, и следовательно, страх перед самим собой, и следовательно, страх перед окружающими. Коллективная жизнь, которая начала налаживаться в Зукотти-парке – в палатках, на холоде, под дождём, в самом мрачном сквере Манхэттена, оцепленном полицией, была, разумеется, вовсе не всесторонней vita nuova[19]19
новая жизнь (итал.).
[Закрыть], а лишь той точкой, из которой особенно отчётливо видна тоска городского существования. Наконец-то мы вместе начали осознавать наше общее положение, наше поголовное превращение в само-предпринимателей. Это экзистенциальное потрясение выражало самую суть движения Occupy Wall Street, пока в нём ещё чувствовалась свежесть и жизнеспособность.
Задача современных восстаний – в том, чтобы найти желаемую форму жизни, а не в том, чтобы изучить природу довлеющих над ней учреждений. Однако признаться в этом значило бы тотчас же признать этическую несостоятельность Запада. К тому же в таком случае победу, одержанную очередной исламистской партией в результате очередного восстания, нельзя было бы оправдать предполагаемой умственной отсталостью населения. Наоборот, пришлось бы признать, что сила исламистов кроется как раз в том, что их политическая идеология представляет собой прежде всего систему этических предписаний. Иными словами, они успешнее остальных политиков, собственно, потому, что на политику они не опираются. А стало быть, пора перестать жаловаться и бить тревогу каждый раз, когда какой-нибудь прямодушный подросток предпочитает вступить в ряды «джихадистов», а не в отряд офисных работников-самоубийц. И пора по-взрослому смириться с той рожей, с тем нелестным отражением, что смотрит на нас из зеркала.
В 2012 году в Словении, в мирном городке под названием Марибор начались уличные беспорядки, которые впоследствии охватили добрую половину страны. Восстание в такой стране, где царят почти что гельветические нравы, – вот уж что и вправду неожиданно. Но удивительнее всего то, что бунт поднялся, когда обнаружилась прямая зависимость между растущим количеством полицейских радаров в городе и деятельностью некоей частной организации, которая, пользуясь связями в правительстве, прикарманивала почти все штрафы. Разве существует какая-нибудь менее «политическая» предпосылка для восстания, чем дорожные радары? Но разве есть что-либо более этическое, чем негодование человека, когда его обдирают как липку? Это Михаэль Кольхаас18 XXI века. Особое место, которое почти во всех современных протестах занимает тема вездесущей коррупции, свидетельствует о том, что эти протесты в первую очередь этические, и лишь затем политические, или даже о том, что они политические именно постольку, поскольку в них выражено презрение к политике, в том числе и к политике радикального толка. Пока сторонники левых позиций отрицают существование этических истин, компенсируя этот недуг слабой, но удобной моралью, фашисты так и будут выдавать себя за единственную положительную политическую силу, поскольку они – единственные, кому не приходится извиняться за свою жизнь. Они продолжат триумфальное шествие, по-прежнему обращая энергию каждого зарождающегося восстания против самих же повстанцев.
Быть может, здесь также кроется причина провала – иначе никак не объяснимого – всех «движений против политики жёсткой экономии», которые должны были бы при нынешних условиях воспламенить всё вокруг, а вместо этого они по десятому разу беспомощно расплёскиваются по Европе. А всё потому, что вопрос жёстких экономических мер задают не там, где он по-настоящему важен: а именно – на территории резких этических разногласий в отношении того, что значит жить – и жить хорошо. Вкратце дело обстоит так: в странах с протестантской культурой суровая экономия скорее понимается как добродетель, а в большинстве южных европейских стран экономить значит по сути расписаться в полной несостоятельности. Происходящее сейчас объясняется не просто тем, что одни пытаются навязать жёсткую экономию другим, и последние от неё отказываются, а тем, что одни в принципе считают экономию благом, а другие, хоть и не осмеливаясь заявить об этом вслух, в принципе полагают, что экономия – это нищета. Упрямо бороться против мер экономии значит не только усиливать конфликт, но и ко всему прочему рассчитывать на поражение, в глубине души принимая идею жизни, которая вас не устраивает. Незачем выискивать причины нежелания «людей» бросаться в заранее проигранную битву. Скорее нужно понять истинную суть конфликта: некий протестантский идеал счастья – трудолюбие, экономность, строгость, честность, прилежность, умеренность, скромность, сдержанность – навязывается всей Европе. Мерам жёсткой экономии необходимо противопоставить прежде всего другую жизненную модель, которая, например, состоит в том, чтобы делиться, а не экономить, разговаривать, а не молчать, сражаться, а не терпеть, праздновать наши победы, а не избегать их, общаться с окружающими, а не стоять в стороне. Сложно даже представить себе, какую силу набрало движение коренных жителей американского субконтинента, когда они превратили идею buen vivir[20]20
жить хорошо (исп.).
[Закрыть] в политический лозунг. С одной стороны, это чётко очерчивает грани того, за что и против чего идёт борьба; с другой – это позволяет постепенно обнаруживать множество других вариантов «хорошей жизни», вариантов, которые, несмотря на все различия, не противоречат – или, по крайней мере, не должны противоречить – друг другу.
2. Западная риторика сюрпризов не преподносит. Каждый раз, когда массовое восстание приводит к свержению сатрапа, которому ещё вчера кланялись все посольства, то это якобы признак народного «стремления к демократии». Уловка стара, как Афины. И она настолько эффективна, что даже ассамблея движения Occupy Wall Street сочла нужным в ноябре 2011 года предоставить бюджет в 29 000 долларов двум десяткам международных наблюдателей, чтобы те контролировали законность египетских выборов. На что товарищи с площади Тахрир, которым предполагалось таким образом помочь, ответили: «Не для того мы затеяли революцию на улицах Египта, чтобы просто-напросто сформировать парламент. Наша борьба – в которой, как нам казалось, вы с нами заодно, – ставит перед собой гораздо более широкие задачи, нежели учреждение отлаженной парламентской демократии».
Если идёт борьба против тирана, то это вовсе не обязательно борьба за демократию – с таким же успехом можно бороться и за другого тирана, за халифат или же просто из любви к борьбе. Но если и существует что-то, не имеющее никакого отношения к арифметическому закону большинства, так это восстания, победа которых зависит от качественных критериев – от решимости, мужества, уверенности в собственных силах, стратегической смекалки, коллективной энергии. Если выборы уже два века подряд используются как самый популярный (после армии) метод подавления восстания, то это потому, что повстанцев не может быть большинство. Что же до пацифизма, который так естественно сочетается с идеей демократии, то и здесь тоже стоит дать слово нашим соратникам из Каира: «Те, кто утверждает, будто египетская революция была мирной, не видели, каких мучений мы натерпелись от полиции, они не видели сопротивления революционеров, а порой и силы, которую им приходилось применять для защиты оккупированных территорий и пространств. По признанию самого правительства, сожжены 99 полицейских участков, разбиты тысячи полицейских машин, и все офисы правящей партии превратились в пепелище». Восстание не считается ни с какими формальностями, ни с какими демократическими процедурами. Оно, как и любое массовое явление, навязывает собственные правила пользования общественным пространством. Как и любая жёсткая забастовка, оно воплощает политику свершившегося факта. Восстанием правит инициатива, деятельное соучастие, поступок; принятие решений переносится на улицу в напоминание о том, что слово «народный», «популярный» происходит от латинского populor – «громить, разрушать». Восстание – это вся полнота самовыражения: в песнях, на стенах, в речах, в битвах, это отсутствие взвешенного подхода. Наверное, волшебство восстания можно передать так: ликвидировав демократию как проблему, оно тотчас создаёт нечто, выходящее за её пределы.
Безусловно, найдётся немало идеологов, вроде Антонио Негри или Майкла Хардта, которые по итогам последних восстаний делают вывод о том, что «демократическое общество сформируется со дня на день», и которые предлагают «научить нас демократии», предоставив нам «необходимые навыки, умения и знания для того, чтобы мы сами могли собой управлять». По их мнению, как без излишней утончённости обобщает один испанский негрист, «от Тахрира до Пуэрта-дель-Соль, от площади Синтагма до площади Каталонии повсюду раздаётся крик: “Демократия”. Так зовут призрака, который сегодня бродит по миру». И правда, всё бы шло как по маслу, если бы демократическая риторика была лишь неким голосом, доносящимся с небес, и нынешние власти или те, кто метит на их место, пытались бы извне наложить этот голос на каждое восстание. Его бы почтительно слушали, точно проповедь священника, и покатывались бы со смеху. Однако приходится признать, что эта риторика всё же оказывает определённое влияние на умы, сердца и сражения. Свидетельством тому служит нашумевшее движение так называемых «возмущённых». Мы заключаем слово «возмущённые» в кавычки, поскольку в первую неделю оккупации Пуэрта-дель-Соль все сравнивали это движение с захватом площади Тахрир, но ни слова не было сказано о безобидной брошюрке социалиста Стефана Эсселя19, воспевавшего гражданское восстание «сознаний» лишь с тем, чтобы предотвратить настоящее восстание. Лишь после операции по смене дискурса, которую газета El País (тоже связанная с социалистической партией) провела во вторую неделю оккупации, это движение получило своё слезливое прозвище, обеспечившее ему львиную долю резонанса и обозначившее его рамки. Аналогичный случай произошёл и в Греции, когда повстанцы, захватившие площадь Синтагма, в один голос отказались от навязанного СМИ ярлыка “aganaktismenoi”, «возмущённые», и предпочли называться «движением площадей». При фактически принятом нейтралитете «движение площадей» в общем и целом гораздо лучше справлялось со своим многообразием и даже запутанностью, со всеми этими причудливыми собраниями, где марксисты сосуществовали с тибетскими буддистами, а поклонники Сиризы уживались с патриотической буржуазией. Этот впечатляющий манёвр давно известен: сначала нужно символически подчинить себе движения, расхваливая их за то, чем они не являются, а потом в нужный момент поглубже их зарыть. «Никто не лжёт так много, как негодующий», – об этом говорил ещё Ницше20. Он лжёт о своей непричастности к тому, что вызывает его негодование; он делает вид, что не имеет отношения к тому, что его возмущает. Он всюду трезвонит о своём бессилии, чтобы легче было уйти от любой ответственности за ход событий; затем он преобразовывает это бессилие в нравственное чувство, в чувство нравственного превосходства. И этот бедолага думает, что у него есть права. Как разъярённые толпы совершают революции, мы видели, но мы ни разу не видели, чтобы возмущённые массы были способны на что-либо, кроме беспомощных протестов. Буржуазия оскорбляется и мстит; а мелкая буржуазия возмущается и снова прячется в свою конуру.
Лозунгом «движения площадей» стала фраза “¡Democracia real ya!”[21]21
«Реальная демократия сейчас!» (исп.).
[Закрыть] потому, что захват Пуэрта-дель-Соль спровоцировали пятнадцать «хактивистов»21 под конец демонстрации, созванной по инициативе одноименной платформы 15 мая 2011 года – платформы “15М”, как её называют в Испании. И речь здесь шла не о прямой демократии по аналогии с рабочими советами, и даже не о подлинной демократии, как в античности, а о реальной демократии. Неудивительно, что «движение площадей» образовалось в Афинах, в двух шагах от места формальной демократии – Национальной ассамблеи. До той поры мы наивно полагали, что реальная демократия и есть та действующая, существующая с незапамятных времён модель: с заведомо лживыми предвыборными обещаниями, с регистрационными отделами под названием «парламенты» и с утилитарными сделками, рассчитанными на то, чтобы облапошить весь мир в интересах различных лобби. Но для «хактивистов» из “15М” реальность демократии была скорее предательством «реальной демократии». И тот факт, что движение начали киберактивисты, играет не последнюю роль. Призыв к «реальной демократии» значит следующее: с технической точки зрения, все эти ваши выборы раз в пять лет, ваши толстобрюхие депутаты, которые не умеют пользоваться компьютером, ваши заседания, похожие на плохой спектакль или на кучу малу, – всё это безнадёжно устарело. Сегодня в мире новых коммуникационных технологий, Интернета, биометрической идентификации, смартфонов и социальных сетей вы окончательно вышли в тираж. Теперь есть возможность учредить реальную демократию, то есть непрерывно, в реальном времени проводить опрос населения, реально предоставлять на рассмотрение народу каждое принимаемое решение. Один автор уже предсказывал нечто подобное в 1920 году: «Представьте себе, что однажды, благодаря хитроумным изобретениям, каждый сможет выразить своё мнение о политических вопросах в любой момент, не выходя из дома, с помощью приборов, записывающих все эти мнения на некое центральное устройство, которое потом просто покажет результат»22. Он усматривал в этом «доказательство полной приватизации государства и общественной жизни». Именно такой непрерывный опрос подразумевался, пусть и на отдельно взятой площади, когда «возмущённые» молча поднимали и опускали руки, выслушивая каждого следующего оратора. Здесь толпа лишилась даже традиционного права шумно приветствовать или освистывать выступающих.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































